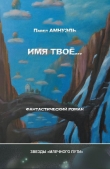Текст книги "Избранное"
Автор книги: Майя Ганина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
С этим она поднялась, оделась, пошла в театр. Спектакль игрался хорошо, хотя во втором действии девчонки опять стали мешать ей: кто-то возобновил «замри» – забава, которой они развлекались еще в Москве, – и вот то одна, то другая «замирали» в самых неподходящих моментах. В предфинальной сцене она даже прервала реплику и сказала спокойно и довольно громко: «Если вы не перестанете, я сейчас уйду! Выкручивайтесь, как хотите!» Они напугались всерьез, спектакль закончили нормально, и снова были аплодисменты, букетики цветов, вызовы – как всегда. К количеству вызовов и к температуре аплодисментов Агриппина была очень чувствительна.
Спектакль кончился в половине десятого, и она отправилась к палаточному городку. Пригорок был пуст, ходили черными тенями какие-то люди, жгли солому подстилок, вытоптанную траву – красный огонь и дым ползли по земле, тянулись к морю. Посередине этого огня и ночи стоял сколоченный из ящиков стол, за столом сидел человек, перед ним была не то банка, не то бутылка. Небо позади было светлое, темно-синее, гляделось как задник – и нелепый силуэт человека за столом среди горящего поля на этом светящемся заднике.
И еще какая-то девица в белых брюках и красном свитере сидела на рюкзаках, больше из палаточников никого не осталось.
Агриппина подошла к большому костру и вдруг увидела своего незнакомца – он разговаривал с человеком в железнодорожной фуражке с красной повязкой на рукаве. Когда Агриппина подошла, незнакомец взглянул на нее удивленно, но она, верная своему решению, посмотрела равнодушно мимо и ушла.
Возвращалась берегом моря, ей казалось, что она слышит позади скрипение гальки под неровным шагом, подмывало остановиться, заговорить – в темноте разговоры легче и искренней: не надо делать лицо. Но шла.
Когда она легла, в дверь постучали, Агриппина открыла и увидела Жорку.
– Маленькая, я на минутку… – сказал он нервно. Прошел в комнату, сел в кресле, потом взял Агриппину за руки.
– Мне страшно, – шепнул он, усмехнувшись, после потер лицо ее ладонями. – Черт те что, я боюсь… Боюсь, слушаю себя все время: здоров? С ума можно сойти… И уже кажется, что живот болит… У нас из гостиницы два часа назад троих увезли с какими-то желудочными симптомами.
– Не обязательно холера. Летом чего только с желудками не творится…
Агриппине стало жаль Жорку: он не был трусом, и если бы надо было взять автомат или нож, где-то в открытую драться, он бы пошел и дрался. Но унизительное ожидание, когда не знаешь, откуда ждать, чего бояться… Она подошла к Жорке, погладила по волосам, он с судорожным вздохом прижался к ней лицом, раздвинул халат – лицо у него было холодное: видно, потому, что он боялся, сосуды сжались. Он был талантлив и испугался, что вдруг умрет нелепо, полупризнанный – так и не состоится его блестящее будущее.
– Я останусь у тебя? – попросил он жалко. – Я не могу один, понимаешь…
7
Ушел Жорка под утро, она додремала до семи, поднялась, долго стояла под холодным душем, растерлась докрасна, накинула снова ночную рубашку: было еще прохладно. Подошла к туалетному столику. Обычно днем она почти не смотрелась в зеркало, не красилась никогда, хватало ежевечерних полуторачасовых бдений. Сейчас она долго сидела, разглядывая себя, потом разобрала волосы на прямой пробор – большелобое синеглазое крутоскулое лицо русской северной крестьянки: мать была из Красавина, что на Северной Двине, работала в сезон лет с десяти и до отъезда в город на знаменитой Красавинской фабрике, где ткали прекрасные, – теперь уже нет таких, – льняные полотна, скатерти, салфетки. Зимой работала, а летом крестьянствовала, как и вся семья, в поле, дома, на усадьбе…
Дочь тоже, видно, крестьянка по сути своей – и вот сейчас, на закате женском, кровь затосковала по родному, по твердой почве под босыми ступнями, по своему племени, по настоящему делу, от которого ломит спину и прочные мозоли на руках. Потому и к безделью своему тяжелому относилась она всю жизнь всерьез, как к жатве, сенокосу, к деревенской страде – без легкости, за это ее не любили. «Надрывает пуп»… И правда, надрывает пуп, пытается переделать человечество…
Она вышла в лоджию. На пляже заметно поредело, если раньше лежали сплошняком, то теперь от одной распростертой фигуры до другой надо было идти. И вдруг она различила неподалеку, под тентом, знакомый силуэт: человек, прихрамывая, направлялся к воде. Последила за ним, как он поплыл, небыстро, некрасиво, но уверенно – потом спустилась в буфет, торопясь, вернулась в номер, надела купальник и халат, схватила полотенце. Уговаривала себя, оправдываясь, что ей тоже надо освежиться после нескладной ночи, сегодня трудный спектакль.
Дошла до тента, крадучись взглянула на то место, где видела своего незнакомца, его там не было. «Ушел…» – Агриппине сразу расхотелось оставаться здесь – с какой-то даже болью сердечной она провела взглядом по загорающим. Он стоял чуть поодаль, наблюдал за ней, поймал, конечно, и ожидание, и разочарование на ее лице, и гримасу боли…
«Пускай… – Агриппина едва сдержала улыбку, ложась на горячие камни. – Все равно это скоро кончится – какая разница: понял, не понял…»
Погрелась, сходила поплавала, снова погрелась, все время спокойно чувствуя, что и он здесь, изредка проверяя косым взглядом, не ушел ли.
– Федор Сергеевич!.. – услыхала вдруг громогласное. – Что же вы в одиночестве? Я думал, он с девушками…
Агриппина приподняла голову, чтобы увидеть, кто говорит и кому адресована эта чушь. Ее незнакомец отозвался:
– Зачем мне девушки днем? Днем я как раз люблю одиночество, золотое одиночество… Ночью – другое дело, ночью я…
«Остановись! – мысленно попросила Агриппина, вспомнив Серенуса Цейтблома: «Замолчи, милый! Уста твои слишком чисты и строги для этого…»
Она не была ханжой, но ему и правда не шли сомнительные речи. Чем он там занимался ночами – его дело, но болтать об этом ему не шло, да он и сам, наверное, понимал, потому что замолчал вовремя.
«Федор… – думала Агриппина. – Когда я увидела Жорку, его тоже звали Федор. Роковое для меня имя… И как говорит хорошо, «о» катает, как мама-покойница, родной диалект. Северный, наш, видно, дяденька…»
Она лежала, закрыв глаза, и вспоминала его лицо: бледноватое – загар по нездоровью или еще почему не приставал к нему, желваки возле строгих губ… Что ж, спасибо ему, что это снова случилось с ней: желание думать о ком-то, желание видеть кого-то, горькая прекрасная зависимость от кого-то… А большего и не нужно, большего и не может быть в этой ситуации: не те они люди…
К двум часам она пришла в театр на репетицию: завтра в афише был ануевский «Жаворонок», режиссер хотел прогнать и пособрать старый спектакль: его подразболтали. Агриппина играла Жанну, она очень любила эту роль.
Начинали уже прогон третьей картины, когда заявилась Ольга, игравшая Агнессу, любовницу Карла. Карла играл Жорка.
– Я в консультации была! – огрызнулась она на раздраженное замечание главрежа, пояснила зло: – Я беременна. – И, перекрывая голосом довольный хохоток, прокатившийся по актерам, продолжила: – Врачиха сказала точно: пять случаев холеры, завтра город закроют на карантин.
Все замолчали мгновенно: ходила где-то далеко, кружила, приближаясь, удаляясь, дразнила, пугала – и вот наконец здесь, рядом… Страшновато…
Жорка бросил бильбоке, подошел к краю сцены, хотел спрыгнуть, потом сел, свесив ноги, опершись растопыренными ладонями об пол.
– Надо уезжать сегодня, – сказал он. – Сорок пять дней карантина, свихнешься, ожидая, пока скрутит самого. Я, например, и без билета уеду, хоть на подножке, – Жорка сделал рукой один из своих великолепных нервно-растерянных жестов, и Агриппина поняла, что он не шутит.
– Пусть администрация позаботится, – крикнул Юра Васильев.
– Куда же ехать? – спросил самого себя главреж. – Гастроли ломаются… Будем гореть ясным огнем с финансами. Зарплату не из чего будет платить.
– Черт с ней, с зарплатой! – усмехнулся Жорка. – Жизнь, Борис Николаевич, дороже всяких денег…
Все снова начали судить и рядить, кто-то побежал за администратором и за директором, кто-то принялся гадать с главрежем, нельзя ли будет договориться, продолжить гастроли в Пензе: туда намеревались ехать зимой, потом администрации удалось договориться на гастроли в южном городе, у моря.
Агриппина поднялась, заговорила зло и быстро о том, что ей непонятно, почему теперь молодежь так по-животному страшится смерти, хотя смертью тут еще и не пахнет и насчет холеры наверняка ничего не известно. Ольга просто паникерша.
– Мы, по-моему, ровесники, Борис Николаевич? Помните осень сорок первого в Москве – тиф, дистрофия, бомбежки? Тогда именно что рядышком ходила смерть, кто же о ней думал? Но я не о том, в конце концов. Как же можно нам сейчас уехать? Если холера – нас и так не выпустят, а если не холера, а просто паника? Все из города не уедут, чем же людям заняться? На гастролях – мы да ансамбль гитаристов из Ленинграда.
– Замолчи! – выкрикнул Жорка. – Если у тебя есть желание погибнуть на кресте…
– С крестом в огне! – поправил Юра. – Она ведь Жанна д’Арк.
– Ерунду не болтайте, – отмахнулась Агриппина. – Дело серьезное, вам меня сегодня не завести!
Она объясняла, втолковывала главрежу и директору, что, например, во время войны фронтовые листки читали даже те солдаты, которые вообще никогда в жизни ничего не читали. Во время беды людям необходимо искусство – оно помогает думать, собирает, дает веру.
– Ты говорил, – кричала она Жорке, – мы клоуны для потехи… Может быть, в мирные часы некоторые зрители и воспринимают нас так. Потому, – я объясняю только этим, – вы позволяете себе во время спектаклей разные штучки, за которые следовало бы дисквалифицировать и в шею гнать из театра! Но сейчас мы нужны людям. Это не высокие слова, – отмахнулась она от ехидной реплики Юры, – это правда. Для чего ты пошел в актеры?
Если бы он знал, для чего он пошел в актеры!..
Она добилась своего. Администрация и худсовет решили, что театр останется в городе. Тем более действительно – куда теперь поедешь?
И опять был спектакль. Народу собралось меньше, чем обычно, зал сидел возбужденный, нервный, слушали плохо, хотя ребята, то ли прочувствовав, то ли напугавшись, работали всерьез и хорошо. «Мы нужны им? – сказал в антракте Жорка. – Фантазия твоя! Сейчас каждому до себя… Не слушают совсем, видишь?» – «Вчера тебе тоже было до себя, – сказала Агриппина, – и однако ты пришел ко мне. Они к нам за тем же идут: чтобы не быть наедине с бедой, за теплом чужого локтя. Затем, чтобы сообразить, как поступать, что делать. И потом, ты просто плохо работаешь, раз не слушают. Веди…»
Второй акт прошел лучше, а принимали неожиданно так, как не принимали их здесь ни разу. Стояли, не уходили, хлопали. Просто они были слишком взволнованы, чтобы сидеть тихо.
8
Выйдя из театра, Агриппина отправилась на вокзал. Ольга сказала, что ночью должны уйти три дополнительных поезда.
Шла пешком, радуясь, что она в мягких туфлях на низком: не стучали каблуки, шла она по тихому городу тихая, как тень. Прохожих попадалось мало, занавешенные окна светили неярко, в стеклянном освещенном ящике кафе сидели три одиноких посетителя, пили что-то. Агриппина вспомнила, что Жорка сказал: в городе исчезло всякое сухое вино, даже сухое шампанское. Прошел слух, что холерный вибрион погибает в кислой среде, что в древности холеру даже лечили сухим вином. Хотя, с другой стороны, во время эпидемии 1935 года итальянцы вряд ли бросили пить свое кислое кьянти, но это им тогда мало помогло.
Навстречу ей попались дружинники с красными повязками, подозрительно осмотрели ее, спросили:
– Девушка, вы где живете?
– В гостинице «Берег»! – весело откликнулась Агриппина. Она чувствовала какое-то странное возбуждение, нервный подъем сил.
Патрули прошли дальше.
Городок ночью казался уютным, старым: дома из желтого ракушечника с черными высокими старинными дверями, булыжные мостовые, тротуары из каменных просевших плит, акации вдоль тротуаров, на ветках акаций среди кружевных листьев шуршали связки огромных, как черви, стручков, под ногами тоже хрустели эти стручки. Агриппина представила розовые, приторно-душистые цветы, которые были не так давно на месте стручков, и пожалела, что не застала цветение. Она очень любила запах акаций.
За полупрозрачными шторами в домах шла какая-то своя, сепаратная жизнь, на улицу выливались тихие голоса. Агриппина снова вспомнила войну, и чувство бесполезности, ненужности непрозрачной скорлупы, защищающей жемчужину недвижимости – перед лицом безносой никто не заботился о шкафах и тряпках: тряпки быстро пораспродали на рынке, а шкафы и стулья прополыхали в буржуйках.
«Почему я все время вспоминаю войну? – удивилась вдруг Агриппина. – Яркое, чистое и светлое в моей жизни – юность, а она пришлась на войну… Потом уже была суета, суета, щелчки по носу и усталость… Вот я и пытаюсь связать эту маленькую беду с той, большой…»
Она вышла на вокзальную улицу и отсюда, с горы, увидела площадь перед вокзалом. Площадь вся была запружена народом, и сюда, в тихую улицу, шел неясный постоянный шум, как с моря. Светили неоновые фонари – в белом модерновом свете внизу все колыхалось, перетекало, чернело перепадами человеческих озабоченных, снующих туда и сюда тел.
Агриппина вошла в суету, не замеченная, не отмеченная никем, потерявшаяся сразу меж многими: было не время для любопытных взглядов. Она слышала запах горячего пота, слышала непраздное электричество, которое излучали озабоченные тела, ее ничто не раздражало, все было понятно, все напоминало другое, давнее.
Пробившись на платформу, она встала у белой сверкающей стены, осмотрелась. По всей платформе, сколько видел глаз, сидели на вещах люди, одетые не в яркое, курортное, а в серое, немаркое, потеплей: вечер был прохладный. Ребятишки, намаявшись, спали, некоторые, постарше, толклись меж сидящими, но никто не раздражался. К Агриппине подошел мальчик лет шести и вдруг взял ее за руку, за браслет.
– Ого! Интересно… Что это?
– Браслет, – объяснила Агриппина. – Кольцо такое.
– А, – мальчик отошел.
Неподалеку сидели молодые мужчина и женщина, женщина держала раскрытую пудреницу, а мужчина, глядя в нее, брился опасной бритвой. И Агриппина снова не удивилась, только запоминала обмякшие терпеливые позы сидящих и выпрямленную узкую спину женщины, державшей зеркальце. И то, как она касалась изредка пальцем щеки мужа или любовника: «– Коля, вот здесь… еще вот здесь…»
Компания парней и девчат в штормовках и кедах, с гитарами, сидевших на рюкзаках. Один из парней, поймав взгляд Агриппины, улыбнулся:
– Иди к нам, Рыженькая, поедем вместе!
Второй, оглянувшись, спросил:
– У тебя плацкарт? У нас общий. А где твои вещи?
– Я без вещей, – ответно улыбнулась Агриппина.
Рядом, на крышке дорогого чемодана, проминая ее, сидела коротко стриженная женщина с немолодым лицом. Один мальчик спал у нее на коленях – она устало распустила руки, мальчик лежал неудобно вывернувшись, раскинув коленки, жарко дышал приоткрытым ртом. Второй мальчик, постарше, спал стоя на коленях и уткнувшись лицом в крышку чемодана.
Бесшумно пополз по рельсам состав, люди зашевелились, стали подниматься. Агриппина заметила, что у многих вещи были связаны между собой полотенцем или тряпкой, чтобы можно было чемодан закинуть за спину, а сетку или сумку повесить на грудь – тоже военных лет удобство, освобождающее руки для других вещей, для детских ручек.
– Рыженькая! – снова окликнули ее из туристской компании. – Иди-ка к нам, а то стопчут тебя.
Она машинально двинулась к ним, но ее оттеснил поток людей. Состав остановился, наконец открылись двери, началась посадка. Давки, однако, не было, люди с мрачным терпением следовали друг за дружкой, растворялись в черноте входа. За окнами вагонов закачались тени, замелькали лица: севшие высматривали оставшихся.
И вдруг Агриппина увидела своего незнакомца. Он стоял позади толпы, устремившейся в один из вагонов, стоял вполоборота к ней и не видел ее. На нем был темный костюм, сидевший никак, на руке висел плащ.
Агриппина улыбнулась, слыша, что защемило сердце. Кто он ей? Никто. А вот уезжает – и жаль, словно гибнет что-то, существующее уже.
Толпа перед вагоном рассасывалась, незнакомец поднял чемодан и пошел ко входу, протягивая проводнику билет. Оглянулся в дверях и заметил Агриппину. По лицу его прошла гримаса не то тревоги, не то тоже боли, он дернулся вернуться, но сзади поджимали, он покачал головой, улыбнулся и провел ладонью по лицу, словно разгладил желваки возле губ. Агриппина тоже улыбнулась ему глазами и кивнула. Поискала, куда он прошел, но в окнах вагона его не было видно.
Поезд тронулся. Агриппина не стала дожидаться, пока он уйдет, вышла на вокзальную площадь. Здесь еще толклось много народу: следующий поезд должен был прибыть в два часа ночи. Миновав площадь, Агриппина побрела тихими темными улицами к гостинице. Похоже было, что в городе больше никого не осталось. Она шла и думала о том, что хорошо, что она добудет здесь до конца, увидит, как будут развиваться события, переживет всё, как все. Думала обо всем она озабоченно, как о работе, как о трудной, но желанной роли, которую ей предстоит сыграть.
1970
Желтый берег
1
Поросшие лесом горы подступали близко к морю, но короткий прибой достигал недалеко, пройти было можно. Михаил шел быстрым пружинистым шагом, чуть выворачивая внутрь колени, заставляя себя идти быстро. Хотя чувствовал себя все еще слабовато и ему хотелось лечь и лежать, подставляя лучам изголодавшееся по солнцу тело – в нем жила иллюзия драгоценности отпущенного ему времени: даже на отдыхе он должен был изнурять себя подобием какого-то действия.
За выступом скалы он увидел художника с дочкой, своих соседей по дачке. Девочка в одних трусиках играла у моря, копая в камешках, художник, раздетый до пояса, в джинсах, закатанных до колен, очевидно, писал море.
Михаил поздоровался и хотел было пройти, но художник протянул «Кент», общительно улыбнулся, попросив глазами контакта. Михаил поинтересовался погодой, которую застал тут художник, приехавший раньше.
На вид художнику было лет тридцать, оказалось – тридцать пять. Был он высок, с хорошей атлетической фигурой, украшенной связками мышц, с вьющимися, не коротко стриженными волосами – супермен из зарубежного кинобоевика. Михаил знал, что если встретит его после отпуска в Москве на улице, то не узнает: у него была плохая память на такие лица.
Девочка обернулась на разговор и задумчиво побрела, к ним. Было ей лет шесть, хотя сначала, увидев ее с отцом возле коттеджа, Михаил подумал, что года четыре. Худенькая, с нежными, бархатисто-белыми плечиками и ребрышками, просвечивающими сквозь голубоватую кожу, лицо у ней было поразительной красоты – такие он видел когда-то в альбоме покойной матери на старых открытках, нежно очерченное, высоколобое, с крохотным ярким ртом и носиком, капризно приподнимающим верхнюю губу, с темными, как у отца, кудрями.
Художник сказал, что по утрам он обливает Карину холодной водой и что вообще он за спартанское воспитание. Михаил гмыкнул неопределенно, глядя на худенькое тельце, ежащееся в потоке холодного воздуха с моря, подумал, что художник, видимо, тщится уберечь девочку от судьбы матери (вчера вечером сосед предупредил его, что жена умерла полгода назад от лейкемии, и спрашивать девочку, где мама, не надо), но такого рода усилия, в общем, напрасны, ибо подобные болезни прихотливо поражают и слабых и сильных. Еще он подумал, что, если бы Карина была его дочерью и если бы ему совсем нечего было делать, он растил бы ее в неге и доступной роскоши, потакая самым малейшим капризам, потому что такая красота должна быть хрупкой и избалованной. Ему представилось, как художник вырастит из девочки нечто среднеполое, мощномышцее, загорелое и здоровое духом, и ему сделалось скучно. Он был не против спортивных деловых женщин, его жена была именно такой. Но, глядя на Карину, он вдруг вспомнил, что когда-то существовали другие.
Кивнув, он двинулся дальше: ему жаль было тратить время на пустые разговоры, хотя никакие великие дела его не ждали. Впрочем, он считал, что человеку полезней находиться в одиночестве – гигиеническая мера, способствующая изощренности мысли.
Карина вдруг догнала его.
– Ты куда идешь? – спросила она. – Гулять? Я пойду с тобой, ладно?
Михаил замедлил с ответом, оглянувшись на художника, снова взявшегося за свои кисти, надеясь, что отец, естественно, запретит дочери идти куда-то с малознакомым человеком. Тот пожал плечами и вытянул губы трубочкой – очевидно, это должно было означать: если вам охота – берите. И кинул дочке вязаную кофточку, которую та с удовольствием надела.
Михаил – делать нечего – взял девочку за руку и, укоротив шаг, двинулся дальше по берегу. Особенного недовольства он, правда, не испытывал, потому что девочка бежала рядом с ним молча, словно просто хотела уйти от отца. Вдруг она выдернула руку и, присев на корточки, выхватила из прибойной волны камень.
– Гляди, сердолик. – Она протянула раскрытую ладонь. – Папа из таких делает браслет. Или кулон.
– Зачем? – глупо спросил Михаил, потому что мыслью находился сейчас в некой далекой неконкретной неопределенности, и, взяв камень, поглядел на свет, чтобы вернуться к конкретному.
– Маме делал. – Девочка приподняла плечики и улыбнулась взросло. – Мама умерла, – добавила она, закинув голову и поглядев Михаилу в лицо. – Курила много…
– Я слышал. – Михаил, ухватив запястье девочки, двинулся дальше. Его снова резанул этот прямолинейный воспитательный комплекс, наивное логическое упражнение: «Мама много курила – мама умерла, все, кто много курит, – умрут». Сведение индивидуума, неповторимой личности, к одноклеточному члену одноклеточного сообщества.
– Я тоже много курю, – сообщил он истину, должную отпечататься в детском мозгу и подточить фундамент возводимой железобетонной схемы.
– Ты тоже умрешь, – полуспросила девочка, на что Михаил твердо и категорично ответил «нет».
Истина для него в данном случае была не важна. Важно было четкое ощущение собственного бессмертия, заполнившее его в эту минуту, и желание утвердить существо, идущее рядом, в том, во что верит каждый нормальный ребенок – в бесконечность своего существования на земле.
– И ты не умрешь.
Девочка засияла снизу глазами:
– Ну да. Я знаю…
Михаил заметил стежку, бегущую в гору. Может, она вела куда-то к жилью, но, скорее всего, это была просто скотская тропа: рядом валялся овечий помет и сухие коровьи лепешки.
– Полезли? – предложил он. – Посмотрим, что там?
Тропа была еще сыроватой после долгих дождей, под подошвой катались камешки, подавался верхний отмытый слей. Михаил шел, толкая перед собой под задик Карину. Последний раз он был в экспедиции на Северных Курилах лет семь назад, потом откладывал поездку с года на год: то жена тяжело болела, то что-то, требующее его непосредственного участия, совершалось в институте, то предстояла подготовка к очередному конгрессу. Сейчас он шел и радовался самодовольно, что идет легко, привычно: ноги вспомнили многие километры вверх и вниз, от вулкана к вулкану, мышцы вспомнили.
Михаил и Карина поднялись на округлую просторную вершину, поросшую уже сквозь прошлогоднюю пожухлость трефовыми маленькими листочками белого клевера, спорышом и гусиной лапкой. Тропа вела вниз, в неглубокую лощину, пересекала ее и терялась в зарослях рододендрона, дикой груши и шиповника.
– Гляди-ка, – вдруг сказала Карина спокойно. – Это кто?
Поглядев на противоположный пологий бугор, Михаил увидел стадо странных, темных с пятнами, некрупных свиней. Они мчались по зеленому склону, направляясь явно к ним. Впереди бежал хряк покрупнее, за ним горбатая черная свинья, потом несколько свиней помельче и совсем небольшие черные поросята.
Михаил, вдруг облившись холодным потом от подмышек до икр, вспомнил, что местные жители, по религиозной древней традиции, свиней вроде бы не держат, что это, скорей всего, дикие кабаны. С нравом кабанов он был знаком по таежным экспедициям еще с университетских времен. Он схватил на руки Карину, соображая, что делать. Бежать было бесполезно, тем более что ноги у него вдруг отяжелели от страха. Деревьев поблизости не было.
Кабанье стадо в полном молчании катилось уже вверх по бугру, на котором стоял Михаил. Вдруг откуда-то из-за спины выскочила черная собака и, залаяв, бросилась вниз, отделила маленького кабанчика и погнала. Стадо повернуло за ней.
Михаил, ощущая, как начинают проступать в сознании шумы и запахи мира, еще некоторое время прижимал Карину к себе, а она, полуотвернувшись от опасности, царственно и спокойно поникнув, повторяла изгибом хрупких ребрышек его грудь и плечо. Потом он поставил ее на землю и быстро повел по тропе к лесу, удивленно запомнив неизведанное: слабое, еще пахнущее смесью молока и нежной не ороговевшей кожи, отдано тебе под защиту, ты над ним властен, но и оно пронзительно, обезоруживающе, непонятным образом властно над тобой.
– Это кто был? – спросила Карина.
– Свиньи.
– Зачем они к нам бежали?
– Поиграть.
– Ты испугался?
Михаил не ответил.
2
Они вошли в лес. По обе стороны сырой узкой дороги были заросли рододендронов, покрытых жирными неопрятными цветами. Над землей висело душное тепло, но когда Михаил поднял руку, чтобы сломить ветку, то дотронулся до струи холодного воздуха, текущего с моря. Он давно снял свитер и нес его в руке, нес также кофточку Карины.
– Отчего у тебя это? – спросила Карина, когда он снял свитер. Под лопаткой у него был глубокий, с рубцами на полспины, хорошо заметный шрам.
– Осколком мины жахнуло.
– На войне?
– Нет, на полях с мальчишками лазил, на мину нарвался.
– А…
Михаил старался не сосредоточиваться на тех, давних воспоминаниях. Впятером они, голодные дети весны сорок второго года, уехав со старшими искать на полях под Москвой невыкопанную перезимовавшую морковь, картошку или капустные листья, нарвались на мину. Он был самый тяжелый, к тому же никто не дежурил в госпитале возле его постели, обливаясь слезами. Он выжил, остальные четверо мальчишек умерли. Он запомнил фразу, сказанную мачехой соседкам: «Господи, паршивые-то щенки живучей холеных!..» Забравшись после похорон на чердак, он чувствовал себя как бы виновным перед соседками, матерями погибших, в сто раз более никому не нужным, чем прежде. Тогда, кажется, он первый раз подумал: «Ладно, я вам всем докажу, вы еще увидите!..»
– Сорви мне вон тот цветок, – попросила Карина, указав на куст желтого рододендрона.
В Москве еще только очищались улицы от остатков снега, просыпались почки на деревьях в садиках и скверах – здесь все буйно, жирно цвело, одни только дубы чернели кривыми каменными стволами на светло-шоколадной подстилке из прошлогодней осыпи, но и у них суставы и окончания ветвей набухли красными почками. Ярко, жирно светило солнце. Однако Михаил не слышал в себе радости от этой яркости, жирной щедрости красок – какая-то все же была в нем тяжесть, придавливала, словно шел кто-то следом невидимый, не имеющий представляемой плоти.
Тропа вывела их на зеленый холм, посредине которого стояла дикая яблоня. Михаил определил ее по форме кроны: ни листьев, ни цветов на яблоне не было, хотя дерево было крепкое и живое.
Далеко было видно с этого высокого холма. Видны были дальние горы, почти до подножий еще закрытые сверкающим снегом. И более близкие горы, черные оттого, что не проснулась трава и вершины деревьев. И зеленые холмы было видно, и розовые квадраты полей в долине, и красные кофты женщин на дорогах, и темные пиджаки мужчин, и белые двухэтажные дома посреди зеленых лужаек.
3
Пять дней бушевал шторм и лил дождь – обмывался молодой месяц. Береговую кромку закрыл прибой, в горах развезло тропки. В парке дорожки были заасфальтированы, и Михаил петлял между финскими домиками, закрытыми сеткой моросящего дождя, пытался угадать ритм, согласно которому был задуман парк, посажены все эти секвойи, пинии, ливанские кедры, кипарисы – несимметрично, далеко друг от друга, с аскетичной торжественностью, словно на военном кладбище. Изредка светились в этом траурном сумраке розовые, осыпанные цветами магнолии.
Парк некогда принадлежал русскому князю, занимавшемуся виноделием, был у него тут завод, подвалы, роскошный барский дом, псарня и охота. Но все давно разрушилось, от дома остались только зеленые кирпичи фундамента, утонувшие в перегнойной земле. И еще собаки с явными следами то ли сеттериной, то ли иной благородной крови, бегавшие по деревне.
Михаил с некоторым высокомерием удивлялся обитателям пансионата, с завидной одинаковостью предпочитающим всем возможным развлечениям шумные выпивки в прокуренных комнатах. Даже художник, принеся под полой плаща трехлитровую банку местного «черного» вина, изготовляемого из винограда «изабелла», звал скоротать день, но Михаил отказался, сославшись на то, что все еще напряжены нервы и он не заснет. На самом деле он просто пока не стремился к общению, не хотел никому давать прав на себя, не желал, чтобы кто-то мог запросто входить в его комнату, нарушая его одиночество.
Тем не менее какая-то женщина постучала к нему, как бы по ошибке, долго извинялась, обшаривая комнату глазами, ожидая, наверное, что он предложит ей сесть, даже спросила, не скучно ли ему одному в такую погоду. На что Михаил, усмехнувшись, ответил «нет» и, вежливо надвинувшись на посетительницу, дал ей понять, что ему необходимо закрыть дверь.
Михаил сам иногда удивлялся, что в нем почти отсутствует то, о чем столько он слышал вокруг, начиная от раннего мальчишества и по сей день. Женился он в двадцать пять лет, жена ему нравилась, первые годы он был даже, наверное, в нее влюблен – ревновал, переживал, но потом это прошло; впрочем, привязанность, родство какое-то осталось. Больше он никогда никого не любил, переключив чувства на другое, хотя и на работе и в экспедиции его окружали женщины, оказывавшие ему, случалось, знаки внимания.
Дважды, довольно давно, подогреваемый насмешками приятелей, он пытался все-таки постигнуть на практике, что такое «связь», но быстро понял, что его это вовсе не увлекает. Друзья бурно удивлялись, Михаил тоже стал склонен думать, что есть в нем какая-то ненормальность, недостаток чего-то. Однако несколько лет назад ему попался толстенный роман; начав его читать через силу, он втянулся, ему открылся великий смысл целомудрия, смиренного ожидания: придет час, и можно будет не растраченные по мелочи силы истово отдать Делу.
4
Карина простудилась и из комнаты не выходила, он слышал через стенку серьезный звонкий голосок, вопрошающий о чем-то. Однажды с террасы он увидел в раскрытую дверь, что она сидит на кровати в рубашке с длинными рукавами, под спину подложены подушки, ноги закутаны одеялом.