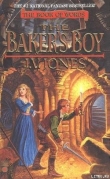Текст книги "Антология осетинской прозы"
Автор книги: Коста Хетагуров
Соавторы: Дзахо Гатуев,Максим Цагараев,Анатолий Дзантиев,Сека Гадиев,Мелитон Габулов,Умар Богазов,Чермен Беджызаты,Ашах Токаев,Сергей Марзойты,Илас Арнигон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 42 страниц)
Гриш Бицоев
ТЕПЛО ОЧАГА
Повесть [59]59
Печатается с сокращениями
[Закрыть]
1
Когда начали рыть окоп, Госка сказала:
– Сами себе могилы роем… И закапывать не придется, бомба засыпет.
– Страшное время, – вздохнула Маро. – Прячемся в землю, поближе к покойникам.
– А что нам еще остается? – щупая острием лопаты землю под тутовым деревом, проговорил Дзиппа. Ему хотелось и убежище устроить в тени, под густой кроной, и корни тутовника не повредить. – Мы – дети земли. Она нас кормит, она и от смерти убережет. – Он улыбнулся. – Правильно я говорю, Серафима?
Слова женщин были так же безрадостны, как и вчера, когда они копали убежище во дворе Маро. Особенно у Госка. Все знают, что война не один еще светлый очаг погасит, но зачем твердить об этом все время? Речи Маро не так угнетали Серафиму, потому что в них были и злость и угроза. В голосе же Госка звучали только слезы.
– Когда мы строили на берегу Терека оборонительный рубеж, полковник сказал нам, что каждый трудоспособный человек сейчас – солдат, – решила подбодрить женщин Серафима. – А солдат выкапывает столько окопов, сколько раз ему приходится целиться в неприятеля…
Дзиппа наметил границы убежища и первым взялся за работу.
– Солдаты бывают и рядовые и генералы, – улыбнулся он. – Форма рядового была бы к лицу Госка. Может, и мне выдали бы какой-нибудь поношенный мундир. Но тебе, Серафима, и Маро обязательно присвоили бы звание повыше. Тебе – сержанта, а Маро потянет, пожалуй, на старшину…
– Уберегут ли нас эти ямы? – сомневалась Госка. – А если бомба свалится прямо сюда, на нашу голову?
– Бомбу с глазами пока еще не придумали, – сказала Маро, – а простая не различит твою голову среди других!
– Окоп накроем пружинной сеткой от кровати, и бомбы будут отскакивать в сторону, – улыбнулся Дзиппа. – Легкие отскочат, а тяжелые они на нас тратить не станут. Не такие уж они богатые!
Когда поговорили о бомбах, Госка ушла в дом, чтобы приготовить обед. В яме теперь стало тесно, и копали по очереди.
Серафима устала, руки ее онемели, на пальцах вздулись волдыри, но она не смела остановиться, отдохнуть хоть немного, потому что Маро должна была отдыхать раньше нее.
Кто сосчитает, сколько раз Серафима вонзила лопату в землю, сколько земли выбросила? Она, наверное, и шагов за всю свою жизнь столько не сделала.
Отяжелела земля, отяжелела… Потому, видно, что горем она полна, кровью напитана. Под Пятигорском ее даже кирка не брала, так она промерзла, но все равно – отогревали кострами и рыли. Руки коченели, холод, казалось, уже не умещался в теле, даже дыхание отдавало стужей, но люди работали, и Серафима работала…
Земля Дзауджикау [60]60
Старое название города Орджоникидзе.
[Закрыть]оказалась не легче, нет, она была еще тяжелее, словно тяжесть гор сошла в нее.
Пламя войны коснулось и гор Осетии. Дальше враг не должен был пройти, и люди рыли окопы днем и в темную ночь. Рыли на берегу Терека, Ирафа, рыли возле родных сел.
2
Война была еще далеко, но грохот ее уже докатился до села. Рано утром женщины, ходившие за водой, видели, как, выйдя из лесу, шли по дороге солдаты.
Серафима застыла на месте с полными ведрами в руках. У каждого солдата висел за спиной вещмешок, скрученная в хомут шинель, торчал над плечом штык, и все это делало их неразличимо похожими друг на друга. Вот они приблизились настолько, что можно было увидеть, как кто-то из них хромает, у кого-то обвязана белым голова. Серафима почувствовала, как часто забилось ее сердце. Каждый из этих солдат мог броситься к ней, придерживая рукой приклад винтовки: каждый из них мог оказаться ее отцом или братом, это мог быть Канамат или сосед Кайти…
Солдаты ушли в сторону мельницы, и Серафима, проводив их взглядом, двинулась к селу.
Сколько деревьев было в том лесу, столько штыков мелькнуло перед глазами девушки, и каждый солдат, глядя на село, думал о родном доме, о домашней еде, о сухих портянках, о сладком, беззаботном, как в детстве, сне…
Войдя во двор, Серафима услышала знакомое гудение и, не глядя в небо, поняла, что это снова тот самолет, похожий на оконную раму. «Рама» оказалась выше того места, где Госка, приставив ладонь козырьком ко лбу, обычно замечала ястреба, готового обрушиться на ее цыплят. Полет «рамы» был спокойным и уверенным. Она и до этого не раз появлялась над селом, кружила, сколько хотела, и люди говорили: «Она видит дальше орла и все, что видит, фотографирует, не спрячешься от нее ни под водой, ни под землей».
Перед самым носом «рамы» возникло, распустилось, как одуванчик, белое облачко, и в тот же миг Серафима услышала глухой взрыв. Одуванчики один за другим вырастали возле самолета, но тот летел себе целый и невредимый.
Серафима подметала в комбатах, и веник едва не валился из ее рук. Девушка думала о самолете, об этой «раме». Каждый раз она уходит невредимой, и все знают – теперь жди беды.
Прямо над их домом небо раскололось на две половины. Черный «мессершмитт» вынырнул из облаков, и нельзя было остановить его, как нельзя остановить удар ножом, направленный в спину. Серафиме не хватало смелости взглянуть на жалкое небо, – свастику, похожую на паука, она представляла себе даже с закрытыми глазами. «Мессершмитт» пролетел так низко, что чуть было не коснулся верхушек тополей на соседней улице. Казалось, самолет оставил за собой не пронзительный свист, а висящий вниз острием нож.
Серафима сама не заметила, как оказалась возле матери.
В глазах Госка было такое спокойствие, будто о войне она и слыхом не слыхала. Но Серафиму не обманешь, – каждую ночь мать молится о муже и о сыне.
– Что ты стоишь?! Бежим в окоп! – задыхаясь, крикнула девушка.
– Солдат в селе уже нет, – сказала Госка, – ушли солдаты… А мы на что ему сдались?
– А если он начнет бомбить?
– Кого же он будет бомбить? – усмехнулась Госка. – У нас тут кроме чапельника ничего нет.
Где-то за селом, над обугленными стенами разрушенной фермы снова возник зловещий гул. Время побежало, выплеснулось, как вода из опрокинутой чаши. Надо было что-то делать…
Серафима схватила мать за руку и не отпускала ее.
– Опять летит! Бежим! Я без тебя не пойду!
Небо лопнуло, разлетелось железными осколками…
Серафима потащила мать в убежище.
Теперь между ними и искалеченным небом было еще немного пространства. Серафима села, прислонившись спиной к стене и руками упираясь в пол. Земля приятно холодила руки, успокаивала. Девушка заметила, что сидит на соломе, и вспоминала, как Дзиппа принес солому из сарая и сказал:
– Это вам вместо дивана…
Солома таила в себе едва ощутимую влагу и тепло, и страх Серафимы понемногу проходил.
– О господи всеславный! – услышала она голос матери. – Возьми под свое крыло и защити тобою созданный народ! Услышь слова тех, кто честно жил на этой земле и не успел насытиться жизнью…
Слова будто склеивали трещины раненого неба. Слова вспыхивали искрами надежды, доносили до усталого солдата улыбку любимой девушки, слова становились броней для идущего в атаку, броней, которую пуля не берет…
Девушке не верилось, что будущее возможно, и мыслями она бежала в прошлое. Там была радость, бескрайний мир. Там они оставила тропы, по которым не успела набегаться вдоволь.
…Играли в прятки. Соседские мальчишки и девчонки. Чем больше играющих, тем интересней игра. Каждое место, где кто-то прячется, – новая загадка. Пройти мимо этого места, значит, быть обманутым. Сколько тайников найдешь, столько раз выиграешь. Все уже водили – кто два раза, кто три. Кайти же и Серафиме пока еще не пришлось жмуриться, считать громко, с паузами до ста, закрыв лицо кепкой, пропахшей потом. Мальчишки и девчонки старались изо всех сил, чтобы Кайти и Серафима проиграли.
Все давно уже привыкли видеть их вместе, как привыкают к двум колесам одной телеги.
Серафима ничего не знала и не понимала, пока не услышала однажды:
– Если бы не Кайти, рыбы Ирафа давно бы съели тебя…
Эти слова ей сказала мать в присутствии Кайти, как бы сообщая самую приятную весть. Эти слова не раз еще говорили ей, и она привыкла к ним, как к звездам, которые зажигались по вечерам. Уалинка, встречая Серафиму, всегда вспоминала, как сын ее спас на реке девочку. Кайти стал самой светлой мечтой Серафимы. Кайти – дерево, Серафима – его тень…
– Такое место я нашел, что и за год нас не найдут, – шептал он девочке. Мальчик пылал огнем, ему хотелось скорее показать свой тайник. – Беги за мной и не оглядывайся…
Тот, чья очередь была жмуриться, считал во весь голос:
– Раз! Два! Три!..
Слова эти, словно камни величиной с кулак, летели, подгоняли прятавшихся.
Кайти бежал к дому Маро. Возле плетня он остановился, глянул назад:
– Быстрее!
– А если Маро застанет нас? – встревожилась Серафима.
– Давай, давай! Ее нет дома.
Если бы, перепрыгнув через плетень, они спрятались за сараем во дворе, их и тогда бы никто не нашел. Ребята не то что во двор, даже к тутовнику, росшему у ворот Маро, подойти боялись…
Маро следовало бы родиться мужчиной. Она была не по-женски крупна, голос гулкий, как эхо в горах, шаг длиной в сажень, а взгляд такой хмурый, будто она ни разу не улыбнулась со дня рождения. Ласкового слова от нее никто никогда не слыхал… Самым отчаянным из мальчишек удавалось иногда забраться на тутовник. Они надеялись, что хозяйки нет поблизости, но Маро появлялась, будто из-под земли. Никого никогда не ругала и поймать не старалась, но второй раз лезть на это дерево никому уже не хотелось…
Во дворе стоял стог сена. Как поставил его сын Маро, работавший чабаном, так он и стоял.
Кайти и Серафима залезли в сено, разгребли, растолкали его – получилось гнездо, в котором можно было даже сидеть. Девочке казалось, что шорох сена покрывает даже шум быстрого Ирафа, и она спросила:
– Ее, правда, нет дома?
– А ты не видела, какой замок висит на двери?
Когда Серафима поверила, наконец, что Маро нет дома и ничто не угрожает им, послышались крики ребят:
– Кайти! Серафима! Вы-хо-ди-те! Больше не играе-е-ем!
Кричали по одному, кричали хором. Крики становились все тише и тише. Наверное, ребята устали ждать их и ушли. В стогу было так тепло и тихо, как в сказочном доме. И Серафима уснула, опустив голову на плечо Кайти…
Враг сбросил бомбу на сладкий сон ребенка.
Серафима почувствовала, как закачалась земля. На голову посыпались комья, в глазах потемнело…
Когда рыли убежище, ни Дзыцца, ни Маро не знали, что бомба весит столько же, сколько сама земля. Знай они об этом, наверное, и окоп рыли бы поглубже, и потолок настилали попрочнее.
Серафима ждала, верила: в небе должны появиться тупоносые истребители. На коротких крыльях – звезды. Свастике не останется места в вышине, загорится черная свастика и рухнет на землю.
3
Серафима нагнулась, подняла лист, другой – золотистый, желтый, багряный.
Бывало, деревья ломились под тяжестью мокрого снега, а девушка сидела за столом в теплой комнате, листала книги, находила между страницами сухие листья, и дом наполнялся мягкими красками осени.
Подбирая по дороге листья, она неторопливо двигалась к дому, поднялась на крыльцо, вошла.
Две железные кровати (спинки их в этом году не красились) стояли в противоположных углах комнаты. Постели были покрыты красным сатином, а поверх сатина – узорчатым тюлем, наволочки на подушках были расшиты бледно-розовой шерстяной нитью.
На столе – сложенные стопками книги. Каждая обернута в газету – это дело рук Серафимы. Госка не однажды напоминала, чтобы дочь спрятала книги куда-нибудь подальше, в безопасное место.
Соседи прятали фотографии ушедших на фронт, прятали треугольные письма, приносившие с войны скупые вести о родных, прятали праздничную одежду фронтовиков в такие дальние углы, куда и не доберешься сразу. И дома от этого становились темными, нежилыми будто.
Каждая из книг была для Серафимы дорогим воспоминанием. Каждая воскрешала какой-нибудь день ее жизни.
…Канамат, племянник Маро, ни разу до этого не посмел взглянуть на Серафиму, но в тот день остановился перед ней и с трудом, словно ворочая огромную тяжесть, проговорил:
– Если ты не откажешься принять от меня этот подарок, жизнь моя будет светлей.
Он протянул ей бережно завернутую книгу. Дома Серафима развернула ее, прочла на обложке – «Герой нашего времени». С обратной стороны обложки было выведено ровными буквами: «Желаю тебе счастья, о котором ты и не мечтаешь…» В тот день Канамат ушел из села.
Девушка брала со стола книги, листала их одну за другой, укладывала между страницами осенние листья.
Ей хотелось найти подарок Канамата. С тех пор, как Кайти ушел на фронт, девушке некого было опасаться, и книга все время была под рукой. Никто из тех, кто мог бы взять ее, давно к ним не заглядывал. А Госка читать не умеет…
Серафима всполошилась. Не может быть, чтобы подарок Канамата пропал. Она заглянула за зеркало, перерыла ящики старого шкафа, побежала в другую комнату. Единственное укромное место, которое было там – это сундук. В сундуке лежали сапоги отца, праздничные туфли брата и разная мелочь, которую Госка пожалела выбросить.
Неожиданно в руках девушки оказался портфель из рябовато-коричневого дерматина. Ручка держалась только с одной стороны, замок давно поломался. Серафима была уверена, что этого портфеля нет уже и в помине.
– Какая ты хорошая, мама! – растроганно проговорила она. – А я всегда ругала тебя за то, что ты хранишь всякое старье.
Она вытерла подолом платья пыль с портфеля, соскоблила ногтем какое-то пятно…
Глянув в окно, девушка увидела мать. Остановившись у ворот, та сбросила с плеч тяжелую вязанку хвороста. Серафима вскочила и выбежала на улицу.
– Не удержалась я, – сказала Госка, – собрала в лесу…
Платок ее сполз на затылок, но она не замечала этого.
– Опять одна побежала в лес, – проворчала Серафима. – И завтра ведь будет день, и тоже нужны будут силы, чтобы стоять на ногах.
– Не захотелось возвращаться с пустыми руками…
– Вот возьму и выброшу все в Ираф! – Серафима подняла вязанку и понесла во двор. – Будто больше других нам нужно.
Госка, идущая следом, отвечала:
– Бог не даст всем погибнуть в один час, а зима уже на носу. Вдруг она будет суровая…
Девушка развязала вязанку, сложила хворост в сарай. «Надо бы накормить мать, – подумала она. – И огонь в печи разжечь…» Но когда вошла в дом, Госка уже достала кусок холодного картофджина [61]61
Картофджин – пирог с картофелем и сыром.
[Закрыть]из шкафа и налила в кружку сыворотку.
Потом мать легла на тахту, вытянулась, кряхтя и охая, и Серафима ушла в другую комнату, чтобы дать ей отдохнуть. И только девушка подумала, что мать, устав, наверное, крепко спит, как услышала со двора ее голос:
– Дочка! Где ты?
Серафима глянула в окно. Госка вынесла из сарая две лопаты и пошла к палисаднику, сказав на ходу:
– Надень старые чувяки и приходи в маленький огород!
К приходу дочери Госка уже успела поработать.
– Закопаем немного картошки в землю. Рано еще, но что поделаешь? Кто-то останется жить, и от него весной земля будет ждать семян…
Раньше, пока от верхнего конца села до берега Ирафа не был вырыт противотанковый ров глубиной в два метра, пока на тай стороне реки не поставили в три ряда столбы с колючей проволокой, пока зигзагообразные окопы не расползлись по лугам, слова Госка еще имели какой-то смысл…
– Поторапливайся, как можешь, мое солнышко. Вон, выбрось лопатой землю, – мать торопилась, будто засиделась без дела. – Вернувшись, наши мужчины не должны застать нас с пустыми руками…
Над голым забором показалась голова Уалинка. Можно было бы только кивнуть ей и снова взяться за работу, но Серафима подумала, что не видела Уалинка уже несколько дней и давно не заходила к ним. Сердце встрепенулось: полгода уже не было вестей от Кайти, и, может, наконец получили письмо, и Уалинка прибежала сообщить об этом?
– Кругом все горит адским огнем, а вы для кого-то запасы делаете… Пойдем-ка, Госка, надо идти к умершему…
Голова Уалинка до самых бровей закутана в платок, ее конопатое лицо очень бледно…
– Очаг мой погас! – лопата выпала из рук Госка. – Чей дом рухнул?
– Бедный Адаго погиб…
– Ай, Адаго, Адаго! И сыновей своих больше не увидит! – жалобным голосом проговорила Госка, и Серафима едва сдержала слезы.
Бомбы, сброшенные немцами, кому-то угодили в огород, где-то взорвались на улице. К Адаго же бомба попала прямо во двор. На беду свою, старик оказался дома.
Нет больше Адаго, старика с шелковистой белой бородой, нет тамады, произносящего хвалу всевышнему за праздничным столом.
Серафима не могла больше работать. Она воткнула лопату в землю и пошла к дому. Остановилась. Стояла и смотрела рассеянно, как солнце садится за горы, и не понимала, зачем еще восходит оно? Зачем восходит, если не может согреть этот объятый холодом и страхом мир?
Нелепо было стоять на месте, но еще труднее – взяться и сделать что-то. Поколебавшись, девушка решила: «Сбегаю-ка я к Дунекка, сходим вместе в дом к умершему. Станем у изголовья Адаго и наплачемся вдоволь».
Выйдя из ворот, Серафима встретила Маро.
– Девочка, дорогая моя, ты мне нужна.
Маро мало кого звала по имени.
– Тесно стало в этом мире, – сказала она. – Даже покойника не проводишь в последний путь, как положено. С околицы нас вернули… Черный ворон, принесший смерть Адаго, ушел невредимым, будь он проклят! – Маро присела на камень, лежавший у ворот, сунула длинную руку за пазуху черного платья, стиранного много раз и вылинявшего, и улыбнулась просительно. – Только я подумала зайти на почту, как встретила почтальона…
– Зайди в дом, Маро, – сказала Серафима.
– Не хочется мне в дом заходить…
– Тогда я вынесу стул.
– На стульях будем сидеть после войны… Никого я не встретила, кто мог бы его прочитать, – говорила Маро, держа руку за пазухой. – По бумаге и по тому, как свернуто, вижу, что оно от Канамата.
Она вытащила письмо, но не торопилась передать его, словно самого Канамата за руку держала.
Серафима едва сдерживалась. И она понимала сейчас, что никогда не была равнодушной к Канамату, что его нельзя забыть, как звезду, упавшую с неба и растаявшую вдали.
Письма с фронта – это опорные столбы, поддерживающие дома, это тепло, согревающее людей, это радость, заставляющая голодных забыть о пище… Почтальон редко стучался в ворота, от ожидания в глазах белело… И если письмо Канамата дошло до села, может быть, завтра придет весточка от отца Серафимы, от брата, от Кайти…
Она жадно вглядывалась в написанные карандашом строчки и виделось ей: Канамат расстелил шинель, прилег, раскрыл книгу и вспомнилось ему, наверное, как стоял он возле доски и весь класс слушал тихое постукивание мела, которым он писал…
Серафима скользила взглядом по строчкам, и ей слышался, будто издалека, голос Канамата. Слова его – шелест крыльев ночной птицы, шелест деревьев, растущих у крыльце.
Серафима смотрела в письмо и видела в то же время, как по лицу Маро текут слезы. Девушка боялась, что и сама не выдержит сейчас, и перестала читать…
– Хоть вяжи его, все равно не удержишь. Перед сном он обязательна должен был побежать на речку, – Маро вытерла слезы куском бязи, края которой давно превратились в бахрому. – Может, неласкова была я с ним, слишком строга… Как узнаешь теперь об этом?..
«До чего велика, необъятна Россия! – писал Канамат. – Ходи по ней хоть целый год и еще столько, но ни конца ни края не найдешь. Думаю я об этом и диву даюсь: на что надеялся Гитлер, когда решил напасть на нас? Придется ему, как в сказке, по своим же следам убираться обратно… Греют душу мне, Маро, воспоминания о тихих вечерах на Ирафе, о тополях на улице… А недавно как я обрадовался! Это было поздно вечером. Привал наш длился столько времени, сколько ты стоишь на крыльце, посыпая своим курам просо или кукурузу… Того, что твой шерстяной матрас был мягким, я никогда не замечал, но до чего мягка земля! Не с чем сравнить се, не с чем… Как только я задремал, меня толкнул сосед, не найдется ли, мол, у тебя закурить? Ответил ему: не курю. Он сунул мне что-то прямо в руки. Я, говорит, тебе отдам свой подарок, а ты мне паек табака. Пощупал я его подарок, и оказалось – домашние шерстяные носки! Из овечьей шерсти, мягкие-мягкие! Теплые, будто осталось в них тепло рук той, что вязала их. Даже пальцами чувствовал, что они были белоснежные. И знаешь, Маро, мне показалось, что связали их из шерсти овцы, которую пасли на берегу Ирафа. Что осетинка выткала пряжу в одну бессонную ночь…»
Серафима не стала бы дальше читать, потому что произнести эти слова было так же трудно, как пройти не торопясь сквозь пылающий новогодний костер. Но, если ты разбежался, как остановиться на полпути на крутом спуске?
«Вернул бы их обратно, но тогда я отдал бы ему и свои мысли. Такие мягкие носки могли связать руки девушки… похожей на Серафиму…»
– О тихий мой, молчаливый Канамат! Сколько же у тебя было всего припрятано, сколько слов ты держал под замком! – глубоко вздохнула Маро. – Читай, читай, родная моя…
Буквы были те же, слышался тот же голос:
«Не верь болтунам, Маро. Держи наготове в корыте муку на три праздничных пирога. Три рога держи под рукой… Встречай нас, как положено. Не за дровами в близкий лес ушли мы из дома, но все равно придет время возвращения…»
Дочитав, Серафима подняла голову и улыбнулась.
Маро не могла оторвать полные слез и радости глаза от письма Канамата, осторожно щупала шершавыми пальцами бумагу, бережно поглаживала ее ладонью…
В ушах Серафимы звучал голос Канамата. Те раны, что появились в ее сердце, когда небо над их селом разлетелось вдребезги, теперь заживали, и она чувствовала это.
Когда Госка вернулась с похорон Адаго, Серафима выбежала ей навстречу.
– Мама, я сбегаю к Дзиппа и принесу прялку, – сказала она. – А ты приготовь шерсти на пару носков…
– Зачем тебе?
– В письме Канамата мне показалось… Носки, домашние шерстяные носки хочет Канамат!
– Кажется, у нас…
– Нет, мама! Нет, нет! Поищи! Найди, где хочешь!
Она подбежала к матери, обняла, прижалась к ней.
Ночью при свете коптилки чесали и пряли шерсть, которую Госка выпросила у соседей. А утром, после ухода Госка на ферму, Серафима достала спицы и клубок белых ниток.
Петлю на петлю нанизывала Серафима, вслед за одной мыслью рождалась другая. Пока еще они были сумбурны, бессвязны…
«Канамат, прочитала я твое письмо и ожила. Тем, кто меня окружает, я виду не показываю, но тебе должна признаться, – я оказалась такой слабой, беспомощной, что и сама не ожидала. Недавно немцы сбросили на наше село четыре бомбы, и я четыре раза умерла. Ничем не измерить то, что я испытала. Иногда, мне кажется, что все от солдата до генерала испытывают такой же страх. И тогда мир наполняется причитанием Госка. Ей, наверное, постоянно снятся страшные сны, которых она никому не рассказывает. И когда начинает причитать, – мраком ее слов наполняется наш дом. Хочется заткнуть уши и бежать, куда глаза глядят… Если бы ты знал, какой надеждой озарило меня твое письмо. Кажется, будто солнце взошло, весеннее солнце…»
Через открытое окно с улицы послышались чьи-то шаги, Серафима выглянула и увидела сестру Кайти Дунекка. Она была без платка, в старом, линялом платье, которое надевала, когда возилась во дворе. Сама открыла калитку и, шлепая просторными галошами, пошла к дому…
Дунекка была не из тех, кто без причины нагрянет в гости, и Серафима испугалась, увидев ее.
– Письмо получили? – вскрикнула Серафима и бросилась, к гостье со спицами и пряжей в руках.
– А ты угадай от кого?
– Я и так знаю.
– И ты не обрадовалась? – Дунекка протянула было письмо, но опять прижала его к груди.
– Разве не слышишь, как сердце колотится? Пошли в комнату.
– Назови, тогда его по имени.
– Его имя – солдат.
Рука Дунекка разом опустилась, едва удерживая лист бумаги, обида блеснула в ее глазах.
– Наверное, ты подумала: куда она мчится, как бешеная?
– Не говори так, – ласково сказала Серафима. – Если бы можно было выложить сердце на ладонь… Когда вы его получили?
– На, сама читай, – сестра Кайти протянула письмо. – Это он тебе писал. И мы от него получили такой же клочок…
Дунекка говорила еще что-то, кажется, уверяла девушку, что они с Уалинка даже глазом не взглянули на это письмо… Спицы кололи руки Серафимы, становились поперек, и она никак не могла развернуть лист бумаги.
Ей казалось, что она ждала этого письма очень долго. Девушка разглядывала, как чудо, буквы, написанные рукой Кайти, крупные, звенящие буквы…
«Доброе утро, соседка Серафима, живущая по правую сторону от нашего дома! Новостей у меня целая гора. Но я не хочу поручать их этому клочку бумаги. Время суровое, и всякое может случиться. Однако сердце мое чует, скоро встретимся мы с тобой. Да, обязательно встретимся. Ты стремись к этому, Серафима, и тогда мы обязательно встретимся. Кайти».
– Где он сейчас?
– Ничего такого не сообщает.
– Наверное, его часть где-то совсем близко.
– Наверное. Раз так пишет, значит на что-то надеется.
– А вдруг он ранен?!
– Как твой язык повернулся произнести такое?!
– Письмо какое-то странное… Нелегко ему, видно, приходится…
– Не до песен сейчас…
Некоторое время они стояли молча, каждая со своими затаенными мыслями.
– Носки хочешь кому-то послать? – спросила Дунекка.
– Так… Вдруг надумала, – сказала Серафима и, запнувшись, схватила соседку за руку. – Присядь, посидим.
– Нет, некогда мне…
4
Над селом прошла группа самолетов. Наступали сумерки, и Таурзат не могла разглядеть красные звезды на их крыльях. Но по звуку определила – это свои. Они летели оттуда, где над горами Осетии небо еще спокойно.
Где-то над лесом оборвался гул самолетов.
Таурзат услышала топот скачущей лошади. Подковы, ударяясь о камни, тревожно звенели. Женщина сошла с дороги, прислонилась спиной к плетню. Хотелось, чтобы всадник не заметил ее, промчался мимо…
Всадник, поравнявшись с ней, осадил коня, остановился и спрыгнул на землю. Кнут взял в левую руку, которой держал лошадь за повод. Пока не подошел вплотную, она его не узнала.
– Габуш, это ты? – спросила неуверенно.
– Он самый, – сказал всадник и подал руку.
– Откуда ты?
– Где только мы не бываем с моим скакуном, – улыбнулся он.
– Знаю, ты не без дела, – сказала Таурзат. – Пойдем в правление.
– Нет нужды возвращаться туда. Пройдемся тихим шагом. Разговор у нас будет недолгий… Говори тихо, чтобы никто не слышал, – сказал Габуш. – Ты, наверное, помнишь своих бригадиров, тех, что работали у вас перед войной?
– Помню, всех помню.
– Был у вас такой… Знал себе цену. Голос звонкий… Среднего роста, плечистый, плотнее меня…
– Может, ты Габола имеешь в виду, но он не был плечистым…
– Недавно мы убрали кукурузу и пустили на поле яловых коров… На границе земель вашего и нашего колхозов… Пастух стал собирать оставшиеся початки, зазевался, упустил коров, и те забрели на ваше поле. Откуда-то вдруг прискакал всадник, налетел на пастуха, стал кричать: «Кто дал тебе право чужие поля травить?!» Пастух пошел за всадником, стал извиняться. А тот ему ружье показал. Растерялся пастух – и быка угоняют, и коров нельзя бросить… Вечером прибежал ко мне со слезами на глазах, кое-как обрисовал обидчика, и оказалось, что он знал лошадь, на которой сидел тот человек… Вскоре мы нашли эту лошадь, но хозяин ее ни в чем ни признался. – Ничего, мол, не знаю, в тот день лошадь была у меня во дворе, соседи видели ее и могут подтвердить…
– Не о Кайти ли ты говоришь? – спросила, будто припоминая вслух, Таурзат.
Они долго шли молча, потом Габуш сказал:
– Значит, это ваш?
– Да. Он был бригадиром. Но вы его знать не можете, вы тогда работали далеко отсюда…
– Не так уж и далеко, нас разделяли всего три села… Так вот, там, где я работал до войны, живут родственники его матери. – Габуш зорко поглядывал по сторонам. – Что он за человек? Ты его хорошо знала?..
Считали его нахальным, заносчивым, но ей он казался человеком, живым, деятельным. Да и бригадиром быть не так-то просто… Всем не угодишь – кто-то и обидеться может и злобу затаить… Как-то раз глубокой осенью одна из колхозниц несколько дней не выходила на уборку кукурузы. Оказалось, что у нее не было теплой одежды. Кайти, узнав об этом, тут же снял с себя телогрейку и отдал… Таурзат даже позавидовала ему: она не сумела бы так сразу найтись…
Таурзат стала приглядываться к Кайти, хотела разобраться, понять его. Но грянула война, и в первые же дни Кайти ушел на фронт…
– Не знаю, что и сказать тебе, – пожала плечами Таурзат. – Он был еще молод, а молодым свойственно ошибаться…
– Сбежал он, – сказал Габуш. – Дезертировал…
Таурзат знала, что Габуш был командиром истребительного батальона, но у нее и в мыслях не было, что он придет в их село с подобной вестью. Колхозное имущество пока все было здесь, и она думала, что он принес ей какое-нибудь секретное указание об эвакуации. Таурзат вспомнила, каким гордым, независимым был Кайти. Нет, струсить такой не мог…
– Приглядись повнимательней к их дому. Трудно сказать, чем может выдать себя человек…
– Хорошо, – Таурзат поправила платок, зябко передернула плечами. – Я тебя поняла…
5
За селом, в стороне от кладбища, на котором похоронены те, кто умер своей смертью, возле своего очага, выстроились в ряд четырехгранные, близко стоящие друг к другу деревянные надгробья. Они видны издали, их уже много. Имена тех, кто погиб от первых пуль войны, выведены на них в черный день черными буквами.
Сколько было похоронок, столько белых деревянных памятников стоит сегодня рядом со старым кладбищем.
Сегодня на один памятник станет больше.
Таурзат получила извещение о смерти младшего сына Дзиппа.
Легче умереть, чем перешагнуть порог с этой вестью. Кто осмелится войти в дом Дзиппа?..
Таурзат старалась не думать об этом, но младший сын Дзиппа словно пришел к ней, стал перед глазами и стоял, не уходил… Когда Таурзат поравнялась с низеньким, крытым соломой сараем Госка, а до дома Дзиппа оставалось еще три десятка шагов, сердце ей подсказало: «Нет, не должны они пока знать об этом. Пусть живет для них младший сын, пусть вспоминают они его шалости, за которые строго журили его, пусть, любя, жалеют об этом…»
Кайти будет есть горячий чурек, Уалинка, глядя на сына, и воздухом одним удовольствуется, а из дома, что рядом с ними, день и ночь будут слышаться причитания…
Таурзат испугалась: а вдруг выйдет сейчас из этих ворот отец или мать погибшего? Что она скажет им? Остановившись в растерянности, повернула к Госка…
Идти по чисто подметенному двору – все равно, что вернуться к прошлым спокойным дням.
– Эй, есть кто-нибудь живой? – позвала Таурзат.
Хлопнула дверь, из дома выбежала, улыбаясь, Госка. Улыбаться-то она улыбалась, а в глазах сквозили беспокойство и испуг.
– На минуту к вам зашла, Госка, – как бы оправдываясь, сказала Таурзат. – К Серафиме, дело есть.
– Здравствуй, Таурзат, здравствуй, – радушно произнесла Госка, теперь уже спокойно глядя на гостью. – Обрадовала ты меня, зашла без приглашения как своя. – Она кивнула на крыльцо: – Теперь порог дома переступи.