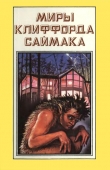Текст книги "Все повести и рассказы Клиффорда Саймака в одной книге"
Автор книги: Клиффорд Саймак
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 95 (всего у книги 216 страниц)
– Мистер Дин,– сказала воспителла.
Он виновато вскинулся.
– Простите,– сказал он.– Я заслушался.
– Но ведь дверь закрыта.
– И все же в этой комнате – дети,– проговорил Дин.
– В комнате нет детей.
– Совершенно верно,– ответил он.– Совершенно верно.
Но они были здесь. Он слышал их смех и топот их ног.
Здесь были дети или, по крайней мере, такое ощущение, будто они здесь есть и будто здесь много цветов, которые на самом деле давным-давно засохли и погибли, но ощущение осталось. И ощущение красоты, красоты в разных ее проявлениях – и в цветах, и в ювелирных поделках, и в маленьких картинках, и в веселых разноцветных шарфах – вещах, которые на протяжении многих лет давали воспителлам вместо денег.
– Эта комната,– запинаясь, смущенно сказал он.– До чего же приятная комната. Мне здесь так хорошо.
Он почувствовал, что окунается в юность и веселье. Если б он мог, подумалось ему, если б он только мог, он бы влился в течение этой жизни и был бы таким, как они.
– Мистер Дин,– произнесла воспителла,– вы очень чувствительны.
– Мне очень много лет. Может быть, в этом причина,– ответил Дин.
Комната была и старой, и старомодной, словно двухсотлетней давности,– небольшой кирпичный камин, отделанный белым деревом, и сводчатые дверные проемы, и окна, от потолка до пола, скрытые тяжелыми черно-зелеными занавесями с золотой нитью. Здесь царили прочно обосновавшийся комфорт и ощущение нежности, которого современная архитектура – алюминий и стекло – никак не могла дать. В комнате кое-где виднелась пыль, было шумно, может, и грязновато, но возникало чувство, что ты дома.
– Я человек старого склада и, видимо, скоро совсем впаду в детство,– сказал Дин,– Боюсь, что для меня опять настало время уверовать в сказки и волшебство.
– Это не волшебство,– ответила воспителла.– Это наш образ жизни, только так мы и можем жить. Согласитесь, что нам тоже хочется выжить.
– Конечно.
Он снял мятую шляпу с колена и медленно поднялся.
Теперь смех казался слабее, а топот – тише. Но ощущение юности – свежести, кипучей силы, радости – все еще наполняло комнату. Оно озарило своим сиянием всю эту старую ветошь, и сердце Дина внезапно защемило от счастья.
Воспителла все еще сидела на полу.
– Вам что-нибудь нужно, мистер Дин?
Дин мял в руках шляпу.
– Больше ничего. Кажется, я получил ответ.
Даже произнося эти слова, он не мог поверить, он знал, что невозможно поверить, будто он когда-то, стоя перед дверью этого дома, твердо считал, что до правды докопаться нельзя.
Воспителла поднялась.
– Вы придете к нам еще? Мы будем очень рады видеть вас.
– Может быть,– сказал Дин и повернулся к двери.
Вдруг на полу, вертясь, возник волчок, золотой волчок, искрящийся драгоценностями; он вбирал свет и разбрасывал вокруг себя тысячи цветных бликов, и его кружение сопровождалось мелодичным свистом – чем-то вроде музыки, запрятанной внутрь и расплавлявшей человечью душу.
Дин почувствовал, что надо уходить, хотя, сидя в кресле, он думал, что уйти невозможно. И снова донесся смех, и реальный мир куда-то уплыл, и внезапно комната наполнилась волшебным светом Рождества.
Он быстро сделал шаг вперед и уронил шляпу. Он больше не знал ни своего имени, ни того, где он сейчас, ни как он попал сюда,– все это было ему безразлично. Он почувствовал, как счастье в нем бурлит и переливается через край, и он наклонился, чтобы достать волчок.
Дина отделяло от него лишь один-два дюйма, и он, наклонившись, сделал еще шаг, протянул руку – и попал ногой в дыру на старом ковре и рухнул вниз.
Волчок пропал, и рождественские огни погасли, и опять перед ним возник реальный мир. Ощущение бурлящего счастья исчезло, и в этой комнате – убежище для всех – остался лишь старик, который силился встать с пола, чтобы оказаться лицом к лицу с чужаком.
– Простите,– сказала воспителла.– Вы почти дотянулись. Может быть, в другой раз.
Дин покачал головой.
– Нет! Только не в другой раз!
Воспителла мягко ответила:
– Мы не могли вам предложить ничего лучшего.
Дин неумело водрузил шляпу на голову и, дрожа как в лихорадке, повернулся к двери. Воспителла открыла ее, и Дин, пошатываясь, вышел на улицу.
– Приходите еще,– произнесла воспителла очень мягко.– В любое время.
На улице Дин остановился и привалился к дереву. Он снял шляпу и вытер лоб.
Если раньше Дин был просто потрясен, то теперь в его душу вполз страх – страх перед существами, устроенными иначе, которые едят не как люди, а по-другому, которые высасывают юность и красоту, которые пьют воду из высыхающего букета, которые отщипывают по кусочкам радость у веселящегося ребенка и даже заедают смехом.
И неудивительно, что здешние дети взрослей, чем полагается быть в их годы. Потому что чужаки лишают их ребячливости, дети для них – лишь подножный корм. Каждому человеку, наверное, положено немало веселой беготни и детского смеха, подумал он. Иной использует не все, что ему причитается, на это может быть лимит, а другой истратит все до конца, радость уйдет, он будет взрослым, а в душе у него не останется больше ни смеха, ни удивления.
Воспителлы не берут денег. Им и ни к чему их брать, потому что деньги им не нужны. В доме у них чего только нет, чего только они не накопили за долгие годы!
И вот за все это время он первый ощутил, он первый выявил истинную сущность чужаков, привезенных домой Леймонтом Стайлсом. Грустно было сознавать, что он первый это обнаружил. Он сказал себе, что он стар, может, потому и оказался первым. Но это были всего лишь слова, почти автоматически сорвавшиеся с губ, просто он сам себя пожалел. Однако можно было предположить и это.
Может, старикам как-то компенсируют потерю способностей? Может, когда тело слабеет и разум мутнеет, появляются некие таинственные силы, нечто вроде чутья ищейки, они словно угольки почти сгоревшей жизни?
Он всегда беспокоился о том, что стареет, сказал он себе, но кто же считает старость достоинством? Он забывал о настоящем, зато его озабоченность по поводу прошлого росла все больше и больше. Он начал впадать в детство и сам об этом знал – может, тут и заключалась разгадка? Может, потому он видел волчок и рождественские огни?
Ему хотелось знать: что бы произошло, если бы он схватил волчок?
Он надел шляпу на затылок, оторвался от дерева и медленно побрел вверх по улице, направляясь к дому.
Что он должен сделать теперь, когда он раскрыл тайну воспителл, спрашивал он себя. Конечно, он мог бы побежать и растрезвонить об этом, но никто бы ему не поверил. Его бы вежливо выслушали, чтобы не ранить чувства старика, но любой житель городка счел бы это игрой воображения, и тут ничего нельзя было бы поделать. Потому что, кроме собственной непоколебимой уверенности, он не располагал бы ни единым доказательством.
Он мог бы привлечь внимание к тому, что молодежь теперь рано созревает, как сегодня днем к этому привлек его внимание Стаффи. Но он не сумеет доказать даже это, так как в конечном счете все жители городка дадут рациональное объяснение случившемуся. Даже если других причин не найдется, они это сделают из чувства родительской гордости. Ни один человек не будет удивляться тому, что у его сына или дочери особенно хорошие манеры и что по развитию молодежь Милвилла стоит выше среднего уровня.
Казалось бы, родители должны заметить, им просто следовало бы задуматься над этим – ведь не могут же дети всего городка быть так хорошо воспитаны и так уравновешенны! И все же никто ничего не замечал. Перемены подкрадывались так медленно, происходили так гладко, что просто не были заметны.
Да если уж на то пошло, он и сам не заметил их, он, большую часть жизни теснейшим образом связанный с этими самыми детьми, в которых теперь находит так много удивительного. А если уж и он не заметил, то как можно ждать, чтобы это сделал кто-то другой? Болтливому старику вроде Стаффи, который лезет куда не нужно, остается только чесать языком.
В горле у него пересохло и засосало под ложечкой. Больше всего ему сейчас хотелось чашечку кофе.
Он свернул на улицу, которая вела в деловую часть города, и побрел по ней, нагнув голову, как бы вступая в сражение с темнотой.
Чем все это кончится, спросил он себя. Кому нужно, чтобы дети не видели детства? Чтоб их обкрадывали? Какова цена того, что подрастающие юноши и девушки бросают игры намного раньше срока, что они прежде времени перенимают у взрослых их отношение к жизни?
Кому-то, видимо, это нужно. Дети Милвилла послушны и вежливы, к игре они подходят творчески; среди них больше нет ни снобов, ни маленьких дикарей.
Но все несчастье в том, что стоит им только задуматься над этим, как они перестают быть детьми.
Ну а в грядущем? Будет ли Милвилл поставщиком великих государственных деятелей, ловких дипломатов, первоклассных педагогов и талантливых ученых? Может быть, да, однако не это главное. Ведь чтобы выработать у них эти качества, детей обкрадывают, лишают детства – вот что самое главное.
Дин оказался в деловом районе, занимавшем не больше трех кварталов, и медленно побрел по улице, направляясь к единственной в городе аптеке.
В аптеке было лишь несколько человек. Он прошел к стойке, с несчастным видом взобрался на высокий стул, надвинув на глаза мятую шляпу, и ухватился за край стойки, чтоб руки не дрожали.
– Кофе,– сказал он девушке, которая подошла принять заказ.
Она принесла кофе.
Он сделал маленький глоток, но кофе был слишком горячий. Дин уже жалел, что пришел.
Внезапно он почувствовал себя совсем одиноким и чужим среди блеска ламп и металла, будто он приплелся из прошлого и занял место, предназначенное для настоящего.
Он почти никогда не появлялся в деловом районе, и, наверное, поэтому у него родилось такое чувство. Еще того реже появлялся он здесь вечером; впрочем, некогда он тут бывал.
Дин улыбнулся, вспомнив, как они когда-то собирались и болтали в кружках о всякой всячине, не придавая этому особого значения.
Но теперь все кончено. Его товарищей больше нет. Одни умерли, другие уехали, и мало кто еще способен на рискованный шаг.
Так он сидел в раздумье, понимая, что расчувствовался, но не придавал этому значения; он слишком устал и ослаб, чтобы перебороть себя.
Чья-то рука коснулась его плеча, и он в удивлении обернулся.
Перед ним стоял молодой Боб Мартин. Он улыбался, но с таким видом, будто был не совсем уверен в том, что поступает правильно.
– Сэр, мы вон там, за тем столиком,– сказал молодой Мартин, захлебнувшись от собственной храбрости.
Дин кивнул.
– Очень приятно,– пробормотал он.
– Мы хотели узнать, может... то есть, мистер Дин, мы были бы очень рады, если бы вы присоединились к нам.
– В самом деле, весьма любезно с вашей стороны.
– Мы не имели в виду, сэр... то есть...
– Ну конечно,– сказал Дин.– Я буду очень рад.
– Разрешите перенести ваш кофе, сэр. Я не пролью ни капельки.
– Доверяю тебе, Боб,– сказал Дин, поднимаясь из-за стола,– У тебя верная рука.
– Я сейчас вам объясню, мистер Дин. Не то чтобы я не хотел играть... Просто...
Дин слегка похлопал его по плечу:
– Я понимаю. Ни к чему объяснять.
Он помедлил секунду, пытаясь сообразить, стоит ли рассказывать о том, что у него на уме.
И решился:
– Если ты не проболтаешься тренеру, я даже скажу, что согласен с тобой. В жизни бывают такие этапы, когда регби начинает казаться довольно глупой игрой.
Мартин с облегчением улыбнулся:
– Вы попали в самую точку. Вот именно.
Он пошел к своему столику.
За столом сидели четверо – Рональд Кинг, Джордж Вудз, Джуди Чарльсон и Донна Томпсон. Все хороши, подумал Дин. Будто на выбор. Он глядел, как они неторопливо потягивают содовую, стараясь растянуть удовольствие.
Они смотрели на него и улыбались, и Джордж Вудз отодвинул один из стульев, как бы приглашая Дина. Тот осторожно сел и положил шляпу на пол за своим стулом. Боб пододвинул ему кофе.
– Вы очень добры,– сказал Дин и удивился, почему он чувствует себя скованным. В конце концов, это его дети – дети, которых он каждый день видел в школе, те, кого он лелеял и у кого пробуждал охоту к знанию, дети, которых у него самого не было никогда.
– Вы сейчас нам так нужны,– сказал Рональд Кинг.– Мы тут говорили о Леймонте Стайлсе. Он единственный милвиллец, который побывал в космосе и...
– Вы, должно быть, знали его, мистер Дин,– сказала Джуди.
– Да,– неторопливо ответил Дин,– Я его знал, но хуже, чем Стафф. Они со Стаффом вместе провели детство. Я был немного старше.
– Что он за человек? – спросила Донна.
Дин хмыкнул.
– Леймонт Стайлс? Он был в нашем городе козлом отпущения. Когда он учился в школе, ни денег, ни домашнего очага у него не было, он так и не доучился. Если в городе происходила какая-то заваруха, вы могли ручаться головой, что в этом замешан Леймонт. Каждый встречный и поперечный утверждал, что из Леймонта ничего путного не выйдет, а так как о нем судачили часто и долго, Леймонт, должно быть, принимал это близко к сердцу...
Он все говорил и говорил, и они задавали ему вопросы, а Рональд Кинг сходил к стойке и принес ему еще одну чашечку кофе.
От Стайлса разговор перекинулся на регби. Кинг и Мартин повторили ему то, что сказали тренеру. Потом затронули проблемы школьного самоуправления, а потом перешли к обсуждению новой, недавно открытой теории ионного двигателя.
Дин не всегда принимал участие в разговоре; он больше слушал, задавал вопросы, и время промелькнуло незаметно.
Внезапно огни начали мигать, и Дин в изумлении поднял глаза.
Джуди, смеясь, разъяснила:
– Это сигнал к закрытию. Значит, нам пора уходить.
– Понятно,– сказал Дин.– А что, с вами частенько так бывает? Я хочу сказать, часто вы сидите здесь до самого закрытия?
– Не очень,– ответил ему Боб Мартин,– В будни больно уж много задают.
– А я вот помню, когда-то давно такое со мной было,– начал Дин, но осекся на полуслове.
Да, и впрямь давно, подумал он. И сегодня вечером – снова!
Он окинул их взглядом – пять лиц склонились над столом. Вежливы, добры и почтительны, подумал он. Но этого мало.
В разговоре с ними Дин забыл о том, что он стар. Они принимали его просто как живое существо, а не как человека преклонных лет, не как символ авторитета. Они стали ему близки, он почувствовал, будто он один из них, а они – это он, они сломали не только барьер между учениками и учителем, но и барьер между молодостью и старостью.
– У меня здесь машина,– сказал Боб Мартин,– Разрешите подвезти вас до дому.
Дин подобрал с пола шляпу и медленно поднялся на ноги.
– Нет, спасибо,– сказал он,– Пожалуй, я лучше пройдусь пешком. Мне нужно кое-что обдумать, а когда идешь, думается лучше.
– Приходите еще,– сказала Джуди Чарльсон,– Может, как-нибудь в пятницу вечером.
– Спасибо,– ответил Дин,– Пожалуй, я приду.
Большие дети, сказал он себе с некоторой гордостью. Намного добрее и вежливее обычных подростков. Ни нахальства, ни снисходительности, будто они и не дети, и все же есть в них великолепие юности: и мечтательность, и честолюбие, что идут рука об руку с юностью.
Повзрослевшие прежде времени, лишенные цинизма. А это очень важно – отсутствие цинизма.
Конечно, в их человеколюбии нет ничего дурного. Быть может, именно этим одарили их воспителлы взамен украденного детства.
Если они и впрямь его украли. Потому что, может, они и не крали, а просто взяли и отложили про запас.
А если это так, то воспителлы одарили ребят новым чувством зрелости и новым ощущением равенства. И взяли у ребят другое – то, что так или иначе пропадало впустую, нечто такое, чему люди, в сущности, не находили применения, но для воспителл это было самым главным.
Они взяли себе юность и красоту и отложили в своем доме про запас; они сохранили то, что человеческие существа могли хранить лишь в памяти. Они ловили быстротечные мгновения и удерживали их, и вот он, урожай многих лет, дом был доверху набит ими.
Леймонт Стайлс, спросил он, ведя мысленный разговор с этим человеком через долгие годы, через дальние расстояния, ты об этом знал? Какую цель ты преследовал?
Не было ли это вызовом самодовольству чопорного городка, который вынудил его стать сильным? Надеждой, уверенностью, что ни один милвиллец больше уже не скажет ни про кого из ребят, как говорили про Леймонта Стайлса, что из этого мальчика или девочки ничего путного не выйдет.
Это, конечно, важно, но это еще не все.
Донна дотронулась до его локтя и потянула за рукав.
– Пойдемте, мистер Дин,– настойчиво звала она.– Вам нельзя здесь оставаться.
Они все вместе направились к двери, попрощались, и он вышел на улицу, как ему показалось, немного быстрее обычного.
Это потому, что теперь он стал чуточку моложе, чем был два часа назад, совершенно серьезно сказал он себе.
Дин пошел быстрее, и больше не прихрамывал, и совсем не устал, но боялся признаться в этом самому себе – ведь это была мечта, надежда, поиски, в которых никто никогда не признается.
Он шел куда глаза глядят. Ему нужно было отправляться домой. Было очень поздно, давно пора в постель.
Но он не мог произнести этого слова. Не мог облечь мысль в словесную оболочку.
Он пошел вверх по улице, мимо лужайки, заросшей кустарником, и увидел, что свет все еще просачивается сквозь спущенные занавеси. «Это и Стаффи, и я сам, и старина Эйб Хокинс. Нас много...»
Дверь отворилась: на пороге стояла воспителла, спокойная и красивая. Она нисколько не удивилась. Словно она специально ждала меня, подумал Дин.
И увидел остальных двух, которые сидели у камина.
– Пожалуйста, входите в дом,– предложила воспителла,– Мы очень рады тому, что вы решили вернуться. Все дети ушли. Давайте поговорим в тишине и покое.
Он вошел и снова сел в кресло и аккуратно положил шляпу себе на колено.
Еще раз дети пробежали по комнате, и он почувствовал себя вне времени и пространства и услышал смех.
Он сидел в кресле и думал, покачивая головой, а воспителлы ждали.
Трудно, думал он. Трудно найти нужные слова.
И вновь, как много лет назад, он почувствовал себя учеником, которого учитель вызвал отвечать урок.
Они все еще ждали, но они были терпеливы; надо дать ему время.
Он должен сказать обо всем как следует. Он должен добиться того, чтоб они поняли. Он не может просто сболтнуть что придется. Его слова должны прозвучать естественно и в то же время быть логичными.
«Но как сделать, чтобы в них была логика?» – спросил он себя.
В том, что старики, подобные ему и Стаффи, нуждаются в воспителлах, не было ни капли логики.
Денежное дерево
1
Чак Дойл шел вдоль высокой кирпичной стены, отделявшей городской дом Дж. Говарда Меткалфа от пошлой действительности, и вдруг увидел, как через стену перелетела двадцатидолларовая бумажка.
Учтите, что Дойл не из тех, кто хлопает ушами,– он себе клыки обломал в этом грубом мире. И хоть никто не скажет, что Дойл семи пядей во лбу, дураком его тоже считать не стоит. Поэтому не удивительно, что, увидев деньги посреди улицы, он их очень быстро подобрал.
Он оглянулся, чтобы проверить, не следят ли за ним,– может, кто-то решил подшутить таким образом или, что еще хуже, отобрать деньги?
Но вряд ли за ним следили: в этой части города каждый занимался своим делом и принимал все меры к тому, чтобы остальные занимались тем же, чему в большинстве случаев помогали высокие стены. И улица, на которой Дойл намеревался присвоить банкнот, была, по совести говоря, даже не улицей, а глухим переулком, отделяющим кирпичную стену резиденции Меткалфа от изгороди банкира Дж. С. Грегга. Дойл поставил там свою машину, потому что на бульваре, куда выходили фасады домов, не было свободного места.
Никого не обнаружив, Дойл поставил на землю фотоаппараты и погнался за бумажкой, плывущей над переулком. Он схватил ее с резвостью кошки, ловящей мышь, и вот именно тогда-то он и заметил, что это не какой-нибудь доллар и даже не пятидолларовик, а самые настоящие двадцать долларов. Бумажка похрустывала – она была такой новенькой, что еще блестела, и, держа ее нежно кончиками пальцев, Дойл решил отправиться к Бенни и совершить одно или несколько возлияний, чтобы отметить колоссальное везение.
Легкий ветерок проносился по переулку, и листва немногих деревьев, что росли в нем, вкупе с листвой многочисленных деревьев, что росли за заборами и оградами на подстриженных лужайках, шумела, как приглушенный симфонический оркестр. Ярко светило солнце, и не было никакого намека на дождь, и воздух был чист и свеж, и мир был удивительно хорош. И с каждым моментом становился все лучше.
Потому что через стену резиденции Меткалфа вслед за первой бумажкой, весело танцуя по ветру, перелетели и другие.
Дойл увидел их, и на миг его словно парализовало, глаза вылезли из орбит, и у него перехватило дыхание. Но в следующий момент он уже начал хватать бумажки обеими руками, набивая ими карманы, задыхаясь от страха, что какой-нибудь из банкнотов может улететь. Он был во власти убеждения, что, как только он подберет эти деньги, ему надо бежать отсюда со всех ног.
Он знал, что деньги кому-то принадлежат, и был уверен, что даже на этой улице не найдется человека, настолько презирающего бумажные купюры, что он позволит им улететь и не попытается задержать их.
Так что он собрал деньги и, убедившись, что не упустил ни одной бумажки, бросился к своей машине.
Через несколько кварталов, в укромном месте он остановил машину на обочине, опустошил карманы, разглаживая банкноты и складывая их в ровные стопки на сиденье. Их оказалось куда больше, чем он предполагал.
Тяжело дыша, Дойл поднял пачку – пересчитать деньги – и заметил, что из нее что-то торчит. Он попытался щелчком сбить это нечто, но оно осталось на месте. Казалось, оно приклеено к одному из банкнотов. Он дернул, и банкнот вылез из пачки.
Это был черешок, такой же, как у яблока или вишни, черешок, крепко и естественно приросший к углу двадцатидолларовой бумажки.
Он бросил пачку на сиденье, поднял банкнот за черешок, и ему стало ясно, что совсем недавно черешок был прикреплен к ветке.
Дойл тихо присвистнул.
«Денежное дерево»,– подумал, он.
Но денежных деревьев не бывает. Никогда не было денежных деревьев, и никогда их не будет.
– Мне мерещится чертовщина,– сказал Дойл,– а ведь я уже несколько часов капли в рот не брал.
Ему достаточно было закрыть глаза – и вот оно, могучее дерево с толстым стволом, высокое, прямое, с раскидистыми ветвями, с множеством листьев. И каждый лист – двадцатидолларовая бумажка. Ветер играет листьями и рождает денежную музыку, а человек может лежать в тени дерева и ни о чем не заботиться, только подбирать падающие листья и класть их в карманы.
Он потянул за черешок, но тот не отдирался от бумажки. Тогда Дойл аккуратно сложил банкнот и сунул его в часовой кармашек брюк. Потом подобрал остальные деньги и, не считая, сунул их в другой карман.
Через двадцать минут он вошел в бар Бенни, который в это время протирал стойку. Единственный одинокий посетитель сидел в дальнем углу бара, посасывая пиво.
– Бутылку и рюмку,– попросил Дойл.
– Покажи наличные,– сказал Бенни.
Дойл дал ему одну из двадцатидолларовых бумажек, которая была такой новенькой, что хруст ее громом прозвучал в тишине бара. Бенни очень внимательно оглядел ее и спросил:
– Кто это их тебе делает?
– Никто,– сказал Дойл,– я их на улице подбираю.
Бенни передал ему бутылку и рюмку.
– Кончил работу? Или только начинаешь?
– Кончил,– сказал Дойл.– Я снимал старика Дж. Говарда Меткалфа. Один журнал заказал его портрет.
– Этого гангстера?
– Он теперь не гангстер. Он уже лет пять-шесть как легальный. Он магнат.
– Ты хочешь сказать «богач». Чем он теперь занимается?
– Не знаю. Но чем бы ни занимался, живет неплохо. У него приличная хижинка на холме. А сам-то он – глядеть не на что.
– Не понимаю, что в нем нашел твой журнал?
– Может быть, они хотят напечатать рассказ о том, как выгодно быть честным человеком.
Дойл наполнил рюмку.
– Мне-то что,– сказал он философски,– Если мне заплатят, я и червяка сфотографирую.
– Кому нужен портрет червяка?
– Мало ли психов на свете! – сказал Дойл,– Может, кому-нибудь и понадобится. Я вопросов не задаю. Людям нужны снимки, и я их делаю. И пока мне за них платят, все в порядке.
Дойл с удовольствием допил, налил снова и спросил:
– Бенни, ты когда-нибудь слышал, чтобы деньги росли на дереве?
– Ты ошибся, деньги растут на кустах.
– Если могут на кустах, то могут и на деревьях. Ведь что такое куст? Маленькое дерево.
– Ну уж нет,– возразил Бенни, малость смутившись.– На самом деле деньги и на кустах не растут – просто поговорка такая.
Зазвонил телефон, и Бенни подошел к нему.
– Это тебя,– сказал он.
– Кто бы мог догадаться, что я здесь? – удивился Дойл.
Он взял бутылку и пошел вдоль стойки к телефону.
– Ну,– сказал он в трубку,– вы меня звали, говорите.
– Это Джейк.
– Сейчас ты скажешь, что у тебя для меня работа и что ты мне дня через два заплатишь. Сколько, ты думаешь, я буду на тебя работать бесплатно?
– Если ты это для меня сделаешь, Чак, я тебе все заплачу. И не только за это, но и за все, что ты делал раньше. Сейчас мне нужна твоя помощь. Понимаешь, машина слетела с дороги и попала прямо в озеро, и страховая компания уверяет...
– Где теперь машина?
– Все еще в озере. Они ее вытащат не сегодня-завтра, а мне нужны снимки...
– Может, ты хочешь, чтобы я забрался в озеро и снимал под водой?
– Именно так. Понимаю, что это нелегко, но я достану водолазный костюм и все устрою. Я бы тебя не просил, но ты единственный человек...
– Не буду я этого делать,– уверенно сказал Дойл,– у меня слишком хрупкое здоровье. Если я промокну, то схвачу воспаление легких и у меня разболятся зубы, а кроме того, у меня аллергия к водорослям, а озеро почти наверняка полно кувшинок и всякой травы.
– Я тебе заплачу вдвойне! – в отчаянии вопил Джейк.– Я тебе даже втройне заплачу!
– Знаю, – сказал Дойл, – ты мне ничего не заплатишь.
Он повесил трубку и, не выпуская из рук бутылки, вернулся на старое место.
– Тоже мне,– сказал он, выпив две рюмки подряд,– чертов способ зарабатывать себе на жизнь.
– Все способы чертовы,– сказал Бенни философски.
– Послушай, Бенни, та бумажка, которую я тебе дал, она в порядке?
– А что?
– Да нет, просто ты похрустел ею.
– Я всегда так делаю. Клиенты это любят.
И он машинально протер стойку снова, хотя та была чиста и суха.
– Я в них разбираюсь не хуже банкира,– сказал он,– и фальшивку за пятьдесят шагов учую. Некоторые умники приходят сбыть свой товар в бар, думают, что это самое подходящее место. Надо быть начеку.
– Ловишь их?
– Иногда, не часто. Вчера здесь один рассказывал, что теперь до черта фальшивых денег, которые даже эксперт не отличит, и что правительство с ума сходит – появляются деньги с одинаковыми номерами. Ведь на каждой бумажке свой номер, а когда на двух одинаковый, значит, одна из бумажек фальшивая.
Дойл выпил еще и вернул бутылку.
– Мне пора,– объявил он,– Я сказал Мейбл, что загляну. Она у меня не любит, когда я накачиваюсь.
– Не понимаю, чего Мейбл с тобой возится,– сказал Бенни,– Работа у нее в ресторане хорошая, столько ребят вокруг. Некоторые и не пьют, и работают вовсю...
– Ни у кого из них нет такой души, как у меня,– сказал Дойл.– Ни один из этих механиков и шоферов не отличит закат солнца от яичницы.
Бенни дал ему сдачи с двадцати долларов и сказал:
– Я вижу, ты со своей души имеешь.
– А почему бы и нет! – ответил Дойл,– Само собой разумеется.
Он собрал сдачу и вышел на улицу.
Мейбл ждала его, и в этом не было ничего удивительного. Всегда с ним что-нибудь случалось, и он всегда опаздывал, и она уже привыкла ждать.
Она сидела за столиком. Дойл поцеловал ее и сел напротив. В ресторане было пусто, если не считать новой официантки, которая убирала со стола в другом конце зала.
– Со мной сегодня приключилась удивительная штука,– сказал Дойл.
– Надеюсь, приятная? – сказала Мейбл.
– Не знаю еще,– ответил Дойл,– может быть, и приятная. С другой стороны, я, может, хлебну горя.
Он залез в часовой кармашек, достал банкнот, расправил его, разгладил, положил на стол и спросил:
– Что это такое?
– Зачем спрашивать, Чак? Это двадцать долларов.
– А теперь посмотри внимательно, на уголок.
Она посмотрела и удивилась.
– Смотри-ка, черешок! – воскликнула она,– Совсем как у яблока. И приклеен к бумаге.
– Эти деньги с денежного дерева,– сказал Дойл.
– Таких не бывает,– сказала Мейбл.
– Бывает,– сказал Дойл, сам все более убеждаясь в этом,– Одно из них растет в саду Дж. Говарда Меткалфа, отсюда у него и деньги. Я раньше никак не мог понять, как эти боссы умудряются жить в больших домах, ездить на автомобилях длиной в квартал и так далее. Ведь чтобы заработать на это, им пришлось бы всю жизнь вкалывать. Могу поспорить, что у каждого из них-во дворе растет денежное дерево и они держат это в секрете. Только вот сегодня Меткалф забыл с утра собрать спелые деньги, и их сдуло с дерева через забор.
– Но даже если бы денежные деревья существовали,– не сдавалась Мейбл,– боссы не смогли бы сохранить все в секрете. Кто-нибудь да дознался бы. У них же есть слуги, а слуги...
– Я догадался,– перебил ее Дойл,– Я об этом думал и знаю, как это делается; в этих домах не простые слуги – каждый из них служит семье много лет, и они очень преданные. И знаешь, почему они преданные? Потому что им тоже достается кое-что с этих денежных деревьев. Могу поклясться, что они держат язык за зубами, а когда уходят в отставку, сами живут как богачи. Им невыгодно болтать. И кстати, если бы всем этим миллионерам нечего было скрывать, к чему бы им окружать свои дома такими высокими заборами?
– Ну, они ведь устраивают в садах приемы,– возразила Мейбл.– Я всегда об этом читаю в светской хронике.
– А ты когда-нибудь была на таком приеме?
– Нет, конечно.
– То-то и оно, что не была. У тебя нет своего денежного дерева. Они приглашают только своих, только тех, у кого тоже есть денежные деревья. Почему, ты думаешь, богачи задирают нос и не хотят иметь дела с простыми смертными?
– Ну ладно, нам-то что до того?
– Мейбл, смогла бы ты мне найти мешок из-под сахара или что-нибудь вроде этого?
– У нас их в кладовке сколько угодно. Могу принести.
– Пожалуйста, вдень в него резинку, чтобы я мог потянуть за нее – и мешок бы закрылся. А то, если придется бежать, деньги могут...
– Чак, ты не посмеешь...
– Как раз перед стеной стоит дерево, один сук которого навис над ней. Так что я смогу привязать веревку...
– И не думай. Они тебя поймают.
– Ну, это мы посмотрим после того, как ты достанешь мешок. А я пока пойду поищу веревку.
– Но все магазины уже закрыты. Где ты достанешь веревку?
– Это уж мое дело,– сказал Дойл.
– Тебе придется отвезти меня домой – здесь я не смогу переделать мешок.
– Как только вернусь с веревкой...
– Чак!
– А?
– А это не воровство? С денежным деревом?