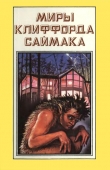Текст книги "Все повести и рассказы Клиффорда Саймака в одной книге"
Автор книги: Клиффорд Саймак
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 72 (всего у книги 216 страниц)
И, повернувшись, понесся обратно, а за ним вся его команда.
Харт стоял на углу и смотрел им вслед. Сделал глубокий вдох, затем медленный выдох. «В сущности, добиться своего оказалось совсем нетрудно,– подумал он,– стоило лишь найти правильный подход. И любопытнее всего, что подход-то подсказал мне не кто иной, как Джаспер. Как это он утверждал недавно? Правду почитают за универсальную постоянную. Мы – единственные лжецы на всю Вселенную...»
Джасперу его откровения вышли боком. По правде говоря, Харт сыграл с ним довольно злую шутку. Но ведь он и сам хотел уехать в отпуск, не так ли? Вот ему и вышла увеселительная прогулочка, какие, право же, предлагаются не каждый день. Он отказал собрату в разрешении воспользоваться машиной, он расхохотался оскорбительно, когда упомянул про выстрелы и погони. Если уж кто и напросился на такую шутку, то именно Джаспер Хансен.
А превыше любых оскорблений то, что он постоянно держал свою дверь на замке и тем самым выказывал высокомерное недоверие по отношению к коллегам-писателям.
Харт повернулся в свой черед и скорым шагом пошел в сторону, противоположную той, где скрылись кафиане. Со временем он, конечно, явится домой – но не теперь. Домой ему не к спеху – пусть сначала шум, поднятый пришельцами, хоть немного уляжется.
Наступил рассвет, когда Харт поднялся по лестнице на седьмой этаж и прошел коридором к двери Джаспера Хансена. Дверь, как водится, была заперта. Но Харт достал из кармана тонкую стальную пружинку, подобранную на свалке, и принялся осторожно ею орудовать. Не прошло и десяти секунд, как замок щелкнул и дверь распахнулась.
Сочинитель притаился в углу, блестящий и ухоженный. Полностью перепаянный, как подтвердил сам Джаспер. Если кто-нибудь другой попробует работать на этой машине, то либо ее сожжет, либо себя угробит. Но это, конечно, пустые разговоры, ширма для маскировки тупого, свинского эгоизма.
«Недели две, не меньше»,– сказал себе Харт. Если подойти к делу с умом, то машина будет в его распоряжении по крайней мере недели две. Трудностей не предвидится. Все, что потребуется от него,– соврать, что Джаспер разрешил ему пользоваться машиной в любое время. И если он успел составить себе правильное представление о кафианах, то сам Джаспер вернется не скоро.
Однако так или иначе двух недель хватит за глаза. За две недели, работая день и ночь, он сумеет выдать достаточно страниц, чтобы купить себе новую машину.
Он не спеша пересек комнату и пододвинул стул, стоящий перед сочинителем. Сел поудобнее, протянул руку и погладил инструмент по панели. Машина была хоть куда. Она выпекала кучу материала, добротного материала. Джаспер не знал отбоя от покупателей.
– Милый старик сочинитель,– произнес вслух Харт.
Он опустил палец на центральный выключатель и перекинул язычок. Ничего не случилось. Удивленный, он выключил машину, потом включил снова. Опять ничего. Тогда он торопливо вскочил на ноги – проверить, подключена ли машина к сети. Она не была подключена, ее нельзя было подключить к сети! От изумления Харт на мгновение словно прирос к полу.
«Машина полностью перепаяна»,– утверждал Джаспер. Перепаяна так искусно, что обходится совсем без тока?
Но это же невозможно. Это попросту немыслимо! Непослушными пальцами он приподнял боковую панель и уставился внутрь машины.
Внутри царил совершенный хаос. Половина ламп отсутствовала вчистую, половина перегорела. Схема во многих местах распаялась и висела клочьями. Весь блок реле был густо присыпан пылью. Хваленая машина на деле представляла собой груду металлолома.
Харт поставил панель на место, ощущая внезапную дрожь в пальцах, попятился назад и натолкнулся на стол. Судорожно ухватился за край стола и сжал доску что было сил, пытаясь утихомирить дрожащие руки, унять бешеный гул в висках.
Машина Джаспера вовсе не была перепаяна. На ней вообще нельзя было работать. Неудивительно, что он держал дверь на замке. Он жил в смертельном страхе, что кто-нибудь вызнает его жуткую тайну: Джаспер Хансен писал от руки!
И теперь, несмотря на злую шутку, сыгранную с достойным человеком, положение самого Харта оказывалось ничуть не веселее, чем прежде. Перед ним стояли те же старые проблемы, и не было никакой надежды их разрешить. В его распоряжении оставался тот же разбитый сочинитель – и ничего больше. Пожалуй, для него и впрямь было бы лучше улететь на звезду Каф.
Он подошел к двери, повременил минутку и обернулся. Со стола едва заметно выглядывала пишущая машинка, заботливо погребенная под грудой бумаг и бумажек, чтобы создавалось впечатление, что ее никогда и не трогали.
И тем не менее Джаспер печатался! Продавал чуть не каждое написанное слово! Продавал! Горбился ли над столом с карандашом в руке, выстукивал ли букву за буквой на оснащенной глушителем пишущей машинке, но – продавал. Продавал, вообще не включая сочинитель. Наводил на панели глянец, чистил и полировал их, но под панелями-то было пусто! А он все равно продавал, прикрываясь машиной как щитом от насмешек и ненависти остальных, многоречивых и бездарных, слепо верующих в мощь металла и магию громоздких приспособлений.
«Вначале рассказы передавали из уст в уста,– говорил Джаспер накануне вечером,– Потом записывали от руки, а теперь изготовляют на машинах». И задавал вопрос: что же завтра? Задавал с таким видом, словно не сомневался, что существует некое «завтра».
«Что же завтра?» – повторил Харт про себя. Разве это предел возможностей человеческих – движущиеся шестерни, умное стекло и металл, проворная электроника?
Ради собственного достоинства – просто ради сохранения рассудка – человек обязан отыскать какое-то «завтра». Механические решения по самой своей природе – решения тупиковые. Разрешается умнеть до определенной степени – и не больше. Разрешается добираться до заданной точки – и не дальше.
Джаспер понял это. Джаспер нашел выход. Разобрал механического помощника и вернулся вспять, к работе вручную.
Если только продукт мастерства приобрел экономическую ценность, человек непременно изыщет способ производить этот продукт в изобилии. Были времена, когда мебель изготовляли ремесленники, изготовляли с любовью, которая делала ее произведением искусства, горделиво не стареющим на протяжении многих поколений. Затем на смену мастерам пришли машины, и человек стал выпускать мебель чисто функциональную, не претендующую на длительный век, а уж о гордости что и говорить.
И литература последовала по тому же пути. В ней не сохранилось гордости. Она перестала быть искусством и превратилась в предмет потребления.
Что же делать человеку в такую эпоху? И что он может сделать? Закрыться на ключ, как Джаспер, и в одиночестве трудиться час за часом, остро и горько ощущая свое несоответствие эпохе и мучаясь этим несоответствием день и ночь?
Харт вышел из комнаты со страдальческим выражением на лице. Подождал секунду, пока язычок замка, щелкнув, не стал на место. Потом добрался до лестничной площадки и медленно поднялся к себе.
Инопланетянин – одеяло с лицом – по-прежнему лежал на кровати. Но глаза его были теперь открыты, и он уставился на Харта, как только тот вошел и затворил за собой дверь.
Харт застыл, едва переступив порог, и неприютная посредственность комнаты, откровенная ее бедность и убожество буквально ошеломили его. Он был голоден, томился тоской и одиночеством, а сочинитель в углу, казалось, потешался над ним.
Сквозь распахнутое окно до него донесся гром космического корабля, взлетающего за рекой, и гудок буксира, подводящего судно к причалу.
Он поплелся к кровати.
– Подвинься, ты,– бросил он инопланетянину, раскрывшему глаза еще шире, и упал рядом. Повернулся к одеялу-лицу спиной и скорчился, подтянув колени к груди.
Круг замкнулся: он вернулся к тому же, с чего начал вчера утром. У него по-прежнему не было пленок, чтобы выполнить заказ Ирвинга. В его распоряжении была все та же обшарпанная, поломанная машина. У него не осталось даже камеры, и он не представлял себе, у кого одолжить другую. Впрочем, что за резон одалживать, если нет денег заплатить герою? Один раз он уже пробовал снять фильм исподтишка, больше не станет. Не стоит дело того, чтобы рисковать тюрьмой на три, а то и на четыре года.
«Мы обожатели погонь и выстрелов,– так, помнится, выразился кафианин, которого он окрестил Зеленой Рубахой,– От вас мы покупать путешествия в дальние места...»
Для Зеленой Рубахи искомое – бах-бах, тра-та-та-та, выстрелы и погони; для жителей других планет это могут оказаться сочинения какого-то иного свойства – раса за расой присматривались к странному предмету экспорта с Земли и открывали в нем для себя неведомый ранее, зачарованный мир, «дальние места», скрытые возможности игры ума, а то и приливы чувств. Различья в облике, видимо, не играли здесь особой роли.
Анджела утверждает, что литература – гнусный способ зарабатывать себе на жизнь. Но это она сгоряча. Все писатели изредка провозглашают одно и то же. Испокон веков представители любых профессий, мужчины и женщины в равной мере, в недобрый час обязательно заявляют, что их профессия – гнусный способ зарабатывать себе на жизнь. Они, конечно, искренне верят в то, что говорят, но во все иные часы и дни помнят, что вовсе она не гнусная, а, напротив, очень и очень важная.
И сочинительство тоже важно, более того, чрезвычайно важно. Не только потому, что дарит кому-то «путешествия в дальние места», но потому, что сеет семена Земли – семена земной мысли и земной логики – среди бесчисленных звезд.
«А они там ждут,– подумал Харт,– ждут рассказов, которые я теперь никогда не напишу...»
Он мог бы, конечно, попытаться писать, несмотря ни на что. Мог бы даже поступить как Джаспер – исступленно скрести пером, подавляя чувство стыда, ощущая собственный анахронизм и несовершенство, страшась того неотвратимого дня, когда кто-то выведает его секрет, догадается по известной эксцентричности стиля, что это создано не машиной.
И все же Джаспер, вне всякого сомнения, не прав. Беда не в сочинителях и даже не в принципе механического сочинительства как таковом. Беда в самом Джаспере, в глубокой извращенности его психики, которая и сделала его мятежником. Но мятежником боязливым, маскирующимся, запирающим Дверь на ключ, полирующим свой сочинитель и усердно прикрывающим пишущую машинку всяким хламом, чтобы никто, упаси бог, не понял, что он ею пользуется...
Харт немного согрелся, голода он уже не испытывал, и перед его мысленным взором вдруг возникло одно из тех дальних мест, на какие, видимо, и намекал Зеленая Рубаха. Небольшая рощица, и под деревьями бежит ручей. Кругом мир и спокойствие, и, пожалуй, на всем лежит печать величия и вечности. Слышно пение птиц, и вода, бегущая в мшистых берегах, издает острый, пряный запах. Он шагает среди деревьев, их готические силуэты напоминают церковные шпили. И в его мозгу сами собой рождаются слова – слова, сцепленные так выразительно, так точно и тщательно, что никто никогда не ошибется в их истинном значении. Слова, способные передать не только сам пейзаж, но и звуки, и запахи, и господствующее окрест ощущение вечности...
Но при всей своей восхищенности он не забывает, что в этих готических силуэтах и в этом ощущении вечности таится угроза. Какая-то смутная интуиция подсказывает ему, что от рощицы надо держаться подальше. Мимолетно вспыхивает желание вспомнить, как он сюда попал,– но памяти нет. Будто он впервые встретился с рощицей секунду-другую назад, однако он твердо знает, что шагает под обожженной солнцем листвой многие часы, а может, и дни.
Внезапно он почувствовал, как что-то щекочет ему шею, и поднял руку – смахнуть непрошеное «что-то» прочь. Рука коснулась теплой маленькой шкурки, и он вскочил с постели как ужаленный. Пальцы сжались на горле инопланетянина... Он едва не сбросил эту тварь, как вдруг припомнил с полной отчетливостью странное обстоятельство, которое никак не шло на ум накануне.
Пальцы разжались сами собой, и он позволил руке опуститься. И замер подле кровати, а существо-одеяло так удобно устроилось у него на спине и плечах и обняло его за шею. Он больше не испытывал голода, не был изнурен, и томившая его тоска куда-то исчезла. Он даже не помнил своих забот, и это было удивительнее всего: озабоченность давно вошла у него в привычку.
Двенадцать часов назад он стоял в тупичке с существом-одеялом на руках и силился выкопать из глубин заупрямившегося сознания объяснение неожиданному и непонятному подозрению – подозрению, что он уже где-то что-то слышал или читал о таком вот плачущем создании, какое подобрал. Теперь, когда одеяло укутало ему спину и приникло к шее, загадка разрешилась.
Не расставаясь с приникшим к нему существом, Харт решительно пересек комнату, подошел к узкой длинной полке и снял с нее книгу. Книга была старая и затрепанная, лоснящаяся от множества прикосновений, и едва не выскользнула из рук, когда он перевернул ее, чтобы прочитать на корешке название: «Отрывки из забытых произведений».
Он раскрыл томик и принялся перелистывать страницы. Он знал теперь, где найти то, что нужно. Он вспомнил совершенно точно, где читал о создании, прилепившемся за спиной. И довольно быстро нашел искомое – несколько уцелевших абзацев из рассказа, написанного давным-давно и давным-давно позабытого. Самое начало он пропустил – то, что его интересовало, шло дальше:
«Живые одеяла были честолюбивыми. Существа растительного происхождения, они, вероятно, лишь смутно сознавали, чего ждут. Но когда пришли люди, бесконечно долгому ожиданию настал конец. Живые одеяла заключили с людьми сделку. И в последнем счете оказались самыми незаменимыми помощниками в исследовании Галактики из всех когда-либо обнаруженных».
«Вот еще когда,– подумал Харт,– укоренилось вековое, самонадеянное и счастливое убеждение, что человеку суждено выйти в Галактику, исследовать ее, вступить в контакт с ее обитателями и принести на каждую посещенную им планету ценности Земли...»
«Человеку с живым одеялом, накинутым на плечи наподобие короткополого плаща, уже не надо было заботиться о пропитании, ибо живые одеяла обладали чудесной способностью накапливать энергию и преобразовывать ее в пищу, потребную для организма хозяина.
В сущности, одеяло становилось почти вторым телом – бдительным, неутомимым наблюдателем, наделенным своего рода родительским инстинктом, поддерживающим в организме хозяина нормальный обмен веществ в любой, даже самой враждебной среде, выкорчевывающим любые инфекции, исполняющим как бы три обязанности: матери, кухарки и домашнего врача одновременно.
Наряду с этим одеяло становилось как бы двойником хозяина. Сбросив с себя путы однообразного растительного существования, оно словно само превращалось в человека, разделяя чувства и знания хозяина, вкушая жизнь, какая и не снилась бы одеялу, оставайся оно независимым.
И словно мало было взаимных выгод, одеяла предложили людям еще и награду, своеобычное выражение признательности. Они оказались неуемными выдумщиками и рассказчиками. Они были способны вообразить себе все что угодно – без всяких исключений. Ради развлечения своих хозяев они готовы были часами рассказывать затейливые небылицы, предоставляя людям защиту от скуки и одиночества».
Там было и еще что-то, но Харт уже не стал читать дальше. Вернувшись к самому началу отрывка, он увидел слова: «Автор неизвестен. Примерно 1956 год».
1956-й? Так давно? Как же мог кто бы то ни было в 1956 году узнать об этом?
Ответ ясен как день: не мог.
Не мог никоим образом. Просто-напросто выдумал. И попал, что называется, в точку. Кто-то из ранних авторов-фантастов обладал поистине вдохновенным воображением.
Под сенью рощицы движется нечто несказанной красоты. Не гуманоид, не чудовище – нечто не виданное прежде никем из людей. И невзирая на всю его красоту, в нем таится грозная опасность, от него надо сию же секунду спасаться бегством.
Харт чуть не кинулся спасаться бегством и... очнулся посреди собственной комнаты.
– Ладно,– сказал он одеялу.– Давай-ка временно выключим телевизор. К этому мы еще вернемся.
«Мы вернемся к этому,– добавил он про себя,– и напишем про это рассказ, и побываем в разных других местах, и тоже напишем про них рассказы. И мне не понадобится сочинитель, для того чтобы написать эти рассказы, я смогу и сам воссоздать в словах испытанное волнение и пережитую красоту и связать их вместе лучше любого сочинителя. Я же побывал там собственной персоной, я сам пережил все это, и тут уж меня не собьешь...»
Вот именно! Вот и ответ на вопрос, который Джаспер задал вечером, сидя за столиком в баре «Светлая звездочка».
«Что же завтра?» – спрашивал Джаспер.
А завтра – симбиоз между человеком и инопланетным существом, симбиоз, еще столетия назад придуманный писателем, самое имя которого давно позабыто.
«Будто сама судьба,– размышлял Харт,– положила руку мне на плечо и мягко подтолкнула вперед. Ведь это же совершенно неправдоподобно – найти ответ плачущим в тупичке между стенкой жилого дома и переплетной мастерской...»
Но какое это теперь имеет значение! Важно, что он нашел ответ и принес домой, в ту минуту не вполне понимая зачем, да и позже недоуменно спрашивая себя, чего ради. Важно, что теперь его необъяснимый поступок оправдался стократ.
Он заслышал шаги на лестнице, потом в коридоре. Встревоженный их быстрым приближением, он торопливо потянулся и сбросил одеяло с плеч. В отчаянии огляделся по сторонам в поисках укрытия для инопланетянина. Ну конечно же – письменный стол! Он рывком выдвинул нижний ящик и – даром что оно слегка сопротивлялось – засунул одеяло туда. И не успел даже толком прикрыть ящик, как в комнату ворвалась Анджела.
Сразу было видно, что она пышет негодованием.
– Что за грязные шутки! – воскликнула она.– Из-за вас у Джаспера куча неприятностей!
Харт уставился на нее в оцепенении.
– Неприятностей? Вы хотите сказать, что он не улетел с кафианами?
– Он прячется в подвале. Блейк передал мне, что он там. Я спускалась и говорила с ним.
– Он сумел от них избавиться? – Харт был потрясен до глубины души.
– И еще как! Он убедил их, что им вовсе не нужен живой писатель. Он объяснил, что им нужна машина, и рассказал о сверкающем чуде – о том самом «Классике», что выставлен в салоне.
– И они отправились в центр и украли «Классик»?
– Увы, нет. Если бы украли, то и горя бы мало. Но они и тут наломали дров. Чтобы добраться до машины, они разбили витрину и подняли тревогу. Теперь вся полиция города гонится за ними по пятам.
– Но ведь Джаспер...
– Они брали его с собой, чтобы он показал им, куда идти.
Харт немного перевел дух.
– И теперь Джаспер прячется от слуг закона.
– В том-то и штука, что он не знает, прятаться ему или нет. С одной стороны, полиция его, наверное, вообще не видела. С другой – а если они сцапают кого-то из кафиан и вытрясут из задержанного всю правду? Тогда вам, Кемп Харт, придется держать ответ за многое...
– Мне? Я-то тут при чем?
– А разве не вы сказали, что Джаспер – тот, кто им нужен? И как только вы ухитрились заставить их поверить в такую чушь?
– Без труда. Вспомните, что втолковывал нам Джаспер. Все, кроме нас, всегда говорят правду. Мы – единственные, кто умеет лгать. Пока они не поумнеют, общаясь с нами, они будут верить каждому нашему слову. Поскольку все остальные всегда говорят правду и только правду...
– Да замолчите вы! – перебила его Анджела. Потом осмотрелась и спросила: – А где ваше милое одеяльце?
– Куда-то делось. Надо полагать, удрало. Когда я вернулся домой, его уже не было.
– Вы хоть разобрались, что это такое?
Харт покачал головой.
– Может, и к лучшему, что оно убежало,– сказал он.– Меня от него, признаться, мутило.
– Вы прямо как док Жуйяр. Кстати, о нем. Положительно весь наш квартал сошел с ума. Док, вдребезги пьяный, валяется в парке под деревом, и его стережет пришелец. Никого и близко не подпускает. Не то охраняет его, не то считает своей собственностью, не поймешь.
– А может, это один из его сиреневых слонов? Мерещились ему так часто, что в конце концов ожили?
– Оно не сиреневое, и это не слон. Ступни у него перепончатые, удивительно крупные, и длиннющие паучьи ноги. И вообще оно похоже на паука, а кожа вся в бородавках. Треугольная голова с шестью рогами. Глянешь – мурашки по спине...
Харт пожал плечами. Обычных инопланетян переварить не так уж трудно, но, конечно, если такое пугало...
– Интересно, чего оно хочет от дока.
– Никто, по-видимому, не знает. А оно не рассказывает.
– А если не может?
– Все другие пришельцы могут. По крайней мере могут изъясняться настолько, чтобы их поняли. Иначе они вообще сюда не прилетали бы.
– Звучит логично,– согласился Харт,– А если оно решило нализаться задаром, сидя рядом с доком и вдыхая перегар?
– Знаете, Кемп, подчас ваши шуточки становятся совершенно невыносимыми,– заявила Анджела.
– Вроде намерения писать от руки.
– Вот именно,– подтвердила Анджела,– Вроде намерения писать от руки. Вам известно не хуже, чем мне, что в приличном обществе о таких вещах просто не говорят. Писать от руки – все равно что есть пальцами, или ковырять в носу, или выйти на улицу нагишом...
– Хорошо,– сдался Харт,– хорошо. Больше я никогда не заикнусь об этом.
Когда она ушла, он опустился на стул и принялся обдумывать создавшееся положение всерьез.
Во многих отношениях он будет теперь походить на Джаспера, но можно ли возражать против этого, если он начнет писать, как Джаспер!
Придется научиться запирать дверь. Он стал ломать себе голову: где ключ? Он никогда не пользовался ключом; теперь при первом удобном случае надо будет переворошить все в столе – а вдруг отыщется? Если нет, придется заказать новый ключ: не хватало еще, чтобы кто-нибудь вперся в комнату без предупреждения и застал его с одеялом на плечах или с пером в руке.
«Пожалуй,– мелькнула мысль,– неплохо бы переехать на новую квартиру. В самом деле, как прикажете объяснить людям, отчего я ни с того ни с сего стал запираться на ключ?» Но даже подумать о переезде было и то нестерпимо. Пусть комната плохонькая, но он к ней привык, и иной раз она казалась ему почти родным домом.
А что, если, когда он успешно продаст первые две-три вещицы, потолковать с Анджелой и выяснить, как она отнесется к предложению переехать вместе с ним? Анджела – славная девочка, но можно ли просить ее связать свою судьбу с человеком, который сам не ведает, на что в следующий раз купить себе хлеба? Однако впредь, даже если он не продаст ни строчки, заботиться о хлебе насущном ему уже не придется. «Любопытно,– подумал он вскользь,– можно ли поделить одеяло как кормильца на двоих? И удастся ли в конце концов внятно объяснить все это Анджеле?..»
Но как, скажите на милость, ухитрился тот забытый автор в далеком 1956-м додуматься до такого? И сколько еще шальных идей, рожденных причудливой игрой ума и парами виски, могут на поверку оказаться правильными?
Мечта? Озарение? Проблеск грядущего? Не важно, что именно: просто человек подумал об этом, и оно сбылось. Сколько же других небылиц, о которых люди думали в прошлом и подумают в будущем, в свой срок тоже обернутся истиной?
Догадка даже испугала его.
Те самые «путешествия в дальние места». Полет, воображения. Влияние печатного слова и сила мысли, определяющая это влияние. «Книги куда опаснее крейсеров»,– сказал он вчера. Как он был прав, как бесконечно прав!..
Он поднялся, пересек комнату и встал перед сочинителем. Тот злобно оскалился. В ответ Харт показал машине язык и произнес:
– Вот тебе!
Тут он услышал за спиной легкий шелест и поспешно обернулся. Одеяло ухитрилось каким-то образом просочиться из ящика и устремилось к двери, опираясь на нижние складки своего хрупкого тельца. На ходу оно колыхалось и дергалось, словно раненый тюлень.
– Эй, ты! – завопил Харт и потянулся к двери.
Но поздно. В дверях стояло чудище – другого слова не подберешь. Одеяло подскочило к нему, быстро скользнуло вверх и распласталось у него на спине. Чудище, обращаясь к Харту, прошипело:
– Я потерял это. Вы были добры отыскать. Благодарю...
Харт утратил дар речи.
И было от чего. Ни дать ни взять – тот самый пришелец, какого Анджела видела рядом с доктором, только еще более страшный, чем по описанию. У него были перепончатые лапы втрое большего размера, чем требовалось по росту,– казалось, он надел снегоступы. И еще у него был хвост, неизящно загнутый до середины спины. И еще дынеобразная голова с треугольным лицом и шестью рогами, и на кончике каждого из шести рогов сидел вращающийся глаз.
Чудище залезло в сумку, которая, видимо, являлась частью его тела, и вытащило пачку банкнотов.
– Небольшая награда,– возвестило оно и кинуло банкноты Харту. Тот машинально протянул руку и подхватил их,– Мы уходим вдвоем,– добавило чудище, помолчав,– Мы уносим в нашей памяти добрые мысли...
Оно совсем уже переступило порог, когда протестующий вопль Харта заставил его обернуться.
– Да, благородный сэр?
– Это одеяло... Эта штука, которую я нашел... Что это?
– Мы ее сделали.
– Но она живая, и кроме того...
Чудище только усмехнулось в ответ.
– Вы такие умные люди. Вы сами ее придумали. Много времен назад.
– Неужели тот самый рассказ?
– Непременно. Мы про нее прочитали. Мы ее сделали. Очень умная мысль.
– Не хотите же вы сказать, что и в самом деле...
– Мы биологи. Как вы назвали бы такую науку – биологическая инженерия.
Чудище повернулось и двинулось прочь по коридору. Харт крикнул вдогонку:
– Эй, минуточку! Постойте! Одну мину...
Но оно удалялось очень ходко и не остановилось. Харт, грохоча каблуками, припустил за ним. Добежав до площадки, глянул вниз через перила, никого не увидел. И все равно устремился вниз, перескакивая через три ступеньки и решительно пренебрегая всеми правилами безопасности.
Он не догнал пришельца. Выскочив из дома на улицу, притормозил и осмотрелся по сторонам, но от незваного гостя не осталось и следа – исчез, как в воду канул.
Тогда Харт полез в карман и ощупал пачку банкнотов, пойманных на лету. Вытащил ее целиком – она оказалась толще, чем ему помнилось. Сорвав эластичную опояску, взглянул на деньги повнимательнее. Достоинство верхней купюры, в галактических кредитах, оказалось таково, что он едва устоял на ногах. Поспешно перелистал всю пачку – остальные купюры были вроде бы того же достоинства.
При одной мысли о подобном богатстве Харт задохнулся и перелистал пачку еще раз. Нет, он не ошибся – купюры действительно были одного достоинства. Проделал в уме беглый подсчет – результат получился прямо-таки ошеломляющим. Даже если считать в кредитах, а ведь каждый кредит при обмене равнялся примерно пяти земным долларам.
Ему случалось видеть кредиты и раньше, но до сих пор не доводилось держать их в руках. Они служили основой галактической торговли и широко применялись в межзвездных банковских операциях, а в повседневное обращение если и попадали, то редко. Он взвесил их в руке и внимательно рассмотрел – да, они были прекрасны.
«Чудище, по-видимому, безмерно ценит свое одеяло,– подумал он,– если отвалило такую фантастическую сумму за то, что кто-то элементарно позаботился о нем». Хотя, если разобраться, могут быть и другие объяснения. Уровень благосостояния от планеты к планете разнится чрезвычайно сильно, и богатство, которое он сейчас держал в руках, владелец одеяла, быть может, предназначал на мелкие расходы...
С удивлением Харт обнаружил, что не ощущает ни особого волнения, ни счастья, как, по идее, должно бы быть. Единственное, о чем он, кажется, еще способен был думать,– что одеяло для него потеряно.
Он запихнул деньги в карман и перешел через улицу в маленький парк. Жуйяр уже проснулся и сидел на скамейке под деревом. Харт присел рядом.
– Как чувствуете себя, док? – спросил он.
– Превосходно, сынок,– отвечал старик.
– Видели вы пришельца, похожего на паука в снегоступах?
– Был тут один какой-то не так давно. Просыпаюсь, а он меня ждет. Хотел узнать про ту штуку, что вы нашли.
– И вы сказали?
– Конечно. А почему бы и нет? Он объяснил, что ищет ее. Я подумал, что вы будете счастливы сбыть ее с рук.
Какое-то время оба сидели молча. Потом Харт спросил:
– Док, что бы вы сделали, если бы получили миллиард долларов?
– Я,– ответил доктор без малейшего колебания,– упился бы до смерти. Да, сэр, я бы упился до смерти, но настоящим зельем, а не той бурдой, какой торгуют в этой части города...
«И все покатилось бы как заведено,– подумал Харт,– Док упился бы до смерти. Анджела принялась бы шляться по художественным салонам и домам моделей. Джаспер, более чем вероятно, купил бы себе домик в горах, где мог бы уединяться без помехи. А я? Что сделаю я сам с миллиардом долларов плюс-минус миллион?..»
Ещё вчера, сегодня ночью, два часа назад он заложил бы душу за сочинитель модели «Классик».
Сейчас «Классик» казался форменным старьем и преснятиной.
Потому что открылся новый, лучший путь – путь симбиоза, путь сотрудничества человека с инопланетной биологической конструкцией.
Харт припомнил готическую рощу и господствующее над ней ощущение вечности и даже здесь, при ярком свете дня, вздрогнул при воспоминании о несказанной красоте, что возникла среди деревьев.
«Воистину,– сказал он себе,– такой способ сочинять куда лучше: познать явление самому и тогда уже описать его, пережить свой сюжет самому и тогда уже изложить его...»
Но он утратил одеяло и не представлял себе, где взять другое. И даже если бы узнать, откуда они берутся, он все равно бы не ведал, как приобрести хоть одно одеяльце в личную собственность.
Инопланетная, чуждая биологическая конструкция – и все же не до конца чужая: ведь впервые о ней подумал безвестный автор много лет назад. Автор, который писал, как Джаспер пишет и сегодня,– скрючившись над столом, лихорадочно перенося на бумагу слова, сплетающиеся в мозгу. И никаких тебе сочинителей, ни фильмов, ни перфолент, ни прочих механических приспособлений. Но сумел же этот не известный никому человек преодолеть мглу времени и пространства, коснуться мыслью иного безвестного разума – и одеяло появилось на свет столь же неминуемо, как если бы человек изготовил его собственными руками!
Не в том ли и состоит величие человечества, что оно способно призвать себе на помощь воображение – и в один прекрасный день все воображаемое сбудется?
А если так, то вправе ли человек передоверить свое призвание поворотным рычагам, вращающимся колесикам, умным лампам и потрохам машин?
– У вас, случаем, не найдется доллара? – спросил Жуйяр.
– Нет,– ответил Харт,– доллара у меня нет.
– Вы такой же, как все мы, грешные,– сказал старик,– Мечтаете о миллиардах, а за душой ни цента...