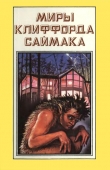Текст книги "Все повести и рассказы Клиффорда Саймака в одной книге"
Автор книги: Клиффорд Саймак
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 207 (всего у книги 216 страниц)
– Но это ведь тоже случилось много месяцев назад, – вставил третий собеседник.
– Они проводили опыты, – предположил Саттон. – Выясняли, что им по плечу. Как далеко они могут зайти. Вот результат: они могут остановить генератор. Могут спутать наши расчеты и оценки. Могут вынудить людей к самоубийству. Бог знает, что еще они могут. Недельки через две, через три узнаем и мы. Да, между прочим, хотелось бы разобраться, какой выдающийся идиот решил расположить штаб-квартиру всей операции именно в этом мире?
– Тут было много соображений, – сказал Гейл. – Прежде всего, место казалось безопасным. Если бы наши противники надумали захватить нас врасплох…
– Да вы с ума сошли! – крикнул Саттон. – Какие противники? Нет у вас никаких противников, откуда им взяться?
Латимер быстро прошел краем вестибюля, приоткрыл внешнюю дверь и осторожно протиснулся наружу. Обернувшись через плечо, убедился, что трое по-прежнему у стола. Саттон продолжал кричать, стуча кулаком по столешнице. Гейл заорал в ответ, и голос его на миг перекрыл рык Саттона:
– Ну как было заподозрить, что здесь развился разум? В мире безмозглых ящериц…
Латимер прокрался по каменным плитам террасы, сбежал по ступенькам и выбрался на газон. В безоблачном небе плыла полная луна, и мир был по-прежнему полон серебряным колдовством. Воздух был мягок, свеж и чист, удивительно чист.
Но он теперь едва ощущал колдовство и даже свежесть. В создании билась, гудела одна мысль: ошибка! Ему вовсе не место в доме на берегу, произошла ошибка в расчетах. Из первичного мира его похитили только под гипнозом разумных рептилий, населяющих мир нескончаемого мелового периода. Однако вина за это, понятно без долгих слов, падает не на них, а на его сограждан по первичному миру – на тех, кто высидел схему, согласно которой первичный мир и миры альтернативные следовало полностью избавить от всех, кто противится интересам большого бизнеса.
Пройдя по газону, он поднял взгляд на вершину северного холма. Да, они опять были там – вереница коренастых фигурок, согбенных, ящероподобных, мрачно взирающих сверху вниз на пришельцев, которые осмелились осквернить их мир.
Вспомнилось, что еще недавно он, Латимер, обдумывал, как в одиночку сокрушить бесчеловечный проект. Обдумывал, прекрасно сознавая, что это не по силам не только одиночке, но, вероятно, даже специально подобранной группе людей.
А теперь оказалось, что можно не тревожиться. Рано или поздно в недалеком будущем проект будет похоронен. Может быть, поначалу персонал перебросят отсюда в дом на берегу или на другие, как их называют, станции, только бы подальше от этого злополучного здания. Может статься даже, что будет предпринята попытка продолжить проект, построив другую штаб-квартиру в ином, более безопасном мире. Но в лучшем случае человечество выиграет какое-то время – и не исключено, что проекту все-таки крышка. На него уже извели бессчетные миллиарды. Сколько еще миллиардов воротилы первичного мира согласятся вложить в свою затею? Ведь в этом же соль вопроса, в этом смысл любого предприятия в первичном мире: стоит ли овчинка выделки?
Дэвид Латимер повернулся лицом к вершине и к тем, кто расположился на ней. И, залитый колдовским лунным светом, торжественно поднял руку, приветствуя собратьев по разуму.
Он отлично сознавал, сознавал даже в эту минуту, что жест бесполезен – жест для себя, а отнюдь не для согбенных фигурок на вершине, которые не увидят никакого жеста и тем более не оценят. Но при всем при том ему представилось важным сделать этот жест, свидетельствующий, что он, разумный человек, питает искреннее уважение к другим разумным и надеется, что со временем две расы сумеют выработать взаимоприемлемые правила отношений, общий моральный кодекс.
Фигурки на вершине не шевельнулись. А чего еще можно было от них ожидать? Откуда им было знать, что он попробовал безотчетно пообщаться с ними? Да и что им до такого общения? В сущности, он и не пытался общаться, а лишь подал знак, в первую очередь себе, о том, что в данную секунду его обуяли братские чувства…
И едва он подумал о братстве, как на него накатила волна теплоты, окутала его и обняла, – по смутным детским воспоминаниям, именно так тепло было на руках у матери, когда она укладывала его в постель. А затем он тронулся в путь. Его приподняло и понесло, забор под током проплыл где-то внизу, и под ногами заскользил склон крутого холма. Он не испытал испуга: все было как во сне, как в сказке, и рождало в глубине души странную уверенность, что на самом-то деле с ним ничего не происходит, а следовательно, и опасности нет.
Он очутился лицом к лицу с согбенными фигурками, сидящими полукругом, и, хотя сознание было по-прежнему спутанным, как во сне, их можно было хорошо разглядеть. В общем, глядеть было особенно не на что. Они оставались такими же коренастыми и бесформенными, как и с дальнего расстояния. Их тела казались неуклюжими глыбами без каких-либо деталей, различимых при лунном свете, но вот лица – этих лиц Латимеру никогда не забыть. Лица сохраняли треугольные очертания, свойственные рептилиям, однако жесткость треугольных контуров резко смягчали глаза – живые, ясные, исполненные сострадания.
Он вглядывался в эти лица – и все же никак не мог избавиться от сомнений: действительно ли он здесь, в нескольких футах от них, или по-прежнему стоит внизу на газоне, а они сидят, согбенные, на своей верхотуре? Он напрягся, сознательно пытаясь сориентироваться, ощутить почву под ногами, прижаться к ней подошвами, – но нет, старайся не старайся, земли под ногами не ощущалось.
В них не было ничего особенно отталкивающего или пугающего – они внушали легкую брезгливость, и только. Сидят себе скорчившись, нечетким кружком, и пялятся своими добрыми, сострадательными глазами. И все же странным образом, какой он не взялся бы определить, их присутствие чувствовалось ежесекундно. Они не тянулись к нему физически, не пробовали дотронуться – возможно, из боязни, что, если попробуют, он отшатнется; и тем не менее дотягивались до него как-то иначе, словно бы заливали в него, как воду в бутыль, самую суть своего естества.
А потом они заговорили с ним – не голосом, не словами, он не мог бы сказать как, – а может, мелькнула шальная мысль, с помощью того самого естества, которое залили в него.
– Теперь, когда мы познакомились, – заявили они, – мы отсылаем тебя обратно…
И он очутился – где? – в конце вымощенной кирпичом подъездной аллеи, ведущей к дому. За своей спиной он услышал сырые, ветреные шорохи первобытного леса, и в ближних деревьях гортанно перекликались две совы. На широкой лужайке росли могучие дубы, а под ними стояли элегантные каменные скамьи, на которых, судя по их виду, никто никогда не сидел.
Дом на берегу. Они вернули его в дом на берегу, а не в штаб-квартиру, не в засаженную травой загородку под холмом в мире, где меловой период никогда не кончался и не кончится.
Они вернули его сюда, но он чувствовал, что естество, которое в него закачали уродцы, согбенно усевшиеся кружком на вершине, сохранилось и бурлило внутри – и источало знание и комфорт.
Он спросил себя: кто они? Полиция, а может, беспристрастные судьи? В любом случае они и в будущем станут следить за потугами воротил, которые ищут для себя монопольных выгод на альтернативных мирах, открытых ныне для человечества и, наверное, для многих других разумных рас. Следить и при необходимости вносить коррективы с тем, чтобы эти миры не пали жертвой межнациональных финансовых устремлений расы, впервые их открывшей, а были неотъемлемым достоянием всех – вероятно, все-таки немногих – разумных видов, развившихся на всех мирах. Станут следить, в частности, и за тем, чтобы любой мир использовался мудрее, чем люди использовали свой родной первичный мир.
И они не сомневаются ни на миг, что это может быть и будет сделано. Более того, они уверены, что это неизбежно случится, что в грядущие годы люди и другие разумные расселятся по райским мирам, о которых упоминал Саттон, и что с мирами, поджидающими поселенцев, будут обращаться с бережностью, человечеству доселе не свойственной. Потому что диковинные согбенные стражи рассядутся на множестве холмов во всех мирах и повсюду будут нести свою неусыпную вахту.
«Можно ли им доверять?» – подумал он и устыдился собственной мысли. Ведь они заглянули ему в глаза, а затем поделились с ним своим естеством и вернули его сюда, а не в укрепленный лагерь в меловом периоде. Они знали, они разобрались, где ему будет лучше всего. А раз так, то, несомненно, разберутся и во всем остальном.
Он пустился по аллее быстрым шагом, клацая каблуками по кирпичам. Как только он подошел к крыльцу, дверь распахнулась и на пороге вырос слуга в ливрее.
– Вы опаздываете, – произнес дворецкий. – Остальные ждали вас, ждали, но только что сели обедать. Суп наверняка еще не простыл.
– Виноват, – ответил Латимер. – Меня задержали непредвиденные обстоятельства.
– Кое-кто полагал, что надо пойти поискать вас, но мистер Джонатон сумел их отговорить. Он заверил, что с вами все будет в порядке. Заявил, что у вас есть голова на плечах. И выразил уверенность, что вы вернетесь. – Пропустив Латимера внутрь, дворецкий закрыл за ним дверь и добавил: – Все будут счастливы убедиться, что вы в самом деле вернулись.
– Благодарю вас, – откликнулся Латимер.
И, стараясь не слишком спешить, подавляя вскипающую в душе радость, двинулся к гостиной, откуда доносились веселый смех и оживленная болтовня.
Брат
Он как раз отдыхал в кресле-качалке посреди вымощенного плитами дворика, когда проезжавшая по дороге машина остановилась перед воротами. Выбравшийся оттуда совершенно седой незнакомец открыл калитку и зашагал по дорожке к дому, едва заметно шаркая ногами.
«Старик, – отметил про себя сидевший в качалке, – не такой древний, как я, но тоже старик».
– Вы Эдвард Ламберт? – спросил приезжий, остановившись перед ним.
Он кивнул.
– Я Теодор Андерсон из Мэдисонского университета.
– Садитесь, пожалуйста. – Ламберт указал на второе кресло. – Далековато забрались.
– Да не очень, – хмыкнул Андерсон. – Всего миль сто.
– По мне, так и это много. Я ни разу в жизни не забирался дальше чем за двадцать миль. Космопорт за рекой – конечная точка моих странствий.
– И часто вы навещаете космопорт?
– Одно время – частенько, когда был помоложе. Теперь уж нет. Прибывающие и отлетающие корабли прекрасно видны отсюда.
– А вы сидите и смотрите?
– Раньше – да, но теперь и с этим покончено. Так, брошу порой взгляд, но больше не слежу за ними.
– Насколько я понимаю, у вас есть брат и сейчас он в космосе.
– Ну да, Фил. Из всей нашей семьи лишь он подался в странствия. Нас было двое. Идентичные близнецы, знаете ли.
– Вы встречаетесь? То есть он ведь должен время от времени вас навещать?
– Бывал. Всего раза три или четыре. А в последние годы так и вовсе не появлялся – со времени его последнего визита прошло лет двадцать. Он вечно торопился, задерживался лишь на денек-другой, и всякий раз у него в запасе были грандиозные истории.
– Но вы-то сами все это время никуда не выезжали? По вашим словам, дальше двадцати миль от дома вы не забирались?
– Было время, когда я хотел отправиться с ним, но не мог. Мы появились на свет довольно поздно и были еще молоды, когда родители уже состарились. Кто-то из нас должен был остаться с ними. А когда их не стало, я уже сам не мог уехать – слишком большой частью моей жизни стали и здешние холмы, и леса, и речушки.
– Понимаю, – кивнул Андерсон. – Это отчетливо видно в ваших работах. Вы стали пасторальным певцом нашего столетия. Я цитирую чужие слова, но вы наверняка с ними знакомы.
– Писатель-натуралист, – хмыкнул Ламберт. – Некогда это было великой американской традицией. Когда я только начинал писать на эту тему лет пятьдесят назад, она давно вышла из моды, а теперь снова стала популярной. Каждый дурак, способный связать два слова, пишет о природе.
– Но никому это не удается так хорошо, как вам.
– Я просто занимался этим дольше других, у меня больше опыта.
– Ныне возникла великая нужда в вашем творчестве. Это остатки почти утраченного нами наследия.
– Пожалуй, – кивнул Ламберт.
– Возвращаясь к вопросу о вашем брате…
– Минуточку, пожалуйста, – перебил Ламберт. – Вы обрушили на меня град вопросов без всякой предварительной подготовки, не поговорив даже о погоде и не затевая обычного обмена любезностями. Просто ввалились сюда и выложили свои вопросы. Да, конечно, вы представились и сказали, что вы из университета, – и только. Мистер Андерсон, сообщите, просто для сведения, кто же вы такой.
– Ах да, простите! Признаюсь, я проявил недостаток такта, хотя он является непременным атрибутом моей профессии и мне не следует забывать о его значении. Я преподаю на факультете психологии и…
– Психологии? – недоверчиво переспросил Ламберт.
– Да, психологии.
– Я-то думал, что вы преподаете литературу, экологию или, скажем, что-нибудь имеющее отношение к окружающей среде. Какой резон психологу толковать с писателем-натуралистом?
– Пожалуйста, будьте снисходительны, – взмолился Андерсон. – Просто я подошел к делу не с той стороны. Давайте по порядку: я приехал поговорить с вами о брате.
– Какое вам дело до моего брата? Где вы о нем услышали? Здешние о нем знают, но больше никто. А в своих книгах я ни разу о нем не упоминал.
– Прошлым летом я приезжал сюда порыбачить. Моя палатка стояла всего в нескольких милях отсюда – тогда-то я и услышал.
– И кое-кто из ваших собеседников утверждал, что никакого брата у меня нет.
– Вот именно. Видите ли, последние пять лет я исследую вопрос…
– Уж и не знаю, – перебил Ламберт, – откуда пошли слухи, что у меня нет брата. Лично я не обращаю на них внимания и не возьму в толк, с чего бы это вам…
– Мистер Ламберт, простите, пожалуйста. Я поднял регистрационные книги округа и данные переписи населения, но записи о рождении вашего брата…
– Я помню ясно, будто это было только вчера, – не слушая его, начал Ламберт, – день, когда брат покинул родные места. Мы работали в амбаре, вон там, через дорогу. Амбаром больше никто не пользуется, и, как видите, он почти развалился. Но тогда мы им еще пользовались – отец возделывал вон тот луг у ручья. Земля была щедрой – да и теперь щедра, если кто-то потрудится ее возделать, – и давала самые чудесные урожаи кукурузы, какие только могут быть. Здешняя земля родит лучше, чем прерии Айовы, лучше всех земель на свете. Я многие годы возделывал ее после смерти отца, но уже больше десяти лет не занимаюсь крестьянским трудом, распродал весь инвентарь и технику. Теперь я содержу лишь небольшой огород для своих нужд. Он совсем невелик, большой мне и не требуется. Там только…
– Вы рассказывали о своем брате, – напомнил психолог.
– Ах да, конечно! Однажды мы с Филом работали в амбаре. День был дождливый, точнее, просто моросил мелкий дождик. Мы чинили упряжь… Да, конечно, упряжь. Наш отец во многих отношениях был чудаком, например, техникой он пользовался лишь тогда, когда обойтись без нее было нельзя. У нас никогда не было трактора – он считал, что лошади лучше. И действительно, для таких маленьких участков не существует лучшей тягловой силы, чем лошадь. Я и сам имел лошадей, но пришлось их продать, хотя сердце у меня разрывалось, ведь я по-настоящему любил их. Ну вот, чинили мы упряжь, и тут Фил ни с того ни с сего заявляет, что отправляется в порт и постарается наняться на корабль. Мы и раньше от случая к случаю толковали об этом, оба бредили странствиями, но, когда Фил заявил, что уходит, это оказалось для меня полнейшей неожиданностью. Я и не предполагал, что он решится на такое. Понимаете, в те дни, более пяти десятилетий назад, в воздухе носилось особое настроение: тут и острота момента, и обстоятельства, новизна и увлекательность путешествий к иным мирам. В прошлом было такое время, когда мальчишки удирали из Новой Англии в море, а пятьдесят лет назад они удирали в космос…
Рассказывая, он вспомнил тот день. Воспоминание было живым, словно, как он и сказал Андерсону, это было только вчера. Видение было ясным и ощутимым, вплоть до затхлого аромата прошлогоднего сена. Под кровлей амбара ворковали голуби, а на пастбище у холма мычала одинокая корова. В стойле топали копытами лошади, негромко похрустывая остатками сена в яслях.
«Вчера ночью я решился, – сказал Фил, – но не говорил тебе, пока не созрел для окончательного шага. Разумеется, можно обождать, но тогда есть риск, что я так никуда и не выберусь. Я не хочу прожить всю жизнь здесь, жалея, что не решился уйти. Скажи отцу, а? Когда я уйду. Поближе к вечеру, чтобы я смог отойти подальше».
«Он не станет удерживать тебя, – ответил тогда Эдвард Ламберт, – так что лучше скажи ему сам. Может, он и поспорит, но удерживать не станет».
«Если я скажу сам, то не смогу уйти. Я увижу его глаза – и не смогу. Эд, сделай это для меня, а? Скажи отцу сам, чтобы мне не пришлось глядеть ему в глаза».
«А как ты проберешься на корабль? Им не нужен желторотый деревенский парнишка. Туда берут подготовленных людей».
«Всегда найдется готовый к отлету корабль, на котором недостает одного-двух членов экипажа. Корабль не станет ждать их или попусту тратить время на розыски. Возьмут любого, кто подвернется под руку. Через день-другой я найду такой корабль».
Ламберт снова вспомнил, как стоял в дверях амбара, глядя вслед хлюпающему по лужам брату, силуэт которого постепенно растворялся в туманной мороси. Вот серая пелена сеявшегося с небес дождика совсем поглотила его, но Ламберту еще долго казалось, что вдали виднеется крохотная фигурка бредущего по мокрой дороге брата. От воспоминаний вновь стеснило грудь, подкатил под горло комок и навалилась жуткая, сокрушительная тяжесть потери, горестного расставания; будто утратил часть себя, будто душу разъяли надвое, будто здесь осталась лишь половина.
– Мы были близнецами, – сказал он Андерсону, – и притом идентичными. Мы – не просто братья, это куда более глубокая связь. Каждый был частью другого. Мы все делали вместе. Я воспринимал его как себя, а он – меня. Филу потребовалось немалое мужество, чтобы вот так просто уйти.
– А вам потребовалось немало мужества и понимания, чтобы отпустить его… Но ведь он вернулся?
– Ненадолго и только после смерти родителей. И в тот раз он пришел пешком, точь-в-точь как уходил. Но задерживаться не стал. Побыл денек-другой, и ушел – уж очень его тянуло обратно. Сидел как на иголках, пока был дома. Будто что-то гнало его отсюда.
«Пожалуй, не совсем так, – подумал Ламберт про себя. – Он весь был на нервах, какой-то дерганый. То и дело оглядывался, будто кого-то опасался и проверял, не появился ли Преследователь».
А вслух сказал:
– Он приезжал еще несколько раз с интервалом в пару лет, но никогда не задерживался надолго. Рвался обратно.
– А как вы объясняете возникновение слухов, что у вас нет брата? – поинтересовался Андерсон. – Как вы объясняете отсутствие соответствующих записей?
– Да никак не объясняю. Чего только люди не наговорят. Глупые россказни могли начаться с элементарного вопроса: «А, вы про его брата? Да есть ли у него брат? Может, его никогда и не было?» Другие подхватывают вопрос, заменяют его утверждением, добавляют кое-что от себя – и пошло-поехало. В здешних местах поговорить почти не о чем, и люди хватаются за любую подходящую возможность. А судачить об этом старом дураке из долины, вообразившем, что у него есть брат, и прожужжавшем всем уши насчет несуществующего брата, странствующего среди звезд, – дело весьма увлекательное. Хотя, по-моему, я никому не навязывался с рассказами о брате и никогда не спекулировал его именем.
– А как быть с записями? Точнее, с их отсутствием?
– Просто не знаю. Я этим не интересовался. Видите ли, я просто знаю, что у меня есть брат, и все.
– А вы не хотели бы побывать в Мэдисоне?
– Да как-то не рвусь. Я редко отсюда выбираюсь. Машины у меня уже нет, а когда надо съездить в магазин за тем немногим, в чем еще нуждаюсь, я просто напрашиваюсь в попутчики к кому-нибудь из соседей. Мне и здесь хорошо; я не питаю желания побывать в иных краях.
– И вы жили здесь в одиночестве со времени смерти родителей?
– Именно так. Однако вы зашли чересчур далеко. Я не испытываю к вам особой симпатии, мистер Андерсон. Или следует сказать «доктор»? Пожалуй, что так. Я не намерен ехать в университет, чтобы отвечать на ваши вопросы или подвергаться тестам ради ваших исследований. Не знаю, что интересует вас, но мне лично это ни капельки не интересно. У меня есть дела поважнее!
– Извините, – сказал Андерсон, вставая. – Я вовсе не собирался…
– Вам не за что извиняться.
– Не хочется уходить вот так. Я предпочел бы, чтобы наш разговор завершился на более благожелательной ноте.
– Не беспокойтесь. Забудем об этом – лично я намерен поступить именно так.
Гость ушел, а Ламберт продолжал сидеть в кресле, глядя на дорогу. Время от времени мимо проезжали машины, но совсем редко – этой дорогой почти не пользуются. Она никуда не ведет, являя собой всего лишь навсего путь к нескольким домам, расположенным в долине и среди холмов.
«Что за хамство, – думал он, – что за невежество! Вот так ворваться в дом к человеку и начать задавать подобные вопросы! А его исследования, должно быть, касаются иллюзий людей преклонного возраста. Хотя и необязательно; с равным успехом они могут касаться любой другой подходящей темы. И нечего расстраиваться, для этого нет никакого повода. Все пустяки. Дурным манерам придают значение лишь их обладатели».
Сидя в своем вымощенном плитами дворике, он тихонько покачивался взад-вперед, прислушиваясь к жалобному поскрипыванию кресла и озирая долину за дорогой и замыкающий ее холм. Где-то там с журчанием бежит по склону ручей, взбивая бурунчики на камнях и закручиваясь воронками в глубоких заводях. С этим ручьем у Ламберта было связано очень много воспоминаний. Там они с Филом длинными жаркими летними днями ловили голавлей, привязывая леску к кривым ивовым веткам, потому что нормальное удилище было им не по карману. Впрочем, будь даже у них деньги, роскошное снаряжение здесь просто ни к чему. По весне огромные косяки рыбы устремлялись вверх по ручью к местам нереста. Эдвард с Филом ловили ее сделанным из рогожного мешка кошельковым неводом, закрываться которому не давал обруч от бочонка.
Воспоминания были связаны не только с ручьем, но и со всем этим краем – с высящимися повсюду холмами, со скрытыми от взора ложбинками, с густыми лиственными лесами, отступившими только в тех немногих местах, где более-менее ровные площадки были раскорчеваны под пашню. Ламберт назубок знал каждую здешнюю тропинку со всеми ее закоулками, знал, что где растет и кто где живет. Ему были открыты многие потаенные секреты тех нескольких квадратных миль земли, где довелось родиться и жить, – но далеко не все. Не родился еще на свет человек, которому ведомы все тайны земли.
«Мне достался лучший из двух миров», – мысленно признался он. Именно из двух, ибо ни Андерсону, ни кому-либо другому Ламберт не открыл бы своей сокровенной тайны. С Филом его связывают особые узы. Эта связь никогда не казалась им странной, потому что существовала чуть ли не с самого момента рождения. Даже находясь вдали друг от друга, каждый знал, чем сейчас занят брат. Сами они не находили в этом ничего удивительного, воспринимая все как данность. Много лет спустя Ламберт прочитал в научных журналах об исследованиях идентичных близнецов. Статьи были полны высокопарных рассуждений о телепатических способностях пар, будто идентичные близнецы по сути дела являются одним человеком в двух телесных воплощениях.
Скорей всего, у них с Филом именно так все и обстояло, хотя замешана ли здесь телепатия? Об этом Ламберт даже не задумывался, пока в руки ему не попали те журналы. «Вряд ли это то же самое, что и телепатия, – думал он, покачиваясь туда-сюда. – Насколько я понимаю, телепатия – это намеренная передача и прием мысленных сообщений, а мы просто знали, где другой и чем он сейчас занят». И так было не только в юности – с той поры ничего не изменилось. Не то чтобы они постоянно воспринимали друг друга или состояли в контакте, но такое случалось довольно часто.
С той самой поры, когда Фил пешком ушел из дому, и по нынешний день Ламберт всегда знал, на каких планетах побывал брат и на каких летал кораблях. Он глазами Фила видел происходящее, разумом Фила оценивал события и даже знал названия всех мест, где побывал брат. Все это приходило не через слова; они не разговаривали друг с другом – ведь в этом не было никакой нужды. И хотя Фил ни разу не высказывал этого вслух, Ламберт не сомневался, что тот точно так же видит мир глазами брата. Даже во время приездов Фила они не обсуждали этот вопрос – для обоих это было органичной частью бытия, и не о чем тут говорить.
Ближе к вечеру к воротам подкатила потрепанная машина. Мотор несколько раз чихнул и заглох. Из машины с небольшой корзинкой в руках выбрался Джейк Хопкинс, живущий чуть выше по ручью. Подойдя к свободному креслу, он поставил корзинку на плиты, уселся и сказал:
– Кэти шлет каравай хлеба и ежевичный пирог. Это, почитай, последняя ежевика. Что-то нынче она не уродилась – лето выдалось чересчур засушливое.
– Сам я в этом году по ежевику почти не ходил; выбрался разок-другой, и все, – ответил Ламберт. – Самый лучший ежевичник находится во-он на том гребне, а склоны холма становятся с каждым годом все круче, готов присягнуть.
– Они становятся круче для каждого из нас, Эд. Ты да я изрядно пожили на этом свете.
– Поблагодари Кэти от моего имени. Никто не умеет так печь пироги, как она. Лично мне лень затевать хлопоты с пирогами, хотя я их просто обожаю. Разумеется, без стряпни не обойтись, но с выпечкой слишком много возни, да и времени уходит немало.
– Ты ничего не слыхал о новой твари, бегающей на холмах? – поинтересовался Хопкинс.
– По-моему, это очередная лесная байка, Джейк, – хмыкнул Ламберт. – Время от времени, пару раз в год, кто-нибудь начинает распускать подобные россказни. Помнишь слух о болотном чудовище в Милвилле? Газеты в Милуоки тут же его подхватили, и какой-то техасский охотник-спортсмен примчался со сворой собак. Он целых три дня блуждал по милвиллским болотам, лишился одной собаки из-за гремучей змеи – и что же? Ни разу в жизни, скажу я тебе, не встречал я более рассерженного человека. Он решил, что его просто-напросто провели. Да так оно, пожалуй, и было на самом деле. Ведь никакого чудовища не было и в помине. Вспомни множество слухов о медведях и пумах, а ведь в наших краях лет сорок как перевелись и медведи, и пумы. Несколько лет назад какой-то дурак распустил байку о гигантской змее толщиной в бочонок и тридцать футов длиной. За ней охотилась половина округа.
– Ну да, конечно, большинство этих рассказов – чистейший вымысел, но Калеб Джонс сказал мне, что один из его парней видел эту тварь. Бог знает, что это такое: по виду то ли обезьяна, то ли медведь, но на самом деле ни то и ни другое. Мохнатая, и никакой одежды. Калеб считает, что это снежный человек.
– Ну, по крайней мере, это кое-что новенькое. На моей памяти еще никто не видел здесь снежного человека, хотя с Западного побережья поступало множество подобных сообщений. Для появления снежного человека здесь потребовалось какое-то время.
– Просто один из них мог забрести на восток, – предположил Хопкинс.
– Вполне возможно, то есть если таковые вообще имеются, в чем я сильно сомневаюсь.
– Ну, как бы там ни было, мне казалось, что надо сказать тебе, а то ты совсем отрезан от мира. Телефона нет, ничего нет, даже электричества.
– Да не нужны мне ни телефон, ни электричество. Единственное, что подкупает в электричестве, – это возможность подключить холодильник, а в нем я не нуждаюсь. Вполне обхожусь клетушкой, установленной над холодным ключом, – она ни в чем не уступает холодильнику: масло сохраняет там свежесть много недель. Что же до телефона, то он просто не нужен. Мне и говорить-то не с кем.
– Да уж, признаюсь честно, ты справляешься будь здоров даже без телефона и электричества. Устроился лучше большинства наших.
– Мои потребности всегда были невелики, вот и весь секрет. Просто потребности невелики.
– Пишешь новую книгу?
– Я всегда пишу новую книгу, Джейк. Всего-навсего записываю, что видел, что слышал и что обо всем этом думаю. Я буду заниматься этим, даже если мои книги всем наскучат. Я бы занимался этим, даже если б на свете не было книг.
– Ты много читаешь, больше всех.
– Пожалуй, – кивнул Ламберт. – Чтение доставляет мне удовольствие.
«И это действительно так, – подумал он. – Выстроившиеся на полке книги – это толпа друзей, даже и не книг вовсе, а мужчин и женщин, беседующих со мной вопреки разделяющим нас пространствам и временам». Ламберт прекрасно понимал, что его книги не войдут в число бессмертных творений, да и его самого переживут ненадолго, но иногда он тешил себя мыслью, что когда-нибудь, лет этак через сто неведомый потомок наткнется на его книгу, скажем, в букинистическом магазине, возьмет ее в руки и прочтет несколько абзацев. Быть может, она придется читателю настолько по душе, что он купит ее, унесет домой и поставит на полку; а со временем, глядишь, книга перекочует обратно в букинистический, чтобы дожидаться нового читателя.
«Странное дело, – думал он. – Я писал лишь о том, что под боком, о вещах, мимо которых большинство людей прошло бы, даже не заметив, – хотя мог бы писать о чудесах, отдаленных от Земли на многие световые годы, о диковинах, находящихся на иных планетах, кружащих вокруг иных солнц». Но мысль писать о них даже не приходила в голову, ибо эти знания были его личным секретом, не предназначавшимся для посторонних; никому не дозволено вторгаться в существующую между ним и Филом эфемерную связь.
– Земле нужен дождь, – подал голос Хопкинс, – а то пастбища пропадают. Пастбище Джонса почти обнажилось, там уже не трава, а голая земля. Калеб две недели кормит скот сеном, и если не будет дождика, то через недельку-другую мне придется пойти по его стопам. На одном участке початки стоят того, чтобы их собирать, а остальное годится лишь на фураж. Чертовская нелепость, просто в голове не укладывается: работаешь, работаешь год за годом, высунув язык, чтобы в конце концов остаться ни с чем.
Они провели еще около часа в спокойной небрежной болтовне, как и положено деревенским жителям, для которых мелкие здешние проблемы куда важнее прочих. Потом Хопкинс распрощался, заставил мотор своей развалюхи на колесах неохотно затарахтеть и поехал прочь.