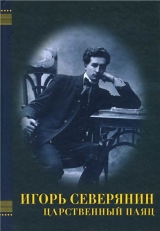
Текст книги "Царственный паяц"
Автор книги: Игорь Северянин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 40 страниц)
купят книжку Северянина, и будет их укачивать ритм этих стихов, как хорошие
рессоры ландо, в котором им никогда не кататься, и забудут о борьбе, забудут о
достижениях настоящей жизни, которая проходит у них мимо носа, забудут о ней,
вдыхая запах «ананасов в шампанском».
Достойная пара, мещане-плебеи наших дней.
Для них пишет Игорь Северянин.
Есть другой плебс, есть толща народа, которая Игоря не признает и, если б узнала,
отвернулась бы с презрением. Это – борющиеся. У них тоже есть тоска по внешней
культуре, но она слишком остра, чтобы
удовлетворяться созерцанием. Такие не пойдут на поэзо-концерты, даже если бы
эти концерты стали им доступны. У них еще нет своего современного поэта. Но если
бы он был, он тоже в значительной степени был бы певцом тоски по внешней культуре.
Ибо это тема – великая. И только благодаря социальной огромности темы выдвинулся
Игорь Северянин, хотя он так вульгарно за эту гему взялся.
Плебейская поэзия может быть ничтожной и великой. Игорь – худшая часть
плебейской поэзии.
Александр Дроздов
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГИ И. СЕВЕРЯНИНА
«Crиme des Violettes », 1919 г., « Puhajogi», 1919 г. и « Вервена», 1920 г.
Три книжки поэта, «покорившего литературу», – одна толстенькая, другая
тоненькая, третья тощенькая брошюра, – иного, пожалуй, и нечего сказать о них. Есть
верстовые столбы, крашеные столь хорошо, что десятилетиями ни солнце, ни ветер, ни
дождь не соскабливают с них краски; также столбы есть и в поэзии нашей. Я не говорю
о мрачных, ярмарочных ужасах чрезвычаек – но даже и психологический сдвиг
народа, сделавшего и несущего революцию, прошел мимо них, никак не слиняв, ни на
полшага не сдвинув, не толкнув к переоценке.
В «Crиme des Violettes» Игорь Северянин собрал избранные стихотворения из
десяти своих книг, в «Вервэне» и «Puhajogi» большинство стихотворений попадаются
на мои глаза впервые, однако нового ничего нет в них: ни настроений, ни тем, ни
техники, кроме двух-трех словообразований, свыше меры причудливых: душа
изустреченная, ум лу– ноизнервленный – деревянные бессонные образы, лишенные
даже северянинской певучести.
Но революция шла, воющая, скрежещущая, многонравная, ее не мог не слышать
поэт. Он слышал. И вот единственные его отклики:
Народ, жуя ржаные гренки.
Ругает «детище» его:
325
Ведь потруднее сбыть керенки,
Чем Керенского самого.
Или:
Как жестко, сухо и жестоко Жить средь бесчисленных гробов,
Средь диких выходцев с востока,
Средь «взбунтовавшихся рабов»!
Но тем не менее поэт благодарен приютившей его Эстонии, ибо:
Благодаря тебе, быть может,
Меня Россия сохранит.
Пусть стонет Россия, пусть народ, жуя ржаные гренки, гниет в голоде и вшах, пусть
ветры революции сдувают его спереди и сбоку – поэт не изменился, не поглупел, но и
не поумнел, не растратил своего богатого лирического таланта, но и не углубил его.
Всякую минуту, с хризантемой в петличке, он готов выйти на эстраду, и беда лишь в
том, что нет аудитории, некому рукоплескать.
В новых книжках Северянина можно сыскать стихи той кисейной нежности, на
которую он большой мастер, но все его гризетки, дачницы, кусающие шоколад, и
соловьи, защитники куртизанок, идут мимо, в лучшем случае утомляя, в худшем
раздражая. И три книжки, лежащие передо мною, – они отзвук старого Петербурга и
старой Москвы, только памятка – в них нет крови, ни плоти тех дат, которые стоят на
их обложках.
Северянин не был бы Северяниным, ежели бы на последних страницах не сообщил
точного отчета, сколько и где было дано им поэзо– концертов за «пять сезонов», в
скольких экземплярах скушала старая Россия книги и какие стихи были переведены на
английский, польский, грузинский и пр. языки.
Роман Гуль
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ И. СЕВЕРЯНИНА «МЕНЕСТРЕЛЬ»
В былые времена bon ton литературной критики требовал бранить Игоря
Северянина. Его бранили все, кому было не лень, и часто среди «иголок шартреза» и
«шампанского кеглей» в его стихах не замечали подлинной художественности и
красоты. А она была,– вспомните: «Это было у моря», «Быть может от того»,
«Хабанера», «Сказание об Ингред» и мн. др.
Правда: Северянину никогда не случалось быть «гением», но справедливость
требует отметить, что в довоенной Москве он был маленьким литературным калифом.
К сожалению для автора – это было очень давно, и теперь выпущенный в свет его
«Менестрель» говорит с совершенной ясностью, что калифство было даже меньше, чем
на час.
Можно дивиться бледности, беспомощности и бездарности вышедшей книги И.
Северянина.
Она – о «булочках и слойках»:
Десертный хлеб и грёзоторт Как бы из свежей земляники,
Не этим ли Иванов горд,
Кондитер истинно великий,
А Гессель? Рик? Rabуn? Ballet?
О что за булочки и слойки,
Все это жило на земле,
А ныне все они покойки!
Или вот – «поэза»:
Раньше паюсной икрою мы намазывали булки,
Слоем толстым и зернистым проникала икра.
Без икры не обходилось пикника или прогулки,
326
Пили мы за осетрину – за подругу осетра.
На этой «изысканности» Северянин, конечно, не успокаивается. Он по-прежнему не
прочь «осудьбить» дев, но когда вспоминаешь в 19 году смелые вихри с эстрады
Политехнического музея:
У меня дворец двенадцатиэтажный!
У меня принцесса в каждом этаже!
Но теперь удивляешься неуверенной немощи поэта, не только в стихе, но даже и в
настроении:
Тебя не взять, пока ты не отдашься.
Тебя не брать – безбрачью ты предашься.
Ах, взять тебя и трудно и легко Не брать тебя – и сладостно и трудно,
Хочу тебя безбрежно глубоко.
И вдруг:
Прости мой жест в своем бесстыдстве чудный...
Все эти поэзы Северянина по своим художественным достоинствам могли бы смело
соперничать с поэзами Капитана Лебядкина:
Порхает звезда на коне В хороводе других амазонок,
Из седла улыбается мне Аристократический ребенок.
О Лебядкине и Северянине можно было бы спорить, если бы «царственный паяц»
не перешел бы в область «мозгогрудочной» поэзии, заявив, что:
Кроме вопросов желудочных И телесных есть ряд мозгогрудочных.
Тут уже спор решается сам собой в пользу Капитана Лебядкина. Вот образцы
«гражданской» поэзии Северянина:
Из тусклой ревельской газеты,
Тенденциозной и сухой,
Как вы, военные галеты,
А следовательно, плохой
Все это утешает мало Того, в ком тлеет интеллект.
Язык богов земля изгнала, Прияла прозы диалект.
Или:
Убийственные дни, не время, а – полезно,
И не цветы цивилизации, а – сено.
И совсем уже становится страшно за поэта, когда среди «булочек», «поленьев»,
«слоек», «грёзотортов» и «сена» он вновь «самопровоз– глашает» и «коронует» себя.
Единственное спасение, по-моему, – это напомнить Северянину, что «всему час и время
всякой вещи под солнцем».
Константин Мочульскнй ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН. МЕНЕСТРЕЛЬ. НОВЕЙШИЕ
НОЭЗЫ
Том XII. Издательство «Москва», Берлин, 1921
Двенадцать томов «поэз», многотысячные издания «Громокипящих кубков»,
«Ананасов в шампанском», «Златолир» и прочих изысков, «удивительно вкусных,
пенистых и острых», солидная критическая литература, триумфальные турнэ по
России, оглушительный успех по– эзо-вечеров, восторженные толпы поклонников и
поклонниц... Разве это не слава? – Разве это не «поэтов русских король»?
Игорь Северянин – гений a priori. Обычно поэт предоставляет критике оценивать
его достоинства, и только в конце творческого пути у него вырастает сознание своих
заслуг. Тогда он воздвигает себе «нерукотворный памятник» – так делали Гораций и
Пушкин. Северянин поступил наоборот: он сначала построил монумент своей
гениальности и славе, а потом стал писать стихи. Он так громко говорил о себе, что в
него поверили:
327
Я повсеградно оэкранен.
Я повсесердно утвержден.
Происхождение этого короля весьма любопытно: его выдумала «кучка» московских
литераторов. Она пошутила над наивным молодым человеком, увенчав его
бутафорской короной. Но эта выходка московских чудаков имела серьезные
последствия. Не только сама жертва свято уверовала в свое призванье – но и заставила
верить в него широкий круг публики. Появление нового бездарного стихотворца,
одержимого манией величья, конечно, не страшно: оно осталось бы незамеченным в
толпе статистов на Парнасе. Страшно то, что дребезжание его «варварской лиры»
нашло отклик в тысячах сердец: страшно
то, что его мишурной короне поклоняются до сего дня. Поэтому творчество И.
Северянина заслуживает внимания как симптоматическое явление нашей культуры, как
показатель эстетического уровня «среднего читателя».
Говоря о культуре, мы обычно учитываем только верхний, последний тонкий слой.
Эта небольшая группа читает Блока и Ахматову, слушает Скрябина, смотрит на
картины Сомова и Судейкина и т. д. Но под первым слоем лежит второй – более
широкий – нашего культурного tiers-йtat. У него своя определенная эстетика, своя
литература (Вербицкая, Нагродская, Лаппо-Данилевская и др.), своя музыка (романсы
Вертинского) и искусство (кинематограф, театры миниатюр и пр.). Tiers-fttat с
любопытством и завистью смотрит вверх: он хочет самого модного, «самого дорогого».
Для него-то изготовляются «поэзы» и «ключи счастья». И. Северянин утолил его
жажду эксцентричного, безумно-дерзкого, пряного и «шикарного». В манерном
раскачивании его berceuse, рондо, триолетов, терцин (какие изысканные названия!), в
звонком щелканьи французских слов (какая образованность!), в мире терминологий
ресторана и бара, кондитерской и cafй-concert’a, в щеголянии словарем косметики,
парфюмерии и модного магазина, в пользовании жаргоном high-life’Horo курорта,
кулис и будуара деми– монденки – воплощается заветная мечта мещанина о
«прекрасной жизни» – деньгах, комфорте и великолепном женском теле в тонком
белье. То же эстетство, которым переболели верхи, тот же эротизм с его «культом тела»
и «свободной любви», только упрощенные и преломленные в романе Вербицкой, в
фильме кинематографа и в романсах вроде «Дышала ночь восторгом сладострастья»,
тот же ресторан Блока с цыганами и «черной розой в бокале золотого как небо Аи»,
только воспринятый не посетителем, а официантом, те же «Шабли во льду,
поджаренная булка и вишен спелых сладостный агат» Кузмина, только
приспособленные ко вкусу менее взыскательного гастронома, те же «ночные чары,
содрогания и крики страсти» Брюсова, только попроще и подешевле. Так поэзия
Северянина препарирует «изыски» символической школы, фабрикуя из них популярное
издание «для всех». (Пора популярить изыски! – Мороженое из сирени). От души
символизма, его веры и тайны, от его провалов в вечность и мистических восхождений
ad realiora в общедоступном издании ничего не осталось. Зато все измышленное,
мертворожденное и лживое вспухло уродливыми нарывами. Пламенный неофит,
Северянин свято верит в свою «красоту». Обнажая язвы учителей, он не глумится над
ними, но своим преклонением он еще подчеркивает их безобразие. Поэт абсолютно
лишен юмора: в своем упоении дорогими винами и пирожными от Berrin – он наивный
комик. Чтобы почувствовать этот пафос шика
и комфорта, нужно проникнуть в психологию приказчика из Гостиного двора, вдруг
вышедшего в люди. Каким заманчивым кажется мир после душного полумрака за
прилавком: как свежи «все впечатления бытия»: и приятная эластичность резинового
ландолета, и ослепительная скатерть ресторанного столика с «графином кристальной
водки и икрой в фарфоре», и конфекты йclair и boule de neige от Gourmets, и женщины
328
«в саке плюшевом желтом» или «шоколадной жакетке», и «роскошь волнующих
витрин, палитра струн и музыка картин». Весь мир, со всеми его ананасами,
морожеными из сирени и женщинами, пахнущими вервеной, – принадлежит поэту.
Отсюда наивная самовлюбленность и наглая самоуверенность parvenu. Северянин
искренно убежден, что вся Россия избрала его королем поэтов. В годину гибели
Родины он озабочен:
Где состоится перевыбор Поэтов русских короля?
Какое скажет мне спасибо Родная русская земля?
И состоится ли? – едва ли,
Не до того моей стране.
(Менестрель, «Самопровозглашение»)
Но раз в стране беспорядки и перевыборы состояться не могут, он принужден сам
себя провозгласить королем. Как преломляется переживаемая Россией трагедия в его
психике? Стихи последнего сборника «Менестрель» дают интересный материал.
Гйбель мира для поэта Ведь не так страшна,
Как искусства гибель. Это Ты поймешь одна.
Живя в Эстляндии, автор следит за «контрастными событиями». «Голодные ужасы в
Вене» бросают его «в холод и дрожь». «А то, что у нас на Востоке, – Почти не
подвластно уму», – но «Мы сыты, мы, главное, сыты. – И значит – для веры бодры».
И в громах мировой катастрофы Северянин верен своему «гастрономическому»
вдохновению. Узнав из газет о гражданской войне в России, он поэтически выражается:
Все это утешает мало Того, в ком тлеет интеллект.
Арестован Сологуб, умер Андреев, Собинов, Репин; автор жалуется, что в России у
него почти не остается друзей, и сообщает нам, что
В России тысячи знакомых.
Но мало близких.
Наиболее комическое впечатление производит его скорбь по поводу гибели
культуры, в которой виноваты «футуристы-кубо» (Автор забыл, что он сам футурист-
эго!) и их царь Бурлюк (!). Финалу стихотворения мог бы позавидовать Кузьма
Прутков: «Позор стране, в руинах храма – Чинящей пакостный разврат».
В другой поэзе он рассказывает, как ходил в крестьянские избы и спрашивал: «Вы
читали Бальмонта, – Вы и Ваша семья?». Получив отрицательный ответ, он жалеет
«Бальмонта, и себя, и страну» и решает, что «стране такой впору погрузиться в волну».
О том. как рисуется Северянину «культурная жизнь», свидетельствует «Поэза для
беженцев». Русская колония в Эстонии огорчает поэта своими «запросами
желудочными и телесными», и он предлагает ей «давать вечера музыкаль– но-поэзо-
вокальные», ставить «пьесы лояльные, штудировать Гоголя, Некрасова» и
«...путешествие знать Гаттерасово» (ради рифмы).
Первые сборники Северянина при всей их вульгарности и пошлой безвкусице были
отмечены мелодическим единством. Напевность Бальмонта сочеталась в них с темпами
полумерных вальсов и цыганских романсов. В «Менестреле» чувствуется полный
упадок и этой дешевой эффектности. Некоторые стихи столь кустарны и косноязычны,
что появление их после многих лет стихотворной практики (12 томов стихов) кажется
невероятным. Шедевром «гражданской лирики» Северянина является «Поэза
Правительству». Приведем из нее две строфы:
Правительство, когда не чтит поэта Великого, не чтит себя само.
И на себя накладывает veto К признанию, и срамное клеймо.
Правительство, лишившее субсидий Писателя, вошедшего в нужду,
Себя являет в непристойном виде И вызывает в нем к себе вражду.
Трудно поверить, что это не пародия. Такая поэтическая безграмотность (ни ритма,
329
ни даже синтаксиса) в связи с духовными убожеством – ниже уровня творчества
раешников и дядей Михеев. Кроме стихов, посвященных «гражданским мотивам», мы
находим в сборнике ряд любовных произведений: «Терцины-колибри», неизбежный
«Малиновый berceuse», сонеты, рондели, рондо, газеллы, ноны, секстины дэ – полная
коллекция утонченных стереотипных форм. Но ка-
ким доморощенным содержанием наполнены их благородно-хрупкие очертания.
Картофель – тысяча рублей мешок.
В продаже на фунты... Выбрасывай балласт.
(Секстина XI)
Одна терцина оканчивается в стиле античных пародий К. Пруткова:
Люби меня, натуры не ломая.
Бери меня. Клони скорее ниц.
В других старинных размерах есть ловкость жонглера, известное техническое
умение; но полное отсутствие чувства стиля и культуры слова делают эти произведения
образцами ложного жанра.
В творчестве И. Северянина в искаженном и извращенном лике изживается
культура русского символизма. Давно исчезнувшая на верхах, она просочилась
мутными струями в низший слой и страшным оборотнем живет в нем и поныне.
Солнечные дерзания и «соловьиные трели» Бальмонта, демоническая эротика Брюсова,
эстетизм Белого, Гиппиус и Кузмина, поэзия города Блока – все слилось во
всеобъемлющей пошлости И. Северянина. И теперь в эпоху «катастрофических
мироощущений» эта скудость духа русского поэта ощущается особенно болезненно.
Александр Бахрах
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ И. СЕВЕРЯНИНА «СОЛОВЕЙ. ИОЭЗЫ»
Времена меняются, земля вертится, гибнут цари и царства... а Игорь Северянин в
полном и упрямом противоречии с природой безнадежно остается на своем старом
засиженном месте.
...Сегодня – гречневая каша.
А завтра – свежая икра!., (с. 78)
Таким образом, и вчера, и сегодня, и завтра – все приносится в его поэзию с полки
гастрономической лавки или из парфюмерного магазина. Открываешь книгу, и просто
не верится, что на ней пометка «1923».
Все те же надоевшие нюансы, фиоли, фиорды, фиаско, рессоры, вервена —
Шопена, снова то же старое, затасканное самовосхваление: «Я – соловей, я так
чудесен» (с. 8), «я так велик и так уверен в себе – настолько убежден...» (с. 72),
«целовал Фофанов и Клюев (бедный Клюев!) и падал Фофанов к ногам!..» (бедный
Фофанов!). Для нового издания все это даже не перечесано заново; старый, довоенный
фиксатуар так и лоснится со страниц книги.
Цикл стихов посвящен щекотливому «разбору собратьев». Наудачу, курьеза ради,
выбираем несколько цитат:
О Кузмине: Кузмин изломан чрезмерно.
Напыщен и отвратно-прян.
Рокфорно, а не камамберно.
Жеманно-спецно обуян.
О Каменском:
Да, я люблю тебя, Вася,
Мой друг, мой истинный собрат,
Когда, толпу обананася.
Идешь с распятия эстрад!
Северянин еще во время оно закончил делать свое, ценное. Ныне регресс
превратился в падение и бесконечные, как оказалось, бездны безвкусицы и ноющего
330
провинциализма.
Северянина-поэта, подлинного поэта было жалко.
От Северянина-виршеслагателя, автора книги поэз «Соловей», делается нудно,
уныло.
В. Ирецкий ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
(1905-1925)
Среди огромного множества поэтов, стремглавно промелькнувших за последние
двадцать лет, Игорь-Северянин выгодно отличается от многих: у него свой
собственный поэтический лик и свой почерк. За это время на поэтической улице много
было шума и не раз совершались сдвиги даже у более прочных авторов, а Игорь-
Северянин уверенно шагал по избранной им тропинке, целиком отдавшись во власть
своего музыкально-лирического дара, не замечая того, что творится вокруг.
А творилось немало. Бурлили Бурлюки, по-африкански сверкали глазами кубо-
футуристы, благим матом вопили Хлебниковы и Круче– ныхи – Дыр-бул-щыл! В моде
была стихийная звериность или звериная стихийность (сейчас уж не припомнить!), по
крайней мере, поэты изо всех сил выбивались, как бы рявкнуть по-гиппопотамски, а
люби– мейшим из любимых был Джек Лондон, помесь Майн Рида и Вампуки,
живописец мордобоя и свернутых скул. Вон там в запыленной вазе лежат их
запыленные пожелтевшие визитные карточки: «Ослиный Хвост», «Поросята», «Дохлая
луна», «Бух лосиный», «Взорваль», «Пощечина общественному вкусу».
И среди этой неистовой пещерной шаманской какофонии невозмутимо звучала
жеманная бонбоньерочная флейта:
Я в комфортабельной карете на эллипсических рессорах Люблю заехать в
златополдень на чашку чаю в женоклуб.
Перебираешь в памяти эти полувыцветшие воспоминания – и диву даешься: как
это так случилось, что этот заблудившийся в столетиях романтик, которому уместнее
было бы жить в эпоху женоподобных
миньонов короля Генриха III, обсыпанных фиолетовой пудрой, в кружевах и
брыжжах, – пришелся ко двору во времена «Дыр-бул-щыла».
Впрочем, есть решающее объяснение: в нем неистребимо сидел задор подлинного
дарования, опрокидывающего все попутные преграды.
Мы сначала очень недвусмысленно улыбались, выслушивая его по– эзы, диссоны,
берсезы с «шалэ», «грезёрками», «виконтессами» и «пуантами», а затем незаметно для
самих себя стали прислушиваться к его виртуозности, умевшей передать ритм качелей,
элластических шин и танцев:
И пела луна, танцевавшая в море.
Мы «жемчужно» хохотали, когда знакомились с его галантерейными
комплиментами – «Властелинша планеты голубых антилоп» – и когда нам стало
известно, что у него имеется:
...дворец пятнадцатиэтажный И принцесса в каждом этаже.
Нам казалось весьма нехозяйственно вливать «шампанское в лилию» и делать
мороженое из сирени.
Но...
Дело в том, что один из подлиннейших признаков искусства – это его
заразительность и что степень заразительности есть единый критерий искусства. «Чем
сильнее заражение, тем лучше искусство, не говоря об его содержании» – указывал
Толстой. И надо признаться, что скептические улыбки, которые мы снисходительно
дарили поэту в Бродячей ли Собаке или за чтением «Громокипящего кубка», довольно
быстро сменились улыбкой благожелательности. Почему? Не потому ли, что мы
почувствовали в поэте искренность, нас заразившую? В конце концов решительно всё
331
имеет право излиться в искусстве. Надо только, чтобы это было совершенно и
заключало в себе неподдельный пафос. Перед лицом Аполлона романсы Вяльцевой и
жертво-песни Рабиндранат Тагора одинаково ценны. В известной легенде Анатоля
Франса Божья Матерь не отвергла лепты жонглера, почтившего Ее
эквилибристическими фокусами: это было сделано им от всей души и с подлинным
пафосом.
Мир Игоря-Северянина – мир воображенный, не существующий. Оскар Уайльд,
скорбевший об упадке украшающих самообманов, об упадке лжи, был бы вполне
удовлетворен его даром преувеличения и никогда не сказал бы, что он охотится за
очевидными банальностями. Напротив. В Игоре-Северянине он, пожалуй, нашел бы
подтверждение
своих мыслей и положений, в частности, подтверждение того, что Жизнь подражает
Искусству гораздо больше, чем Искусство – Жизни. И тут же он еще более уверенно
повторил бы свой афоризм о Природе, главное назначение которой в том, чтобы
иллюстрировать цитаты из поэтов.
У Игоря-Северянина на этот счет действительно все наоборот. В поля, в леса, на
озера, куда он любит убегать от гнилой, «как рокфор», культуры, он приносит с собой
не только файф-о-клоки, лимузины и кокеток-кокотесс, но и салонные слова и
комфортабельные представления. Когда он думает о ягуаре, ему рисуется дорогой
ягуаровый плед. Деревья кажутся ему маркизами. На берегу моря ему не хватает
клавесин. Полосы спелой ржи представляются ему золотыми галунами. Он весь
городской, этот паркетный «грезёр», всегда находящийся в гостях у г.
Несуществующего и во власти давно отзвучавших, а может быть и никогда не
звучавших слов. Это особенно чувствуется сейчас. Повторите про себя рассказ о
виконтессе, уехавшей из оперы прямо на северный полюс:
Я остановила у эскимосской юрты
Пегого оленя – он поглядел умно,
А я достала фрукты И стала пить вино.
И в тундре, вы понимаете, стало южно...
В щелчках мороза – дробь кастаньет.
И захохотала я жемчужно,
Наведя на эскимоса свой лорнет.
Старые засушенные цветы, которыми отдают эти строки, в наше время стали еще
старше.. А через десять-двадцать лет кто-нибудь, читая эти стихи, с течением времени
теряющие неправдоподобие, – чего доброго соблазнится мыслью восстанавливать по
ним былую русскую жизнь, подобно тому, как по фигурам, изваянным на греческом
фризе, мы наивно воссоздаем «подлинных» женщин Древней Греции. Такова сила
искусства. Мы смотрим назад через его призму, и вымысел всегда сильные правды.
А все-таки, когда перелистываешь сейчас книги Игоря-Северянина, действительно
восстанавливаешь кое-что из подлинной жизни. Помните словесные неистовства
Северянина? Боги, как все были ошарашены новшествами поэта – окалошитые,
осупружиться, златополдень, экстазить, орозить, обэкранить, миражить, офиалить,
отсверкать! У обыкновенных читателей от этих слов глаза лезли на лоб и волосы
становились дыбом. Критики же были оскорблены в своих лучших филологических
чувствах и объявили Северянина безнадежным еретиком. Однако, – не очень уж так
нескоро, – при ближайшем рассмотрении Даля обнаружилось, что глаголов на «о» тьма
тьмущая и что они настолько хорошо забыты, что их вправду можно принять за
сочиненные автором «Громокипящего кубка». У Даля были найдены : овель– можить,
озвездить, обоярить, огурбить и даже отсверкать. Вспомните, что еще Жуковский
говорил «ожемчужить», «обезмышить», а Пушкин, признаваясь в своем увлечении Н.
332
Н. Гончаровой, употребил выражение – «я огончарован».
Сейчас словечки Игоря-Северянина перестали ошарашивать. Некоторые из них
забылись, некоторые остались (напр., выразительное слово «бездарь»), а самый
принцип стал будничным. «Женоклуб» Игоря-Северянина – родной брат советского
«женотдела», а народное словотворчество пошло еще дальше, введя упрощенным
северянин– ским приемом слова «буржуйка», «керенка», «шкурник», «мешочник»,
«танцулька» и пр. Чтобы утешить поэта, гордившегося своим собственным
словообразованием, следует сказать, что создание новых слов никогда не было задачей
поэзии. Образное сравнение ученейшего из современных критиков А. Г. Горнфельда
лучше всего уяснит эту мысль. Поэзия, говорит он, влияет на язык не иначе как
хороший садовод на культуру растений: дикое яблоко он может довести до
великолепного кальвиля, но создать дикое яблоко ему не под силу. Да и действительно,
меньше всего может сделать поэзия для внедрения, нового слова в обиход – гораздо
меньше, чем техника, наука и даже начальство, потому что словотворчество поэзии
лишено той принудительности, какую имеют слова науки, техники и официального
документа.
Но, так или иначе, воздействие Игоря-Северянина в этой области было
несомненным. Влияние литературного слова сказывается совершенно независимо от
того, осталось это слово или не осталось. Слово выразило новое ощущение или новую
мысль, и бесследно это никогда не проходит. Не пройдет бесследным и все то, что
написал Северянин, певучий затейник и «грезёр».
Евгений Шевченко КОЛОКОЛА ОРАНЖЕВОГО ЧАСА
Можно было бы сказать проще – «вечерний звон». Но, во-первых, это звучало бы
чересчур грустно, а во-вторых, не соответствовало бы стилю предмета, о котором будет
речь. Речь же эта будет об Игоре Северянине и по поводу его недавно вышедших в
юрьевском издательстве Бергмана двух поэм «Колокола собора чувств» и «Роса
оранжевого часа». После романа «Падучая стремнина» это опять поэтическая
автобиография Игоря Северянина в двух томах, разъединенных разными заглавиями,
объединенных единством устремления к ... самому себе. Устремления, оправданного
евангельски. Ибо «возлюби ближнего, как самого себя», дает мерило и критерий
наилучшего...
«Роса оранжевого часа» – поэма детства, а «Колокола собора чувств» – роман из
времен, когда поэт был «пьян вином, стихами и успехом, цветами нежа и пьяня,
встречали женщины» его повсюду.
Роман и поэма Игоря Северянина – не достаточно ли сказать это, чтобы было
понятно, как написаны эти новые произведения? Ибо, если Игорь Северянин
совершенно напрасно признается, что
Родился он, как все, случайно И без предвзятости при том... —
то поэзия, родившаяся от Игоря Северянина, вся в предвзятости словотворчества и
в своеобразности построения, рифмы и ритма. Поэзия эта исключительно
«северянинская», самоценная, отличная от других характерно и разительно. Если
Игорь Северянин как поэт всем известен, то что еще можно добавить к
общеизвестному?
Но три книги автобиографических романов-поэм за последние (и «последние» в
кавычках) времена – это ли не знамение времен мемуаров? Это одно – объективное.
А второе, увы, субъективное, ибо
В соборе чувств моих – прохлада,
Бесстрастье, благость и покой.
Это после недавнего горделивого:
Моя любовь – падучая стремнина,
333
Моя любовь – державная река.
Ретроспективный образ личного прошлого не наступает ли с «Росой оранжевого
часа»? Но поэт идет далее в своих признаниях, и лирической слезой блестит его
строфа:
Но вскоре осень: будет немо...
Пой, ничего не утая:
Ведь эта самая поэма – Песнь лебединая твоя.
Это звучало бы совершенно трагически, если бы «лебединая песнь» относилась к
творчеству поэта, а не к его прощальным чувствам и образам былых его «принцесс».
Но именно этим отошедшим ликам поэт главным образом приносит прощальные:
...фиалки и мимозы,
Алозы, розы и крэмозы,
И воскуряет фимиам.
И это, конечно, печально, но ведь в недавно напечатанном стихотворении поэт
признал, что:
Моя жена всех женщин мне дороже.
А потому не так уже трагична «лебединая песнь»:
В тиши я совершаю мессы,
Печальный, траурный обряд И все они, мои принцессы,
Со мной беззвучно говорят...
Игорь Северянин легкий, воздушный поэт. И поэтому о нем можно так нежно-
шутливо говорить. Но было бы опрометчиво не почувствовать в последних его
произведениях действительно глубоко лирических тонов. На этом месте недавно еще
прозвучали его «Усталые строфы»:
Я так истерзался от горести вечной,
Я так нестерпимо устал,
Я так утомился от пасмурных будней,
От горя и всяких невзгод...
Это не лирическое кокетство. Это действительно усталые строфы. И устать есть от
чего. Все устали. Не спасается от усталости и поэт. Отсюда и его строки, в которых
никто бы не узнал Игоря Северянина, как такового:
Тяжелые часы сомнений,
Под старость страшные часы...
«Оранжевый час», конечно, еще не «старость», но как уйти от со– временья, когда
«издатель хам и жох»:
Искусству предпочел поленья И крыльям грёз – припрыжку блох...
А были ведь другие времена, когда «гений Игорь Северянин» диктовал свои
условия, когда на поэтических пирах:
В честь «блещущей на небосклоне Вновь возникающей звезды»
Все приглашенные светила Искусства за мои труды Меня приветствовали мило И
одобрительно. А «Гриф»
Купил «Громокипящий кубок»,
И с ним в горнило новых рубок И сечь пошел я, весь порыв.
Когда о стихах Игоря Северянина писал Федор Сологуб: «Я люблю их за их легкое,
улыбчивое, вдохновенное происхождение. Люблю их потому, что они рождены в
недрах дерзающей, пламенною волей упоенной души поэта, Он хочет, он дерзает не
потому, что он поставил себе литературною задачею хотеть и дерзать, а только потому
он хочет и дерзает, что хочет и дерзает. Воля к свободному творчеству составляет
ненарочную и неотъемлемую стихию души ею, и потому явление его – воистину
нечаянная радость в серой мгле северного дня».
334
Теперь северную мглу сменила тьма непросветная, страшные мысли о той, о
которой поэт пишет:
Моя безбожная Россия,
Священная моя страна...
В настоящем номере нашей газеты печатается «Запевка» Игоря Северянина к
новому его сборнику «Чаемый праздник»:
О России петь – что весну встречать,
Что невесту ждать, что утешить мать...
Не сменяется ли у Игоря Северянина «мороженое из сирени» куском насущного
черного хлеба – хлеба мечты о возрождении России? И кто знает, не искупит ли он
своего прошлого поэтического карнавала новыми для него часами «пасмурных будней,
горя и всяких невзгод». Быть может, с новым сборником появится и новый Игорь
Северянин, как ни трудна будет его задача. Ибо есть предметы, о которых нельзя писать







