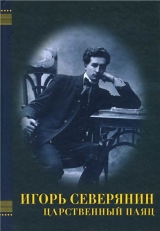
Текст книги "Царственный паяц"
Автор книги: Игорь Северянин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 40 страниц)
решительного заявления он пишет невольную пародию на пушкинские стихи:
Да, я влюблен в свой стих державный,
В свой стих изысканно-простой,
И льется он волною плавной В пустыне чахлой и пустой.
Не иначе обстоит у него дело и с модернизмом. Далеко не все богатство форм,
накопленное за последние два десятилетия, использовано молодым новатором. О таких
его нововведениях, как «орозенная язва» и «ядосмех», едва ли нужно говорить
серьезно. Сколько бы ни твердил он Валерию Брюсову, что он ему «некий равный
государь» и отнюдь не «ученик», мы все уже останемся при том мнении, что он пока
именно только ученик знаменитого мастера, и ученик довольно робкий, хотя и
заносчивый. Если у него «ассонансы точно сабли руб– пули рифму», то сделали они
это, по собственному его признанию, «сгоряча». Так же, очевидно, сгоряча заявляет он,
что «теперь повсюду Дирижабли летят». Заявление это, помимо того, что несколько
преувеличено, вдобавок имеет слишком очевидную марку: «made in Italia». Едва ли
обрадуют чей-нибудь слух такие ассонансы, как «горло» и «перлы» («перлы?»), едва ли
даже самые просвещенные гастрономы найдут вкус в «мороженом из сирени». Не
очень новы и утонченны
♦ ♦ ♦
ЗЯ1
самые переживания Северянина. «Шампанское в лилию», «герцогиня– Дель-Аква-
Тор» и т. п. – все это дерзания и прозрения многообещающего гимназиста. Не в них
сущность поэзии Северянина и не на них основано право его на внимание критики.
С внешней стороны есть общее между итальянским футуризмом и
псевдофутуризмом Игоря Северянина: в обоих настоящее, современное заявляет свое
право на эстетическое признание. Но и прошлое и настоящее Италии и России глубоко
различны. Прошлое – великое и славное прошлое – есть реальный и крупный фактор в
жизни современных итальянцев; оно так же заполняет, и украшая и загромождая, их
жизнь, и государственную, и общественную, и частную, и эстетическую, как заполняют
молчаливые дворцы с опустелыми окнами тесные улицы их городов. Современный
209
итальянец, отвоевывая себе место в жизни и в искусстве, просит потесниться своих
славных предков, – римлян, флорентинцев, венецианцев и других. У нас немыслим
подобный конфликт. Нас угнетает не величие и богатство нашего исторического
наследства, но то, что оно у нас отнято. Наше право на настоящее обусловлено нашими
правами наследования, – наследования того, еще сравнительно небольшого богатства,
которое все же было накоплено в течение нашей истории. Для того чтобы стать
господами настоящего и творцами будущего в своей стране, или же потому, что мы ими
уже становимся, и мы ими будем, – мы должны овладеть наследием прошлого,
культурным достоянием духовных отцов наших. Но кто же это «мы», и где наше
наследство?
Мы – это все: таков лозунг нашего времени. Наше наследие – все, что было
завоевано на полях Полтавы и под стенами Измаила; все, что было создано в тиши
монастырских келий, в уюте дворянских усадеб и в наемной комнате одинокого
мыслителя; все, что было накоплено в музеях, библиотеках, галереях; все, что было
выстрадано «в глубине сибирских руд», в казематах Шлиссельбурга, в ледяных
пустынях севера, – все это наше наследие. Все то, что было в прошлом достоянием
отдельных групп, лиц, сословий или кружков, – все это должно стать в наши дни
достоянием всеобщим, всенародным: «на улицу, специи кухонь!».
Таков лозунг. Как и всякий лозунг, он имеет значение лишь символическое или, как
у нас говорят, принципиальное. Живым носителем этого лозунга, его воплощением
является у нас тот, крайне неопределенный в своих границах и в своем обличии, класс,
который принято называть «интеллигенцией». Знатным, умным, красивым нужно
родиться, – интеллигентным можно сделаться. Интеллигент – это инженер, писатель,
адвокат, чиновник, агроном, музыкант, врач, профессор, аптекарь, просто ученый и
образованный человек, без определенной про-
фессии. Это тот класс, который вмещает в себя все живые культурные силы страны
и который поэтому раньше или позже неизбежно сделается правящим классом. И
каждый может в него войти, каждый может стать интеллигентом; конечно, и это только
принцип, но принцип, полный значения и действенности.
Каждый правящий класс навязывает литературе свой язык. Мы до сих пор еще
пользуемся языком Сергея Тимофеевича Аксакова. Язык Игоря Северянина —
утрированный жаргон современного интеллигента. Отсюда в его стихах это изобилие
иностранщины и книжных речений, эти режущие ухо новообразования – все эти
«эксцессы», «эффектные нервы», «коктебли», «грезеры», «опринципить» и т. п. И вкус
его – вкус того же среднего интеллигента, ему нравится новое, изящное и
общедоступное. Его любимые авторы – Фофанов и Лохвицкая; его излюбленные
композиторы – Тома, Масснэ. Это – подлинное искусство, конечно, и даже, в
известной мере, утонченное, по сравнению с Надсоном, Травиатой и Марселем Прево,
– но все же искусство второсортное, как бы нарочно выкроенное по масштабу
среднего интеллигента. Правда, называет Игорь Северянин и два имени совсем иного
ранга, – Врубеля и Оскара Уайльда; но стихи, посвященные им, полны дилетантизма.
Есть некоторое правдоподобие в ходячем злом словечке: «поскребите Северянина,
увидите Надсона». Стихи Надсона – сплошная ин– теллигенщина. Но на этом
кончается сходство. Ибо стихи Надсона не только не поэзия, но даже и не литература, а
одна стихотворная публицистика. Напротив, стихи Северянина суть прежде всего
явление литературное, ибо они непосредственно затрагивают вопросы формы. Тот, к
кому взывает Надсон, его «страдающий брат», безнадежный изгнанник с пиршества
жизни; искусство, красота, даже отвлеченная мысль для него – недоступные цветы в
витрине дорогого магазина; он довольствуется трафаретками мысли, чувства и формы,
лишь бы они говорили ему все об одном и том же: о том, что он страдает, когда есть
210
счастливые. Напротив, «граждане» Игоря Северянина – настоящие господа жизни.
Поэта огорчает только то, что они так малотребовательны и так неразборчивы: «Ах,
граждане, да неужели вы требуете крем-брюле»! «Оглянитесь, – говорит он им
каждым стихом своим, – посмотрите, сколько богатства рассыпано вокруг вас,
повсюду; и все это – ваше. Протяните руку, не бойтесь; требуйте себе лучшего, самого
утонченного. Выкатывайте бочки из глубины потаенных подвалов, пейте драгоценные,
десятилетиями выдержанные вина, упивайтесь их сладостной крепостью...» Это
различие в мироощущении есть не различие двух исторических моментов. Надсон жил
и писал в те дни, когда всякая жизнь замирала под железной пяткой реакции, и лучших
дней
он не знавал вовсе; Северянин выступил на литературное поприще в наши дни, в то
время, когда уже никакая реакция не в силах заставить нас, вкусивших от плодов
свободы, позабыть их вкус. Забота о форме обязательна для него потому, что он начал
писать после двадцатилетней почти работы Бальмонта, Брюсова и их учеников; забота
о всенародности неизбежна для него потому, что он начал писать, уже переживши дни
всенародных волнений, восторгов, падений.
Правильно воспринять дух времени – еще не значит быть поэтом; надобно еще
найти путь к его воплощению и уметь ступать по этому пути. Если бы у Игоря
Северянина было одно только, сейчас отмеченное нами, мы могли бы пройти мимо
него молча, предоставив разбираться в его стихах обозревателям общественных
настроений. Оборотной стороной стремления к общедоступности всегда была и есть
опасность опошлиться, опуститься до уровня своей аудитории. Между Сциллой
изысканности и Харибдой вульгарности есть один только путь: путь углубления
содержания до пределов основного, общечеловеческого и упрощения формы до границ
безусловно необходимого, – путь к тому искусству, которое принято называть
монументальным. Этим путем шли в свое время все великие народные поэты: и Гомер,
и Данте и Пушкин. Искусство может быть общедоступным, оставаясь подлинным
искусством, только в том случае, если оно становится общеобязательным, т. е.
достигает той степени простоты и властности формы, при полноте содержания, которое
всеми принимается невольно как совершенство. Не каждому поэту дано достигнуть
этих вершин творчества; но, безусловно, каждому значительному поэту свойственно
стремление к монументальности; и это стремление должно быть повелительным
требованием писательской совести у того, кого Аполлон зовет к жертве всенародной.
Мы не считали бы Игоря Северянина поэтом, если бы не подметили в нем (быть
может, ошибочно) подобного стремления. Чем ближе к концу его книги, тем чаще
проступает у него желание быть «изысканно-простым»; и мы охотно верим молодому
поэту, когда, распростившись с шумихой своего футуризма, он говорит нам, что душа
его «влечется в примитив». Спускаясь в «застенчивые долы», он идет верным путем, и
если он сумеет пройти этот путь до конца, он вернется к нам настоящим поэтом нового
времени.
Владимир Шмидт
РУССКАЯ ХАНДРА
Стихотворения Игоря Северянина – не новость. Уже в течение нескольких лет
молодой поэт издавал свои тоненькие книжечки (кажется, около 30), считая себя главой
«эго-футуристов», – с трогательными объявлениями на задней стороне коричневых
обложек, что интервьюеров он принимает в такие-то дни и часы, знакомых дам – в
такие-то, молодых поэтов, приходящих за советом, в такие-то. Если верить этим
объявлениям, то он был уже широко известен кому-то до этого года, и только теперь
Федор Сологуб представляет его всем русским читателям, написав предисловие к его
избранным стихам и, надо думать, приняв близкое участие в составлении сборника: по
211
крайней мере, название его, кажется, вызвано предисловием, а не обратно. Сологуб
говорит в этих нескольких вступительных словах, что он любит стихи молодого поэта,
как «грозу в начале мая». «Люблю грозу в начале мая... Люблю стихи Игоря
Северянина. Я люблю их за их легкое, улыбчивое, вдохновенное происхождение.
Люблю их потому, что они рождены в недрах дерзающей, пламенной волей упоенной
души поэта... Стихи его такие капризные, легкие, сверкающие и звенящие...»
Можно не продолжать – смысл ясен: Сологуб открыл поэта «легкого и
сверкающего». Тот, кого истомила самая тягостная из всех скук, какие когда-либо в
нашей литературе снились, кто создал для русского общества – рядом с вдохновенным
культом смерти – злое издевательство над его пошлостью – Передонова,
приветствует в новом поэте «грозу в начале мая». Он не обращает внимания на
«неверности с правилами пиитики», – «раздражающими и дразнящими», они ему
«нравятся», – и он объяснил почему.
Так смертельно заскучала душа современности, так ждет «раскатов первого
весеннего грома».
Дождалась ли? Гроза ли это?
Сам о себе молодой поэт думает, с одной стороны, очень высокомерно, с другой —
очень скромно. С одной – он называет себя «гением Игорем Северянином», —
«северным бардом», открывающим новые пути и, конечно, не признанным людьми
посредственными, его не понимающими, с другой – он думает, что он только один из
многих, предвещающих грядущего и близкого великого поэта, который «всех муз
былого в одалисок, – в своих любовниц претворит и, опьянен своим гаремом, сойдет с
бездушного ума». Это и есть исповедание самого Игоря Северянина, – он ставит себе
в заслугу, что он не признает «бездушных книг», «несносной поступи бездушных
мыслей», «рассудочно– г° льда», «рассчета лабораторий». Он «спрятал в грудь солнце»,
он «парит в лазоревом просторе со свитой солнечных лучей...» Отсюда
и его стиль – невыдержанный, действительно капризный, по большей части
необыкновенно легкий. Главный его каприз – неологизмы, недаром он называет себя
потомком Карамзина. Эта родословная – очень поучительная вообще, но в отношении
неологизмов она может быть и лестной и нелестной: неологизмы древнего
сентименталиста не отличались особенной выдумкой, но зато они стремились к
русификации противного словаря – еще елисаветинского происхождения щеголя,
французивших в русской речи самым безвкусным образом. Каприз «потомка
Карамзина» выражается, к сожалению, в стремлении фран– цузить там, где давно уже
привыкли говорить по-русски, а иногда и в смешении французского с нижегородским.
Новые же его слова с русскими корнями составлены по двум-трем шаблонам, заранее
взятым, поэтому пестрят однообразно и надуманно. Свои стихи он называет
«поэзами», «миньонетами», «героизами», «ассо-сонетами», «интуит– тами» и пр.
Через два обыкновенных слова на третье – прибегает к таким выражениям:
«Лимонно-листный лес драприт стволы», «овесененный ребенок», «комната утрела»,
«было майно», «мечты отропили сердце», «упоенно юниться», «весна бравурит»,
«популярить изыски», «огим– нить эксцесс в вирелэ», «ножки надо окалошить», «он
готов осупру– житься», «мечты сюрпризэрки истомленно лунятся», «женоклуб» и т. п.
И все это заключено в стихи – звонкие и поющие, но не новым, воздушным,
прозрачно беззаботным пением, а той особенной звонкостью, которая слышит сама
себя, сознает себя; не подобной «птичке беззаботной», а очень сознательно
слагающейся в созвучия, с рассчитанным подъемом и паденьем гласных, намеренным
соединением согласных, соблазнительными ассонансами и другими словесными
соблазнами, которые усиленно развивались у нас под влиянием стихотворческой
виртуозности Бальмонта. Я не хочу сказать, что Игорь Северянин рассудочнее многих,
212
но он рассудочен, как и все; в нем нет той непосредственной свежести, которую хочет
видеть в нем Сологуб, сам истомившийся от сознательности – истомившийся и
обрадовавшийся, как ребенок, поэзии, которая показалась ему ребячливой, младенче-
ски-ясной!
Это искание младенческой ясности, свежести, наивности проходит через наше
художественное сознание уже довольно давно – с тех пор, как наша поэзия стала
сознательной по преимуществу, т. е. с тех пор, как она объявила себя символической. С
тех пор и начались мучительные поиски непосредственности, сначала оставаясь в
пределах романтических, – и здесь развился культ Блока, который сам томился тоской
по жизни; потом эта тоска сказалась в увлечении мифологизмом Городецкого; в
прошлом году сделана была попытка найти нового
Кольцова в Клюеве; в этом году открылась борьба «акмеистов» с символистами
против их отвлеченности, – наконец, сейчас один из отвле– ченнейших наших поэтов
предлагает нам «легкую» поэзию Игоря Северянина.
Сологуб не совершенно не прав, так же как правда была и в увлечении Городецким:
Вяч. Иванов, философ в стихах, бессильный сложить песню, слагал лишь
философические стихотворения, – у его ученика – Городецкого, сказался дар вольной
песни; Сологуб, тоже бессильный сложить вольную песню, слагает изречения и
молитвы, – у Игоря Северянина есть дар пения, более непосредственный, может быть,
чем у Городецкого, «певшего» по Вяч. Иванову. Но в этих певучих стихах нового поэта,
– именно нет той внутренней «улыбчивости», – того, что Сологуб хотел бы видеть в
них, называя их «вдохновенными по происхождению». Игорь Северянин – не дитя, он
сознает себя. Сознает и звон своих стихов, и его переливы, и свои словарные
новшества. Он хорошо и точно воспринимает окружающее, поэтому он умеет
«описывать» природу, – редкий дар у лириков в настоящее время... Но и это все не так
важно, все это можно было бы в разной степени оспаривать; но вот что бесспорно: эта
та внутренняя подпочва, которая лежит, как тяжелая залежь подо всей принципиально
исповедуемой им – его интуицией, под признанием солнца, горящего в небе и
«спрятанного в его груди», – это то, что лежит глубже его собственного сознания, —
прорываясь, однако, сквозь его звонкие строфы, иногда скрыто за образами, – иногда в
случайных, точных формулах. Это та же тоска по жизни, и, кажется еще более резкая
– тоска от жизни – скука!
Недуг, которого причину,
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину —
Короче – русская хандра...
У Онегина были предки, утверждал Ключевский; пришли и потомки, как давно уже
говорил Добролюбов. Менялись условия, видоизменялся, соответственно, и тип, но, по
существу, он все тот же, потому что те же, в сущности своей, остаются условия; и еще
сам Пушкин варьировал этот национальный «недуг в другом месте»:
Мне скучно, бес! – Что делать, Фауст!
Таков вам положен предел...
Обложка книги стихов Игоря Северянина напечатана сиреневыми буквами. Второй
отдел, центральный в книге, называется «Мороженое из сирени»; первый,
вступительный к нему, – «Сирень моей весны».
Сирень в разных вариантах упоминается во всей книге как «эмблема
сладострастия» – наряду с лилиями, конечно, эмблемами невинности. В первом
отделе излагается история «страсти нежной» – аге атапсП. – Эта «сирень весны»,
очень скоро отцветшей, как всякие цветы чувственности; а «мороженое из сирени» и
заключает в себе исконную русскую хандру – в новой разновидности, очень
213
современной: наружно-жизнерадостную, и даже бурную, а внутренно-томящуюся, если
вникнуть в эту юношескую поэзию, в ее душу, не считаясь с ее словесными затеями.
После первой помещенной в сборнике чувственной по смыслу и холодной по
выражению пьесы – мы читаем вызывающую самым своим мотивом чувство
элегическое; третья пьеса – гораздо радостнее. Вот энергические строки из нее:
...Душа поет и рвется в поле,
Я всех чужих зову на «ты»...
Какой простор, какая воля.
Какие песни и цветы!
Шумите, вешние дубравы!
Расти трава! Цвети, сирень!
Виновных нет: все люди правы,
В такой благословенный день!
Но разве эти заключительные слова – не слова самоубеждения? Не отказ от печали
на один день? Четвертое стихотворение называется «В грехе забвенье», и прочитав его,
внимательный читатель уже не забудет его, дочитывая дальше всю книгу:
Вся радость в прошлом, таком далеком и безвозвратном,
А в настоящем – благополучье и безнадежность,
Устало сердце и смутно жаждет в огне закатном Любви и страсти – его пленяет
неосторожность.
О «благополучье» упомянуто не случайно; в следующей строфе оно повторяется:
Устало сердце от узких рамок благополучья,
Оно в унынье, оно в оковах, оно в томленье.
Отчаясь верить, отчаясь грезить, в немом безлучье Оно трепещет такою скорбью...
«Жизнь чарует и соблазняет», но «сердце в смущенье»: «оно боится... благополучье
свое нарушить». Но жизнь проходит – смерть неизбежна – сердце человека одиноко и
не чувствует связи со вселенной.
И вот – выход: благополучью противопоставлено безумье одинокого сердца;
добродетели – грех, в котором забвенье от скорби:
О, сердце, сердце! – твое спасенье в твоем безумье!
Гореть и биться, пока ты можешь, – гори и бейся!
Г^еши отважней! пусть добродетель уделом мумий:
В грехе забвенье, а там – хоть пуля, а там – хоть рельсы!
Теперь все уже ясно и не читая до конца; но у кого есть еще сомнение в том, что
пред нами новый Онегин со старой русской хандрой, с возможностью забыться лишь в
нарушении обычностей, в случайных развлечениях, в случайных жестокостях, – пусть
прочтет и конец стихотворения. Это не та смертная скука, которая переходит в
озлобление к жизни, и ждет смерти – как у Лермонтова. Она способна себя тешить —
это именно хандра:
Больное сердце!..
Живи, ты право! Сомненья – мимо!
Ликуй же, сердце! – еще ты юно!
И бейся шумно!
Так новый эпикуреизм вырастает на почве старой «душевной пустоты».
Весь первый отдел книги – малосамостоятельный, хотя и очень искренний,
напоминает по манере кумиров автора – Фофанова и Лохвицкую – в стихах таких же
звучных, но часто – таких же тривиальных. Отмечу только, что именно в этом отделе
есть живые черты «пейзажа и жанра» – указание на реалистическое настроение поэта,
чуждое отвлеченной символики.
Жду, не дождусь весны и мая,
214
Цветов, улыбок и грозы,
Когда потянутся, хромая,
На дачу с мебелью возы...
«Хромать» еще лучше в другом месте и в другом смысле; в пьесе осенней:
Люблю октябрь, угрюмый месяц,
Люблю обмершие леса,
Когда хромает ветхий месяц Как половина колеса.
Такие «тютчевские» черты, как «морозом выпитые лужи» – в том же описании
дальше, – можно отметить во многих стихотворениях, к сожалению, редко
выдержанных. В «деревне, где скучал Евгений», как
характерно сказано в эпиграфе к одной из пьес этого отдела, ему случалось
сближаться и с народом, больше всего – наблюдая русские праздничные нравы, а
иногда самому, заражаясь бодрящим воздухом летнего утра, – почувствовать себя
«вольным сыном природы», заигрывая с «поселянками». Одна из пьес названа
«Русская». Это интеллигентская «Камаринская», сочиненная русским барином,
ищущим забвения от скуки в деревенских удовольствиях:
Кружевеет. розовеет утром лес Паучок по паутинке вверх полез.
Бриллиантится веселая роса;
Что за воздух! что за свет! что за краса!
Хорошо гулять утрами по овсу,
Видеть птичку, лягушонка и осу.
Слушать сонного горлана-петуха,
Обменяться с дальним эхом: «ха, ха, ха!»
Ах, люблю бесцельно утром покричать,
Ах, люблю в березах девку повстречать,
Повстречать и, опираясь на плетень,
Гнать с лица ее предутреннюю тень,
Пробудить ее невыспавшийся сон,
Ей поведать, как в мечтах я вознесен,
Обхватить ее трепещущую грудь,
Растолкать ее для жизни как-нибудь!
В такой же французско-нижегородской, но остроумной манере написаны и «Пляска
Мая» и «Chanson russe»... Вспомните некрасовского «русского путешественника» по
крепостным деревням: «Я путешествовал недурно. Русской край оригинальности имеет
отпечаток...»
Зато в городе новый Онегин чувствует себя еще больше самим собой, чем старый,
пушкинский. Хандра ждет его здесь даже не «на страже» – она прямо распоряжается
его душой, определяет каждое минутное его настроение. Это и есть второй отдел книги
«Мороженое из сирени»... короче – русская хандра!
«Усталое сердце» «пленяет неосторожность», «безумье», «грех», «а там – хоть
пуля, а там – хоть рельсы!» Этому, до смерти скучающему внутри себя,
эпикурейскому самозабвению и предается новый Онегин в городе; и эту невеселую
игру жизнью выражает в звуках, на самом деле очень свободных, но словами, еще
более пестрыми. В пьесе «Фиолетовый транс» поэт говорит, как, выпив однажды
«фиалковый фиал грез фиалок», «лилии ликеров» – Crиme de Violette, он «приказал
немедля подать кабриолет», и «вздрогнувший мотор, как жеребец заржавший, пошел на
весь простор», а «ветер восхищенный» «сорвал с головы поэта его берет»:
Я приказал дать «полный», я нагло приказал Околдовать природу и перепутать
путь.
Я выбросил шофера, когда он отказал,
215
Взревел! и сквозь природу – во всю и как-нибудь! Встречалась ли деревня – ни
голосов, ни изб!
Врезался в чернолесье, – ни дерева, ни пня?
Когда б мотор взорвался, я руки перегрыз б!!
Я опьянел грозою, все на пути пьяня!
Если вообще можно оправдывать жестокости, то шофер был выброшен не напрасно
опьяневшим поэтом: безумная поездка на автомобиле кончилась «благостным
исходом» —
И вдруг, безумным жестом остолблен кленоход:
Я лилию заметил у ската в водопад...
И все изменилось в душе, обезумившей от скуки, не знающей куда себя девать, что
выдумать, чтобы ее залить:
Я упоен. Я вешний. Я тихий. Я грезер.
И разве виноват я, что лилии колет Так редко можно встретить,
Что путь без лилий сер...
Итак, вот отчего «грезер» выбросил шофера, и вот почему «грезер– ки» бесцельно
качаются в «гамаках камышовых», в которых «стоит лишь повертеться»:
И загрезится сердце:
Все на свете возможно, все для вас ничего;
Покачнетесь вы влево, —
Королев королева,
Властелинша планеты голубых антилоп...
Покачнетесь вы вправо,
Улыбнется вам слава,
И дохнет ваше имя, как цветы райских клумб...
Это бегство от жизни, от ее скуки, от «серых путей» в мечты, – а жизнь пусть идет
себе как попало!..
Шампанское в лилию! Шампанское в лилию!
Ее целомудрием святеет оно...
Я славлю восторженно Христа и Антихриста (Что нам до них!),
Душою обожженною восторгом глотка!
Голубку и ястреба! Рейхстаг и Бастилию (Что и до них?),
Кокотку и схимника! Порывность и сон!
В шампанское лилию! Шампанского в лилию!..
Но – больше всего, еще больше, чем мечты и лилии, – чувственность! Чем
изысканнее, чем мгновеннее, тем вернее: вдруг хандра и уйдет со своей проклятой
«стражи»!.. Но она не уходит, как бы ни становилась «душа-грезера – как рай —
нелепа»:
О, фешенебельные темы! от вас тоска моя развеется...
Нет! Не развевается. Все безвыходно кончается следующим, как называет поэт,
«квадратом квадратов», напоминающим по смыслу прежнее «в грехе забвенье»:
Никогда ни о чем не хочу говорить...
О, поверь! – я устал, я совсем изнемог.
Был года палачом, – палачу не парить...
Точно зверь заплутал меж поэм и тревог...
Ни о чем никогда говорить не хочу. .
Я устал... О, поверь! изнемог я совсем
ит. д.
Следующая за этим фатальным «квадратом» пьеса еще вразумительнее названа: «В
предгрозье». Вы вспоминаете при этом предисловие Сологуба о «грозе в начале мая».
216
Вот настоящее название для всей книги! Молодой поэт, несомненно, владеет даром
поющей речи – но это поет скучающая в «предгрозье» душа, и потому она поет не
просто, – а с хитростями и фокусами – от скуки душной. В поэзии его не слышны
раскаты грома – даже отдаленные, и книга его – не громокипящий кубок, уроненный с
неба. Когда пронесется гроза, упадет и ее кубок – поэзия великой веры и счастья!
А пока остается – от скуки, не зная куда девать себя, отдавать «наглые приказания»
шоферам и слагать демонические приветствия «ага– сферам морей»:
Вижу, капитан «Скитальца-Моряка»,
Вечный странник,
Вижу, как твоя направлена рука На «Titanic»...
Верю, капитан «голландца-летуна».
Враг боязни.
Верю, для тебя – пустить корабль до дна —
Страстный праздник...
Руку, капитан, товарищ по судьбе,
Мой дружище!
«Что делать, Фауст! Таков вам положен предел. Вся тварь разумная скучает... Зевай
и ты!...» – «Все утопить!».
Так переживается наше предгрозье.
Владимир Гиппиус
ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ЖАЛЬ
«Русское слово» любезно прислало мне две книжки стихов поэта, пишущего под
псевдонимом Игоря Северянина, с предложением высказаться об этом новом и,
кажется, весьма многошумном явлении российского Парнаса.
К сожалению, просмотрев присланные книжки, вижу, что я в состоянии судить в
полной мере лишь о весьма незначительной части их содержания, а более или менее – о
части хотя обширнейшей сравнительно с первою, но все же слишком малой в общей
сумме страниц... О громадном же большинстве произведений г. Игоря Северянина
признаю себя совсем не способным судить, – по той простой причине, что не знаком с
языком, на котором они написаны. Словаря и грамматики языка этого
книгоиздательство, выпускающее сборники стихов г. Игоря Северянина, к сожалению,
не догадалось приложить к изящным своим томикам. Это – большая ошибка. Когда
Гоголь обнародовал «Вечера на хуторе близ Диканьки», он, имея в виду удобство
читателей, приложил к книжке словарь встречающихся в ней малороссийских речений.
Между тем малороссийское наречие гораздо ближе к русскому языку, чем то, на
котором по большей части пишет г. Игорь Северянин, иногда предаваясь этому
загадочному диалекту целиком, иногда делясь между ним и русскою речью.
О непонятной мне части я ограничусь лишь замечанием, что, судя по смешению в
языке ее латинских корней с славянскими суффиксами и флексиями, язык этот близок к
румынскому. Приблизительно таким наречием изъясняются музыканты румынских
оркестров после того, как проиграют сезона два-три в русских ресторанах и
увеселительных садах. Филологическая догадка моя о румынском происхождении
языка г. Игоря Северянина находит себе подтверждение в довольно час
том упоминании поэтом о румынской нации, и именно в ресторанной ее
разновидности. Например:
То клубникой, то бананом Пахнет кремовый жасмин,
Пышно-приторным дурманом Воссоздав оркестр румын.
И через две страницы опять:
А иголки Шартреза? а шампанского кегли?
А стеклярус на окнах? а цветы? а румыны?*
217
Мне тем более прискорбно не понимать г. Игоря Северянина в значительнейшей
доле его творчества, что в той доле, которая мне совершенно понятна, его поэзия мне
очень нравится. Это ли, например, не прелесть?
Быть может, оттого, что ты не молода,
Но как-то трогательно больно моложава,
Быть может, оттого я так хочу всегда С тобою вместе быть; когда, смеясь лукаво,
Раскроешь широко влекущие глаза,
И бледное лицо подставишь под лобзанья,
Я чувствую, что ты – вся нега, вся гроза,
Вся молодость, вся страсть; и чувства без названья
* Впрочем, кроме языка румынского, г. Игорь Северянин прибегает иногда к
помощи и других наречий. Так, например, в «Увертюре» к отделу «Колье принцессы»:
Колье принцессы – аккорды лиры,
Венки созвездий и ленты лье,
А мы, эстеты, мы – ювелиры.
Мы ювелиры таких колье.
Ясно, что «лье», во втором стихе – третье лицо единственного числа настоящего
времени от глагола «лить», спрягаемого на малороссийском наречии... Смысл стихов
таков: «Колье принцессы лье аккорды лиры, венки созвездий и ленты»... Правда, один
недоброжелатель г. Игоря Северянина уверял меня, будто «лье» здесь – французскому
lieu, но сие невероятно уже потому, что lieu произносится по-русски «льё». И тогда, —
для того, чтобы стихи сохранили созвучие, – пришлось бы читать на конце четвертого
стиха не «колье», а «кольё», что составляет большую разницу. «Колье принцессы», —
это давай Бог каждому, но «кольё принцессы», – это уж из тургеневского Пигасова...
Сжимают сердце мне пленительной тоской,
И потерять тебя боязнь моя безмерна...
И ты, меня поняв, в тревоге головой Прекрасною своей вдруг поникаешь нервно, —
И вот другая ты: вся – осень, вся – покой...
{Громокипящий кубок. В огаровании)
Или:
В парке плакала девочка: «Посмотри-ка ты, папочка,
У хорошенькой ласточки переломлена лапочка, – Я возьму птицу бедную и в
платочек укутаю»...
И отец призадумался, потрясенный минутою,
И простил все грядущие и капризы и шалости Милой маленькой дочери,
зарыдавшей от жалости.
(За исключением двух слов, пригнанных для рифмы: «Потрясенный минутою»,
которые расхолаживают впечатление своею газетною прозаичностью).
Таких вещиц в двух книжках г. Игоря Северянина – «Громокипящий кубок» и
«Златолира» (что по-русски должно обозначать, вероятно, «Золотую лиру»), наберется
более дюжины: «Все по-старому», «Виктория Регия», «Газелла», «Эхо», «Обе вы мне
жены», «Nocturne», «Только миг», «Солнце землю целовало», «Прелюдия» («Лунные
тени»), «Звезды», «Ничего не говоря», «А если нет», «Град»... Все это чрезвычайно, как
говорится, «мило»: певуче, молодо, свежо, искренно, часто страстно. Подкупает
простотою и нежностью, показывает в авторе способность к изяществу стиха и рифмы,
большую гибкость, яркую звучность... Правда, все без исключения стихи эти
безусловно подражательны и «навеяны», причем в выборе образцов г. Игорь Северянин







