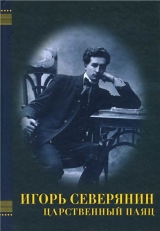
Текст книги "Царственный паяц"
Автор книги: Игорь Северянин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 40 страниц)
Богу. Его мелодия – песнь солнца, русской Весны, молодости.
Его рифма – изысканно-кристальна, словно звезды северного небосвода, изредка
прорезаемого ассонансными дерзо-безумьями. Ради ассоциации всего этого невольно
прощаешь слабую сторону – самоти– туляцию до «его светозарности».
А как дерзновенно-красив он, когда, сменив Эолову цевницу на Скорпионовы бичи,
клеймит кровавыми, нещадно-глубокими, идущими до самого сердца ранами.
И ее сиятельство, имеющая душу душистую, очень удобную для проституток и для
королев. И бальзако-летнюю звезду Амьенского бомонда, рифмующуюся звучнее всех
с резедой Bronze-oxidй, блондинку Эсклармонду, ту, что остра, как квинтэссеНца
специй:
В любовники берет господ с трапеций И, так сказать, смакует мезальянс...
Условностям всегда бросает:
Schocing!
Экстравагантно выпускает лиф,
Лорнирует базарно каждый смокинг,
Но не во всяком смокинге калиф...
189
Как устрицу глотает с аппетитом Дежурного огейзерную дань...
При этом всём – со вкусом носит титул,
Иной щеке даря свою ладонь!
И призраков серого Мизера – Будне – Трясины, всасывающей, тушащей своими
ядовито-убийственными испарениями все живые огни.
И даже родную страну, не приявшую его:
Где вкус так жалок и измельчен,
Что даже – это ль не пример?
Не знают, как двусложьем Мельшин Скомпрометирован Бодлер, —
Где блеск и звон карьеры – рубль А паспорт разума – диплом;
Где декадентом назван Врубель За то, что гений не в былом...
Некоторая доза интуиции потребна для de voir venir лишь при чтении поэзы
«Увертюры», – открывающей «Качалку Грэзерки»:
Как мечтать хорошо Вам
В гамаке камышевом
Над мистическим оком, над бестинным прудом...
Все на свете возможно, все для Вас ничего!
...Качнетесь Вы к выси,
Где мигающий бисер,
Вы постигнете тайну: вечной жизни процесс.
И мечты сюрпризэрки
Над качалкой Грэзерки
Воплотятся в капризный, но бессмертный эксцесс.
Последняя строфа может, пожалуй, служить резюме всех критических дессинациев
о Игоре Северянине.
Да, для лиризы «Балькис и Валтасар» (по Анатолию Франсу).
Северянин мобилизирует своими аккордами мировые недвижности. И прав он,
говоря, что он крылат. И за Атлант:
Настанет день – польется лава – Моя двусмысленная слава И недвусмысленный
талант.
Насколько тонко понимает он палача-эстета, за красоту покаранного Оскара
Уайльда!
Его душа – заплеванный Грааль,
Его уста – орозенная язва...
Так ядо-смех сменяла скорби спазма,
Без слез рыдал иронящий Уайльд...
Щедрит причудами оборотов речи, прошедшей через реторту его вдохновенности
(Негное вдыханье... Сафар... Кризантемы...)
Он и сейчас вправе ретурнировать библейское – «Остановись, солнце!»
– Идите, стоящие! Живите, мертвые! Явитесь, небулозы! И слова его вызывают
великий реактив, ибо Игорь Северянин – избранник, отмеченный Богом, наделенный
дарами гения, умом орла, величием короля, ритмом великого бога Олимпийского.
И. В. Игнатьев
КРАСАВИЦА, НЮХАЮЩАЯ ТАБАК
•-Через известные сроки в редакцию приходили маленькие тоненькие брошюрки
стихов, иногда всего в 8-10 страничек. Редактор брал их, метил, посыпал пеплом
смешные, вычурные, нелепые стихи и, улыбаясь, вручал соответственному сотруднику.
– Игорь Северянин опять прислал стихов. Будет охота, – отметьте. Наутро в газетах
появлялись курьезные цитаты:
190
...Чтоб ножки не промокли, их надо окалошить...
...Он готов осупружиться, он решился на все...
...О, Лилия ликеров, о, Crиme de Violette!
...Я выпил грез фиалок фиалковый фиал...
...Я приказал немедля подать кабриолет,
И сел на сером клене в атласный интервал...
...Офиалчен и олилиен озерзамок Мирры Лохвицкой.
Лиловеют разнотонами станы тонких поэтесс...
Не доносятся по озеру шумы города и вздох людской,
Оттого что груди женские тут не груди, а дюшесе.
...Цилиндры солнцевеют, причесанные лоско,
И дамьи туалеты пригодны для витрин.
Смеется куртизанка. Ей вторит солнце броско,
Как хорошо в буфете пить крем-де-мандарин!..
... Я сливочного не имею, фисташковое все распродал...
Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюлле?
Пора популярить изыски, утончиться вкусам народа,
На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс в вирэле...
Пародисты глумились над поэтом, который себя окалошил, обрю– чил и
оперчаточил.
Фельетонисты советовали писать на вывесках: «Дамий портной» и внушали поэту
величайшую осторожность обращенья с грудью красавиц, напоминающую дюшесе.
Литературные обозреватели находили, что поэт, севши в атласный интервал, в
сущности, сел между двух стульев и вызывает к жизни забытые глупости первого
декадента Емелья– нова-Коханского.
В брошюрках были сердечные, нежные песни, – чудачества заслоняли их, и их не
замечали.
Курьезы нанизывались один за другим на имя Игоря Северянина, и имя
запоминалось и становилось чудаческим.
А поэту это точно нравилось, и он подливал масла в огонь.
На обложках брошюрок он печатал анонсы, от которых веяло претензиями
истинной мании величия. Он назначал время, когда принимает редакторов, издателей,
литераторов, композиторов, художников и артистов.
– «Начинающих поэтесс и поэтов, так часто обращающихся ко мне за советами, я
с удовольствием принимаю по воскресениям от – до – ».
«Устроители концертов и читатели принимаются мною по пятницам от – до – ».
«Интервьюеры могут слышать меня по субботам от – до – ».
У брошюрок были пестрые и кричащие названия и подзаголовки: «Электрические
стихи», «За струнной изгородью лиры», «Апофеозная тетрадь третьего тома». Вместо
Петербурга внизу стояло: «Столица на Неве».
А между тем уже подходил рецидив комического времени на Руси. Горсточка
молодых людей открывала игру футуризм. Ей ничего не стоило провозгласить И. С.
своим мэтром. По редакциям и по квартирам писательской братии она разослала
летучие листки, где пела его славу и объявляла о майских праздниках где-то на лоне
природы, где будут устроены «киоски уединения».
И опять газеты смеялись, что устройство киосков предусмотрительно, – от
Петербурга до местности далеко.
Брошюрки И. С. перешли на четвертый десяток. Поклоняемый и славимый в своей
кучке, поэт и сам уверовал в свое величье. В последней тетрадке он был преисполнен
откровенного надмения:
191
Я прогремел на всю Россию,
Как оскандаленный герой.
Литературного Мессию Во мне приветствуют порой...
...Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен Я повсесердно утвержден.
От Баязета к Порт-Артуру Черту упорную провел.
Я покорил литературу,
Взорлил, гремящий, на престол...
Упоенный победой, он, однако, недоумевал пред недостаточностью признания:
Я сам себе боюсь признаться,
Что я живу в такой стране,
Где четверть века центрит Надсон,
А я и Мирра – в стороне.
С видом человека, смертельно пресыщенного славой, он писал, обращаясь к
светилу модернизма:
Я так устал от льстивой свиты И от мучительных похвал!..
Мне скучен королевский титул,
Которым Бог меня венчал.
Вокруг талантливые трусы И обнаглевшая бездарь...
И только вы, Валерий Брюсов,
Как некий равный государь...
Однажды Фофанов пришел в редакцию в сопровождении молодого, стройного,
симпатичного человека, безбородого и безусого, держащегося со светской выправкой,
скромно и спокойно.
Он был без кудрей до плеч, ничто не подчеркивало в его наружности звания поэта, в
глазах светилась своя тихая дума, далекая от предмета случайного сейчас разговора.
– Познакомьтесь: Игорь Северянин. Поэт. Очень талантливый, очень талантливый,
– заговорил своей нервной, заикающейся скороговоркой Фофанов. – Мы на днях
вместе снимались. Я вам принесу карточку.
Огромный и прекрасный талант, Фофанов был щедр на признанье дарований в
начинающих. Так красавица, спокойно, не боясь соперниц, восторгается женским
лицом, почти лишенным всякой прелести. Было видно, что Фофанов полюбил этого
юношу. Он был Нафанаил, в котором не было лести, и если он кому-либо выказывал
свою любовь, то действительно любил его. Игорь Северянин платил ему явным
обожанием, и я мог видеть, что смерть Фофанова потрясла его. Когда К. М. хоронили,
И. С. вышел к могиле и прочел простые, но задушевные и трогательные стихи:
Милый вы мой и добрый! Ведь вы так измучились —
От вечного одиночества, от одиночного холода...
По своей принцессе лазоревой, по Мечте своей соскучились: Сердце-то было
весело, сердце-то было молодо!
Застенчивый всегда и ласковый, вечно вы тревожились,
Пели почти безразумно, – до самозабвения...
С каждой новой песнью ваши страдания множились,
И вы, – о, я понимаю вас! – страдали от вдохновения...
Вижу вашу улыбку, сквозь гроб меня озаряющую,
Слышу, как Божьи ангелы говорят вам: «Добро пожаловать». Господи! прими его
душу, так невыносимо страдающую!
Царство тебе небесное, дорогой Константин Михайлович!..
В те печальные дни мы часто встречались с И. С., но оба обходили то, что для обоих
192
было наиболее интересным, – его писательство. Нас разъединяла одна невыясненная
мысль, и до ее выяснения можно было вести только пустой, посторонний разговор.
Мне хотелось сказать ему:
– Зачем вы, талантливый человек, избираете к известности пути чудачества? У вас
поэтическая душа, вас, в гроб сходя, благословил Фофанов. Зачем вам нужно
окалошивать ножки, сидеть в атласном интервале, огимнивать эксцессы в вирэле? Ведь
ничего этого не было у учителя, которого вы обожали. Зачем вам широковещательные
анонсы о приемах интервьюеров, которые никогда вас не посещали, и напыщенные
стихи о льстивой свите, которой у вас нет? Зачем вам вообще эта ложь, фальшь,
косолапые ходули, пестрые штаны с бубенчиками, весь этот благой мат, если у вас
поэтическая душа и вы можете писать хотя бы вот такие прелестные, трогательные,
личные стихи, похожие на плач большого ребенка, где просто не хочется замечать двух-
трех неправильностей и срывов, как не хотелось их замечать у Фофанова:
Ты ко мне не вернешься, даже ради Тамары,
Ради нашей дочурки, крошки, вроде крола;
У тебя теперь дачи, за обедом – омары,
Ты теперь под защитой вороного крыла...
Ты ко мне не вернешься: на тебе теперь бархат;
Он скрывает безкрылье утомленных плечей...
Ты ко мне не вернешься: предсказатель на картах Погасил за целковый вспышки
поздних лучей!..
Ты ко мне не вернешься, даже... даже проститься,
Но над гробом обидно ты намочишь платок...
Ты ко мне не вернешься в тихом платье из ситца,
В платье радостно-жалком, как грошовый цветок.
Как цветок... Помнишь розы из кисейной бумаги?
О живых ни полслова у могильной плиты!
Ты ко мне не вернешься: грезы больше не маги, —
Я умру одиноким, понимаешь ли ты?!..
Но между нами стояла светскость, и я никогда не сказал ему, что думал.
Он мог возразить мне, что вовсе не интересуется моим мнением, и ведь не говорит
же он мне, что ему не нравится в моих статьях...
И вот с Игорем Северянином совершилось счастливое чудо. Его «поэзы» изданы
отдельной книгой – «Громокипящий кубок».
Сологуб написал к ней ласковое предисловие. Ее все заметили. Многие критики
приветливо говорят о новом таланте. Дар И. С. оценен многими даже выше стоимости.
И. С. стал в то счастливое, но и опасное положение, когда уже выслушивают все, что
бы он не написал.
Где же истина об этом новом поэте, которого до сих пор знали только по
чудачествам? И. С., конечно, не есть и не будет мэтром новой щколы. Но его книга
выходит в очень удачный момент, когда футуристам, вопреки здравому смыслу, удалось
создать около себя бум.
Все курьезы, капризы, вычуры, какими И. С. прославил себя, кажется, целиком
остались и в сборнике его стихов. Но в сборнике заметнее и те действительно
прекрасные, нежные, задушевные пьесы, которые говорят о самом несомненном
поэтическом чувствовании фофановско– го ученика. И их не одна и не две, – их много.
Он глубоко чувствует и в наивных, немного растерянных, неврастенических словах
умеет рассказывать людям про свою грусть, про свою оскорбленную любовь, про свое
обожание, про плачущую девочку в парке, которой жалко ласточки с переломанной
лапкой.
193
В действительно поэтических образах он воспринимает мир, слышит в шумящих
кленах зеленые вальсы весны, видит в тенях парка хоры позабывшихся монахинь, с
поэтической дерзостью, достойной Фофанова, превращает лилию в бокал
шампанского. Он чувствует и весну, и позднюю осень, «когда хромает ветхий месяц,
как половина колеса», а мороз выпивает лужи и затягивает их хрупким хрусталем...
Все это хорошо и иногда прелестно у Северянина, но как много рядом
засоряющего, безвкусного вычура; выдуманных слов, сравнений гостинодворца, для
которого слово «дюшесе» выражает превосходную степень! Как манерничает он,
гоняясь за призраками новых слов! Как смешно и ненужно у него веерит воздух, утреет
и денеет комната, и женские ножки «молоточат» паркет!
Какой привскок чувствуется во всех его глаголах – лунеть, яко– рить, июлить,
весениться, разузорить, ажурить, вуалить, офиалить, беззвучить, оэкранить, офлерить,
обрильянтить, онездешниться; в его прилагательных – бальзаколетний, клюковый,
эстетный; в его наречиях – павлиниево, ореолочно, снегурово!
Сколько дурного вкуса в его желании быть изысканно тонким и галантным!
«Вы такая эстетная, вы такая изящная!» – да неужели он не чувствует, что так
написал бы Епиходов? И разве вот это может петь поэт:
Я в комфортабельной карете, на эллипсических рессорах,
Люблю заехать в златополдень на чашку чая в женоклуб,
Где вкусно сплетничают дамы о свежих дрязгах и о ссорах?..
Игорь Северянин – это красавица, нюхающая табак, хромой принц, алмаз с отбитым
боком, джентльмен в пенсне из польского золота, талантливый художник, почему-то
предпочитающий писать помелом пестрые плакаты. Это не мэтр и не ересиарх
футуризма, – наоборот, признанье и любовь придут к нему, конечно, в ту минуту, когда
он оставит в детской все эти ранние игрушки, весь этот ажур парикмахерски
прифранченных слов и найдет спокойный и честный язык для выражения нежных,
наивных, прелестно-грустных переживаний, какие знает его душа.
Не рожденный в княжьей колыбели, он сделает тем лучше, чем скорее оставит
своих придуманных принцесс и чем скорее выйдет из роли купринского героя
«Гранатового браслета».
Не исключительное, но своеобразное, искреннее дарованье может сделать из него
задушевного, нежного поэта, именно в фофановских тонах. Надо только перестать
водить знакомство с госпожою Пошлостью и сознать, что признание в литературе
покупается не гевальтом и благим матом, а только искренностью таланта. Тот
ненастоящий, ока– лошенный, орекламленный, с 30-ю тысячами интервьюеров и
«льстивой свитой», Игорь Северянин остался бы только мишенью газетных острот.
Пред настоящим – иная дорога, где ему говорят: добро пожаловать!..
А. Измайлов
ПРИНЦЕССА-ГРЕЗА
(«Златолира» Игоря Северянина)
В одном литературном кружке зашла речь о Фофанове. Все соглашались, что трудно
назвать другое имя столь явственно одаренного небесами поэта.
– Но и нет поэта, – сказал стареющий большой писатель, – который, так высоко
взметая одно крыло, так часто влачил бы по земле другое. Если исключить его перлы,
то об остальных стихотворениях будет справедливо сказать, что редкое из них не
испорчено тяжелым прозаизмом, срывом, смешным оборотом или небрежностью.
Откройте наобум его книжку, и я поручусь вам за сказанное.
Захотели проверить. Достали книжку. Поэтесса, ныне здравствующая, раскрыла
какой-то антологический сборник на Фофанове и начала:
Отче наш! Царь, в небесах пребывающий,
194
Оку незримый...
~ Ну, вот видите, – прервал писатель, – «окунь незримый»! Все стихотворенье
прекрасно, но второй стих хоть сейчас в учебник пиитики, как пример какофонии!
У нас, тогдашней литературной молодежи, «окунь незримый» так и запомнился на
всю жизнь и стал символом поэтической оплошности. Если сейчас есть другой поэт,
который бы так сильно напоминал Фо
фанова своим действительно поэтическим складом и вместе изобилием незримых
окуней, – то это, конечно, Игорь Северянин. Второй сборник стихов его «Златолира»
только что появился на книжном рынке.
Читая его, ломаешь руки. Боже мой, можно ли более безжалостно давать самому на
себя палку! Среди цветов, настоящих и благоуханных, какие скверные, обмякшие
стебли, какие нелепые подделки из ржавой проволоки и полинялого коленкора, какой
галантерейный язык, какое безвкусное любительство!
Отчего же боишься ты познать материнство?
Плюй на все осужденья, как на подлое свинство!..
...Вонзите штопор в упругость пробки,
И взоры женщин не будут робки.
Да, взоры женщин не будут робки,
И к знойной страсти завьются тропки...
...Заказали вы «пилку», – как назвали вы стерлядь, —
И из капорцев соус, и рейнвейнского конус...
Я хочу ошедеврить, я желаю оперлить Все, что связано с вами, – даже, знаете, соус!..
Какие чудачества футуризма с «кротами берлинства, лондонства, ньюйорчества», с
дамой, которая «пристулила в седьмом ряду», с величием истинного маньяка!
Мне отдалась сама Венера,
И я всемирно знаменит!..
...О, гениальный, о, талантливый! —
Мне возгремит хвалу народ.
...Победой гордый, юнью дерзкий,
С усладой славы в голове,
Я вдохновенно сел в курьерский,
Спеша в столицу на Неве...
...Великого приветствует великий,
Рука моя тебе, собрат Титан!..
Какие, наконец, рифмы, от которых перевернется в гробу Минаев! «Есть тихий
остров, – ползет под мост ров», «был акварель сам, – по сверкающим рельсам», «у
бонны из-под рук, – каждый отрок», «кто идет, какой пикантный шаг, – ты отдашься
мне на ландышах», «где шелковые пихты, – слышать их ты», «когда в росе лень, —
зелень», «хохотом, – вздох о том», «сумраком полян дыши, – реющие ландыши»...
Любительство, безвкусие, парикмахерская галантерейность, хороший тон Гоппе. Но
перебрасываешь страницу, – цветы, аромат, све
жесть, зелень, солнце! Просто не веришь, – неужели то и другое от одного?
Смеется и плачет душа большого ребенка, совсем такая же, как фофановская, —
ласковая, безумная, растрепанная, наивная в земном смысле, натворившая веселых
ошибок и сама не знающая, как теперь избыть их совсем невеселые последствия.
И хочется забыть все, что сейчас оскорбляло вкус, – нелепые выверты, смешные
рифмы, поприщинские позы. Хочется послать к черту этот размалеванный, рекламный
плакат, какой напялил себе на лопатки талантливый и интересный человек, почему-то
думающий, что его без того не заметят, и подойти к нему, – настоящему, светлолицему,
ясноокому, сбросившему маску, улыбающемуся сквозь слезы!..
195
Что большая редкость, – вторая книга стихов Игоря Северянина не слабее первой.
И что совсем утешительно, – добрая половина этих стихов вовсе свободна от вычуров,
от слов «новоделов», которыми поэт доселе щеголял, как деревенская модница
медными серьгами. Ах, это опять нужно было только для того, чтобы его заметили!
Конечно, он бросит все это, – вот уже бросает! – сознав, что прелесть поэзии в
искренности, в пламени сердца, в самобытности поэтического облика, и что внезапно
родившийся к месту неологизм так же прекрасен, как постылы все эти вымученные
кренделя – «девно, журчно, ошедеврить и рондовить».
Как хорошо, что есть возможность видеть иногда Игоря Северянина одного «под
смоковницей», под сиренью, не в толпе, для которой он так оттопыривает веки и
которой выдает себя за царя Марсельезии. И когда он бросает свой бутафорской
скипетр и порфиру с нарисованными клеевой краской соболиными хвостами, вы
видите в нем своего брата, сына вашего века, милого фантазера-поэта, искренно
смеющегося, тоскующего, плачущего, счастливого тем, что нравящаяся женщина
согласилась поехать с ним в осенний бор или села около него, качающегося в гамаке.
«А теперь, пока листвеют клены, ласкова улыбка, и мягка, посиди безмолвно и
влюбленно около меня, у гамака... Раскачни мой гамак, подкачни, – мы с тобою
вдвоем, мы одни. И какое нам дело, что там, – где-то там не сочувствуют нам!»...
Но чаще он печален. Ах, у него были такие ошибки, такие непоправимые ошибки!
Обе вы мне жены, и у каждой дети, – Девочка и мальчик, – оба от меня.
Девочкина мама с папой в кабинете,– О другой не знаю тысячу три дня... Девочкина
мама, – тяжко ль ей, легко ли,– У меня, со мною, целиком во мне.
А другая мама где-то там, на воле,
Может быть, на море, может быть, на дне.
Но ее ребенок, маленький мой мальчик,
Матерью пристроен за три пятьдесят...
Кто же поцелует рта его коральчик!..
Что же я, – невинен или виноват?
Ах я взял бы, взял бы крошку дорогого,
Миленького детку в тесный кабинет!..
Девочкина мама! Слово, только слово!..
Это так жестоко: ты ни д а, ни не т!..
Ах, если хотите правды, он вовсе не король Марсельезии! Никакие герцогини не
шлют ему яблоков из своего сада с золочеными пиками! Он самый обыкновенный
человек, самым обыкновенным образом потерявший ту, которую когда-то любил.
Семь лет она не писала,
Семь лет молчала она.
Должно быть, ей грустно стало,
Но, впрочем, теперь весна...
В ее письме ни строчки О нашей горькой дочке,
О тоске, о тоске,—
Спокойно перо в руке.
Письмо ничем не дышит,
Как вечер в октябре.
Она бесстрастно пишет О своей сестре.
Меня настойчиво просит Сестры ее не бросить:
«Ведь, ваш от нее сын Покинут. Один, один».
Ах, что же я отвечу,
И надо ль отвечать?..
Но сегодняшний вечер Будет опять, опять...
196
Поэт пил не одно шампанское из лилий. Он хлебнул и из кубка подлинной земной
печали, и потому так хорошо понимает и смешное горе Феклы, пишущей несуразное
письмо своему милому, и смертную усталость молодой портнихи.
Заклевали меня, оболгали. Из веселой когда-то, из смелой Стала я от любви
безысходной мокрой курой и дурой для всех...
Пожалей же меня, мой уклюжий! Полюби же меня, мой умелый! Разгрешилась на
девке деревня, – значит, девку попутает грех.
Ты приходишь невеселая, утомленная, угасшая И сидишь в изнеможении без
желаний и без слов...
Развернешь газету, – хмуришься, от себя ее отбрасывая:
Тут уже не до политики, тут уже не до балов...
...В мастерской – от вздорных девочек – шум такой же,
как на митинге,
Голова болит и кружится – от болтливых мастериц...
Не мечтать тебе, голубушка, о валькириях, о викинге:
Наработаешься за день-то, – к вечеру не до цариц!..
Что есть поэт? Неприкаянная душа, что бродит в мире, всех жалея, все оплакивая,
чудак, питающийся супом из незабудок, бедный Дон Кихот, наполняющий жизнь
призраками и зажигающий таинственные огни в запущенном старом доме, где
шмыгают одни голодные крысы. В окне поезда мелькнула прекрасная чужая женщина.
Ничего не было, но у него уже перевернулась душа. Он бредет на свой чердак, не
чувствуя земли под собой, и ему кажется, что совершилось что-то большое, большое...
Я в поле. Вечер. Полотно.
Проходит поезд. Полный ход.
Чужая женщина в окно Мне отдается и берет...
Ей, вероятно, двадцать три,
Зыбка в ее глазах фиоль.
В лучах оранжевой зари Улыбку искривляет боль.
Я женщину крещу. Рукой Она дарит мне поцелуй.
Проходит поезд. Сам не свой,
Навек теряя, я люблю...
В этом смысле Игорь Северянин – настоящий поэт, которому муза бросила цевницу
в детскую колыбель. Таким «гулякой праздным», отдавшим вольное сердце жизни
вольным впечатлениям, прошел свой век Фофанов. Его тоже никакие графини не звали
кататься в кабриолетах, но и он свою прекрасную мечту где-то в холодном Сергиеве не
променял бы ни на какие престолы и царства. Так проходит свою жизнь Блок,
разложивший среди улицы свой кукольный театрик и играющий, не стыдясь взрослых,
своими Коломбинами и Пьеро.
Северянин – их родной брат, сеющий розы на снегу, видящий Осень-старуху в
желтом пледе, любящий незабудок, этих детей канав с голубыми глазами. То начало
неврастеничности, безволия, дурманно– сти, какое отличает его, отличает и
сегодняшний день, и вот что особенно откроет ему некоторые сердца. И когда из его
стихов исчезнут парикмахерские духи и марки шампанского, ему из гроба ласково
улыбнется такой ему родственный и так нежно им любимый певец «Царевича
Триолета».
Л. Измайлов
О «Я» и «что-то»
Около литературы, среди описательства, народилось явление, крошечное по
размерам, бессильное, но характерное и очень подчеркивающее, поясняющее мои
соображения об индивидуализме. Вне этих соображений оно нелепость – и я его долго
197
не мог понять.
Говорю о кружке русских «эго-футуристов». О них, вопреки их собственному
мнению, решительно никто не знает, а потому сразу поясню: это просто несколько
молодых людей, которые пытались занять по отношению к современной дитературе
позицию, которую когда-то заняли «декаденты». Так же принялись они выдумывать
«новые слова», точь-в-точь с тем же задором и той же напускной самоуверенностью.
Все то же, только помельче: «декаденты» повели себя от Фета, а нынешние – от
Фофанова, т. е. от Фетовского... племянника, что ли. Вот эта «старость» нового
особенно и удивляла меня. Вскоре выяснилось, что из этих молодых людей только один
более или менее способен к стихосложению (да и тот не так уж молод, лет за тридцать),
кружок несколько распался, брошюрки перестали выходить. Оставшийся более
талантливый поэт решил печатать свои произведения отдельно, а потом он, конечно,
появится и на страницах самых «обыкновенных» журналов (кажется, даже появился);
талантливость его – именно обыкновенный «модерн», если вычесть некоторые
претенциозные провинциализмы, стесать уголки.
Любопытна не степень талантливости этого единственного «поэта» из эго-
футуристов, и не то, что другие оказались бездарными, и не задор знакомо-
декадентский, – нет, знаменательна их беспомощная, глупенькая, но инстинктивно
верная «программа»; любопытно, что
они, подражатели и роковым образом «описатели», закричали вдруг об «ego», об
утерянном «Я». Бессильно закричали, не с того конца, и показали, что они открывают
Америку; однако по существу-то вышло кстати, потому что Америку открытую мы
незаметно утеряли.
Стихи единого талантливого эго-футуриста – чистейшее «описательство».
Несмотря на все самозаявления, только описательство, «ego» в них и не ночевало; тем
трогательнее верный инстинкт, влекущий в верную сторону, трогательно и свято
покушение на личность, – пусть с негодными средствами. Объявилось желание найти
«себя»; сказалось открыто, что современная литература потеряла или теряет «Я»; в ней
тонет писатель, тонет человек.
Антон Крайний
ПОЭТ ЭКСЦБССЕР
Прежде чем приступить к краткому разбору творчества Игоря Северянина, я
позволю себе сказать несколько слов pro domo mea.
Не принадлежа к той литературной группе, центром которой является, быть может,
И. С., я все же охотно говорю о нем и вот почему: как ни разъединяли бы враждебные
утверждения, различные литературные течения, – все они роднятся в стремлении к
единой цели всякого искусства (а эта общая цель, думается мне, существует). Разными
руслами, не смешиваясь, текут они, но текут в один и тот же голубой океан поэзии,
омывающий материк реальности. Любовь к искусству снимает лозунговые
противоречия. Я могу отрицательно относиться к футуризму как к программе, но
любить стихи Игоря Северянина. Искусство не преходит, а школы меняются. Да и что
такое литературная школа? В значительной степени она есть возведение в догмат,
понимаемый как требование извне индивидуальных качеств, свойств и склонностей
самобытного художника-родоначальника, изнутри обусловливающих его творческую
деятельность.
Из самого положения моего по отношению к поэзии И. С. следует, нто задачей
моею не может быть проповедь футуризма. Определение места И. С. в современной
литературе российской, исследование особенностей его языка и стихосложения, – с
точки зрения теории словесности все это чрезвычайно интересно. Мне кажется
уместным коснуться этих особенностей И. С., но не для того, чтобы произвести
198
синтаксический или этимологический анализ его языка, а для того, чтобы в
структуре его речи, рисунке ее оборотов и ритмических движений уловить
колеблющуюся линию лирических движений его души, проникнуть чрез них в душу
его творческих образов и этим приблизить читателей к поэту, протянуть нить от сердец
слушателей к его сердцу, – и, если мне удастся достигнуть этого, я буду считать свою
задачу выполненной.
Когда открываешь впервые любую книгу И. С., первое чувство, какое испытываешь,
это чувство недоумения. На каком языке написана эта книга? Иностранные звуки
преобладают, речь пестрит неслыханными словообразованиями, капризными
неожиданными оборотами. Стихотворные метры так разнообразны, что, даже не читая,
а только взглянув на стихи, удивляешься прихотливости, с которой полуаршинные
десятистопные строфы, едва умещающиеся на двух строках, чередуются со строфами в
один только слог; а рядом совсем безразмерная и вместе с тем таинственно певучая
речь.
Но не даром Ш. Бодлэр говорит, что удивление есть первый и существенный
момент в восприятии художественных произведений. Удивление, останавливая
непрерывно текущий психической процесс, удаляет с поля сознания все прежние
представления и как бы очищает его для принятия новых. В самом деле, сколько
ежедневно проглядываем мы стихов и прозы в толстых и тощих журналах для того,
чтобы через минуту позабыть о них навсегда. А стихи И. С. могут, пожалуй, возмутить,
рассердить, даже оскорбить с первого взгляда, но можно быть уверенным, что тот, кто
возмущался, вспомнит о них неожиданно для самого себя и вернется к ним и при
вторичном, более пристальном и внимательном взгляде, заметит, что возмущавшие его
особенности поэтической речи И. С. не суть неумелость и неловкость его, а все они,
даже самые вопиющие, самые беззаконные, объединены каким-то законом, – и закон
этот – цельность личности поэта.
Намечается путь: раскрыв закон, являющийся объединяющим принципом внешних
приемов творчества И. С., – тем самым подойти к психологическому характеру
творческой личности Игоря Северянина; это будет для нас первой твердой ступенью
для того, чтобы, связав внешние приемы с внутренним психологическим содержанием,
перейти к ценностям, заключенным в творчестве поэта.
Само собой напрашивается разделение особенностей языка И. С. на две группы.
Первая заключает в себе особенности с точки зрения русской речи вообще, вторая – с
точки зрения речи поэтической. Иначе говоря, первая предметом нашего разбора
полагает своеобразное словообразование и словоподчинение Игоря Северянина, вторая
– его стихосложение.
Еще раз подчеркиваю, что, несмотря на общность предмета, задача моя с задачей
теоретико-словесной критики ничего общего не имеет; даже больше: они прямо
противоположны, потому что то, что является для филолога-языковеда дефективным,
бесценным, – неправильности языка, именно и интересует меня; правило безлично,
отклонение индивидуально, а определение индивидуальности И. С. и составляет мою
цель.
Я уже говорил, что с первого взгляда отмечаешь изобилие иностранных,







