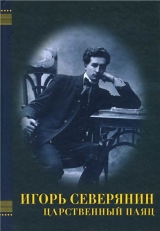
Текст книги "Царственный паяц"
Автор книги: Игорь Северянин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 40 страниц)
7.
Человек – Эгоист.
II. Интуиция. Теософия.
III. Мысль до безумия: безумие индивидуально.
IV. Призма стиля – реставрация спектра мысли.
V. Душа – Истина.
Ректориат:
Игорь-Северянин.
Константин Олимпов (К. К. Фофанов).
Георгий Иванов.
Грааль Арельский.
Имена членов ректориата начинают встречаться затем на страницах первого
периодигеского издания эго-футуристов, — газеты «Петербургский глашатай»,
основанной и издаваемой И. В. Игнатьевым с 12 февраля 1912 г. Несмотря на то, что
облик первого номера газеты был довольно робок и неопределен, – она пронеслась
ураганом от «Урала до Алтая, от Амура до Днепра». Всколыхнулась провинциальная
интеллигенция – полетели в Петербург приветственные послания со всех сторон
России, из Владивостока, Костромы, Рыбинска, Смоленска... Новым течением
заинтересована вся серьезно читающая публика. Тут-то и начинается главная роль
посредника между Читателем и Автором – «Критики». Сюсюкая идиотским
хихиканьем, она топчет Новое, встающее на ноги, вместо того чтобы помочь ему
подняться. «Больные»... «Декаденты»... «Желтые люди»... «Сумасшедшие»... Каждый
трубит в свою дуду – черные бьют в набат, крича «о загаживании русского языка»
(«Земщина»), красные нажимают педаль на «слуг разжиревшей буржуазии» (3
фельетона «Рыбинской копейки», «Поволжский вестник», «Скверное утро»).
Бездоказательное неприятие, беззастенчивое хулиганское издевательство, попугайские
выкрики «декадент! декадент!» (а Вы знаете разницу между Декадансом и
Мистическим Анархизмом, госпожа тупорылая «Критика»?!) – вот встреча эго-
футуризма со стороны нечистоплотной дряни, стоящей у кормила Оценки. Но все это
не приводит ни к чему. «Критика» делает попытки
к замалчиванию – Читатель настойчиво требует сведений о Новом Светлом
Течении. Приходится идти на компромиссы. Вот почему в России нет ни одного
захудалого листка, не посвятившего хотя бы колонку строк эго-футуризму, который
крепнет, яснеет, растет.
Это видно и по второму номеру «Петербургского глашатая», вышедшему 11 марта
1912 г.
Такой чисто суворовский штурм и победы побуждают Дирекцию устроить ряд
редакционных раутов, банкетов и soirйes, о которых говорит весь Петербург.
Благовоспитанное времяпрепровождение за чтением поэз и фиалом крэм де-
265
Виолетта является протестом интеллектуальных интимников против мещанства
публичных эксцессов футуристов итало-француз– ских, отличающихся крайнею
стадностью и нетерпимостью. (Между прочим, ими преданы публичному сожжению
творения Римского-Корсакова, Чайковского, Сен-Санса и др.)
В начале весны текущего года намечался к устройству открытый поэзо-концерт.
Были разосланы приглашения, в том числе и А. И. Куприну, ответное письмо которого
помещено на первой странице. Был даже обнародован проект программы.
Ego
МЫЗА «ИВАНОВКА»
Ст. Пудость, Балт. ж. д. Гатчинская Мельница. В парке при Охотничьем
Дворце Павла I-го, на Эстраде у мраморных урн, в прелюде Мае 1912 г.
Первый весенний концерт Вселенского-Футуризма организованный Дирек-
циею Газеты «Петербургский глашатай».
Соисполнители:
Игорь-Северянин. И. В. Игнатьев. Константин Олимпов. И. С. Лукаш.
Начало точно в полночь.
В парке лиловая иллюминация. Эоло-колокольчики. Незримые окарины и
свирели.
Киоски: Уединения. Эго-сборников. Молока и черного хлеба.
Шалэ Амура.
Буфет на восточной веранде Дворца у самой Эстрады. Вина садов князя
Юсупова; Ликер Crиme de Violettes фирмы Cusenier. Розовые гатчинские форели;
хариусы; Bonbons-Violettes от Гурмэ. Чай из лепестков fleur d’orange. Гондолы для
переправы через р. Махалитту: «Принцесса Греза», «Алави».
Вшаг по пригласительным вержэткам.
Обратный поезд 5 ч. у.
О дне Концерта будет анонсировано во всех столичных изданиях.
Директор Газеты И. В. Игнатьев
Дмитрий Крючков ДЕМИМОНДЕНКА И ЛЕСОФЕЯ
...Она кусает платок, юледнея, Демимонденка и лесофея!
Игорь – Северянин
Дна лица милых, близких, и певучих, у нее живущей «в шалэ березовом, таком
игрушечном и комфортабельном» – демимонденки и ле– софеи. И, быть может, они не
знают друг друга – качелящая грезэрка в «шумном платье муаровом» и та, другая,
пишущая классическое, нежное, бездумно-ароматное «Письмо из усадьбы», уходящая
на ловлю стерлядей и «противно-узких щук». Изменчив, как городской шум, как
прихоти кокотки, путь Северянина, опьянен ликером современности. Ведь ей, Зизи, так
близки Тома и Масснэ – разве не бальных зал, электрических лучений многоглазых
люстр и пышноцветной прелести быстротекущего дня в их музыке, такой обычной,
такой приемлемой усталым сердцем, зацелованным прохожими. И в смутных снах ей
грезится форелевая река и там любовь, подобная лилии – галантный принц Эксцесс.
Женщина идет по рифменной тропе Северянина, и сам он, подобно этому зверобогу в
кружевах и газе, мимолетен, трагически пламенен и комедийно легкомыслен.
Это лицо его поэзии, томящееся в ожидании «литавров солнца», принадлежит той,
что
Умом ребенок, душою женщина.
Она могла сделать своим возлюбленным его, рыдающая за «струнной изгородью
лиры».
Надолго ли любовь эта? Не так ли мигна она, как синие вскрики трамвайных искр,
как соленый изумруд океанского прибоя?
266
Что нужды – в темной башне ждет поэта – Тринадцатая. Она долго ждет его, и
любовь ее подобна косному агату. Любит, убивает, ждет, чтобы любить, и теряет, чтобы
обрести. В темную, хмарную грусть облечена душа поэта, не радуют ласки двенадцати,
таких обычных и близких, как все живущее, как все достижимое.
Но бывают ночи: заберусь я в башню,
Заберусь один в тринадцатый этаж,
И смотрю на море, и смотрю на пашню,
И чарует греза все одна и та ж:
Хорошо бы в этой комнате стеклянной Пить златистогрезый, черный виноград С
вечно-безымянной, страшно так желанной,
Той, кого не знаю, и узнать не рад.
Верным послом, неустанным странником идет поэт к Тринадцатой – путем
странным, смутно-изменчивым, тем путем, что шел посол «герцогини дель Аква Тор»,
ища страну Виктории Регины, гордо, скупо надменного цветка.
Но легко ли уйти от «офраченных картавцев», от цитровых оркестров и сплинных
женоклубов на милый север, под зеленоглазое небо, под опалы звезд, к долгожданной
Тринадцатой – лесофее?
В шелковых гостиных озерзамка сплетаются медленные сонеты, и сладко мнить,
что
Поплыл я, вдыхая сигару,
Ткя седой и качелящий тюль,
Погрузиться в твою Ниагару,
Сенокося твой спелый июль.
А та, Тринадцатая, лесофея, плачет и молит – задумчивой виолой струнит ее голос:
Мои мечты... О, знаешь их ты!
Они неясны, как намек...
Их понимают только пихты,
А человеку невдомек...
Четок путь между пихтами, небо точит синее вино в зелень луговых бокалов. И
разве не сердцем, не освобождением весны от ледяных уз пахнуло на нас:
Иду в природу, как в обитель,
Петь свой осмеянный устав.
Еще не свершен крут радений, еще не замкнута черта – еще поет поэт. Без
спасительно путеводной нити спустился он в пещерности сердца. И дымной мглой
отомстила ему даль. Из лучей поддельных солнц, шума колес, будней сутолоки вышла
она – возлюбленная в «шумном платье муаровом». Любовь ее хрупка, как бокал
хрустальный, а душа подобна мелкой зыби морской – прихотлива, капризна и жестока.
И к ней стремил кабриолет моторный и только водопад мучений остановил его
хрипучий бег – там лилия запела бело и невинно.
И вдруг безумным жестом остолблен кленоход,
Я лилию заметил у ската в водопад.
Я перед ней склонился, от радости горбат,
Благодаря за встречу, за радостный исход.
И вот снова живо то Мудрое, о чем так певуче говорят слова важные и простые!
Убила девушка, в смущеньи ревности, ударом сабельным
Слепого юношу, в чье ослепление так слепо верила.
Слепая вера, зрячая любовь – не одно ли то же это?
И было гибельно. И было тундрово. И было северно.
И все же не бездонно и не безнадежно. Разве нельзя убить любимого? Разве
страшно это? Ведь на той могиле взойдут томные, невянущие цветы. – Ревность
267
напоит их кровью сердца, испестрит их яростью и усталой печалью и молитвенным
раскаянием.
И вот путь «шатенного трубадура» – от громовых улиц к пихтам, от Масснэ и Тома
к «липовому мотиву», от демимонденки к лесофее. Пусть эти два лика свершают
хоровод, маскируются похоже друг на друга, все же:
Душа влечется в Примитив.
Может ли вселенец уснуть в кокоточных объятиях, «мороженым из сирени» закрыть
«Сириус сверкательно-хрустальный»? В Примитиве благость и всепрощение, и
любовь. Он даст целость жизни, он заключит мир в пламень, сердце и душу превратит
в березовые шелесты, в шум океанской волны.
Многообразна демимонденка – «креолка древнего Днепра», «грэ– зерка» и та, что
входит «в моторный лимузин», но бледен пыл ее румян, слабеет, вянет золотистым,
осенним листом тень ее. Листопад Прошлого – таль Печали – весна Грядущего.
«Литавров Солнца» ждала душа поэта. И они гремят литавры, они победны.
Влекусь рекой, цвету сиренью,
Пылаю солнцем, льюсь луной,
Мечусь костром, беззвучу тенью И вею бабочкой цветной.
Я стыну льдом, волную сфинксом,
Порхаю снегом, сплю скалой,
Бегу оленем к дебрям финским,
Свищу безудержной стрелой.
Я с первобытным неразлучен,
Будь это жизнь ли, смерть ли будь.
Мне лед рассудочный докучен, – Я солнце, солнце спрятал в грудь!
В зеленых шумах, на перекресток «палевых дорог» пришла Тринадцатая, такая
наивная и простая, но и могучая пламенем веры, юродством любви. Ласки ее
благоуханны и нескончаемы.
Как в алфавите, а и б,
Так мы с тобою в нашей тайне.
В этой тайне, в этом замке неизменяющей любви так грезно, так желанно нам.
Внизу грохочет день, моторит город, смеется демимонденка,
Эскизя страсть в корректном кавалере.
Она – как тень, певучая, вечно изменяющаяся и вечно изменяющая. Но разве ей
дано пламенить душу, разве она -Дульцинея сонных видений? Разве не постылеет
облик ее вместе с родившим – городом, стальным, грохочущим, неумолчным, с
нудной цепью старинных будней и ненужных праздников? Ей ли устоять против
лесофеи – когда легко и певуче восклицается:
Я вижу росные туманы,
Я слышу липовый мотив!
Мы знаем, мы чуем – много чудесных неожиданностей, много «ажурных
сюрпризов» таит душа Северянина. Певучей «росою накап– лен его бокал», внятен
сердцу «говор хат» – хочешь верить чарам, хочешь сбытия волшебств и шепчешь
исходные слова:
В ненастный день взойдет, как солнце,
Моя вселенская душа!
То будет день победный, день венчальный – звезды сплетут венцы брачные для
Тринадцатой и для того, чей путь туманен, кто верен себе и той мечте, той тени, что
Кусает платок, бледнея,
Демимонденка и лесофея.
СПб., 26 сентября 1913 г.
268
Корней Чуковский ФУТУРИСТЫ
I
Как много у поэта экипажей! Кабриолеты, фаэтоны, ландо! И какие великолепные,
пышные! Уж не герцог ли он Арлекинский? Мы с завистью читаем в его книгах:
«Я приказал немедля подать кабриолет...»
«Я в комфортабельной карете на эллипсических рессорах...»
«Элегантная коляска в электрическом биенье эластично шелестела по шоссейному
песку. .»
И мелькают в его книге слова:
«Моторное ландо»... «Моторный лимузин»... «Г^афинин фаэтон»... «Каретка
куртизанки»...
И даже когда он умрет, его на кладбище свезут в автомобиле, – так уверяет он сам,
– другого катафалка он не хочет для своих шикарных похорон! И какие ландо,
ландолетты потянутся за его фарфоровым гробом!
II
Это будут фешенебельные похороны. За фарфоровым гробом поэта потекут в
сиреневом трауре баронессы, дюшессы, виконтессы, и Мадлена со страусовым веером,
и синьора из «Аквариума». О, воскресни, наш милый поэт! Кто, если не ты, воспоет
наши будуары, журфиксы, муаровые платья, экипажи? Кто прошепелявит нам, как ты,
галантный и галантерейный комплимент?
– Вы такая эстетная, вы такая бутончатая! – шептал ты каждой из нас. -
Властелинша планеты голубых антилоп!
И даже когда мы в гостиной —
В желтой гостиной из серого клена с обивкою шелковой, —
угощали визитеров кексом, у тебя, как у Данте, в душе возникали сонеты. Ты один
был нашим менестрелем, и как грациозно-капризны бывали твои паркетные шалости!
Как мы жемчужно смеялись, когда однажды ты заказал в ресторане мороженое из
сирени (мороженое из сирени!) И в лилию налил шампанского. Или подарил нам боа из
кудрявых цветов хризантем! Гордец, ты любил уверять, что у тебя, в твоей родной
Арлекинии, есть свой придворный гарем:
У меня дворец пятнадцатиэтажный,
У меня принцесса в каждом этаже!
И странно: тебе это шло, тебе это было к лицу, как будто ты и вправду инкогнито-
принц, и все женщины – твои одалиски, и это ничего, что у рябой коровницы ты снимал
в Козьей Балке дачу: эту дачу ты звал коттеджем, а ее хозяйку сиятельством; дворник у
тебя превращался в дворецкого, кухарка Маланья в субретку, и даже мы, белошвейки,
оказались у тебя принцессами:
– Я каждую женщину хочу опринцессить! – таков был твой гордый девиз.
Но что же делать принцессам без принца? О, воскресни, наш милый принц!
III
Тут непременно случится великое чудо. Из гроба послышится жуткий и сладостный
голос того, кого мы так горько оплакиваем:
«Гарсон! сымпровизируй блестящий файв о’клок!» – и шикарный денди-поэт,
жеманно и кокетливо потягиваясь, выпрыгнет из фешенебельного гроба: —
Шампанского в лилию! Шампанского в лилию! – И закричит шоферу-похоронщику:
Как хорошо в буфете пить крем-де-мандарин!
За чем же дело стало? – К буфету, черный кучер!
IV
Многие, конечно, догадались, что герой этой странной повести наш
фешенебельный, галантный поэт, лев сезона, Игорь Северянин.
269
Я только вчера прочитал его книгу, и теперь в душе осколки его строф:
– Ножки пледом закутайте, дорогим ягуаровым...
– Виконт сомневался в своей виконтессе...
– Вы прислали с субреткою мне вчера хризантемы...
– Дворецкий ваш... на мраморной террасе...
– Mingon с Escamillio! Mingon с Escamillio! Шампанское в лилии святое вино!
О, лакированная, парфюмерная, будуарно-элегантная душа! Он глядит на мир
сквозь лорнет, и его эстетика есть эстетика сноба. О чем бы он ни говорил: о Мадонне,
о звездах, о смерти, я читаю у него между строк:
– Гарсон! сымпровизируй блестящий файв о’клок.
Его любимые слова: фешенебельный, комфортабельный, пикантный. Не только
темы и образы, но и все его вкусы, приемы, самый метод его мышления, самый стиль
его творчества определяются веерами, шампанским, ресторанами, бриллиантами. Его
стих, остроумный, кокетливо-пикантный, жеманный, жантильный, весь как бы
пропитан этим воздухом бара, журфикса, кабарэ, скетинг-ринга. Характерно, что он
ввел в нашу поэзию паркетное французское сюсюканье и стрелку называет пуантом,
стул – плиантом, молнию – эклером и даже русскую народную песню озаглавливает
«Chanson Russe». Фиоль, шале, буше, офлёрить, эксцессерка, грезёрка, сюрпризёрка —
на таком жаргоне он пишет стихи, совсем как (помните?) мадам де Курдюков:
Вам понравится Европа.
Право, мешкать иль не фо па,
А то будете малад,
Отправляйтесь-ко в Кронштадт.
Же не её па, же нире па,
Же не манж па де ла репа.
И не странно ли, не изумительно ли, что все же, несмотря ни на что, его стих так
волнующе-сладостен! Дух дышит, где хочет, и вот под вульгарною личиною сноба
сильный и властный поэт. Бог дал ему, ни с того ни с сего, такую певучую силу,
которая, словно река, подхватит тебя и несет, как бумажку, барахтайся сколько хочешь:
богатый музыкально-лирический дар. У него словно не сердце, а флейта, словно не
кровь, а шампанское! Сколько бы ему ни было лет, ему вечно будет восемнадцать. Все,
что увидит или почувствует, у него претворяется в музыку, и даже эти коляски,
кабриолеты, кареты, – ведь каждая в его стихе звучит по-своему, имеет свой
собственный ритм, свой собственный стихотворный напев, и мне кажется, если б
иностранец, не знающий ни слова по-русски, услышал, например, эти томные звуки:
Я в комфортабельной карете на эллипсических рессорах Люблю заехать в
златополдень на чашку чаю в женоклуб, -
он в самом кадансе стиха почувствовал бы ленивое баюкание эластичных
резиновых шин. И какой сумасшедшей музыкой в его стихотворении «Фиолетовый
транс» отпечатлен ураганный бег бешено ревущего
автомобиля. Как виртуозно он умеет передать самой мелодией стиха и полет
аэроплана, и качание качелей, и мгновенно мелькнувший экспресс, и танцы, особенно
танцы:
И пела луна, танцевавшая в море!
Даже свои поэзы он означает, как ноты: соната, интермеццо, berceuse. Про какую-то
женщину он говорит:
Она передернулась, как в оркестре мотив!
Конечно, он нисколько не Бах и не Вагнер, скорое всего он Массне, салоннейший из
композиторов, коего благоговейно воспевает. Один критик даже рассердился: можно ли
воспевать такого сноба, – но кого же и воспевать поэту-снобу! Он верен себе во всем.
270
Давайте решим на минуту, что снобизм, пшютизм, как и все остальное, имеют право
излиться в искусстве и что от художника нам нужно одно: пусть он полнее, пышнее,
рельефнее выявит пред нами свою душу, не все ли равно какую. Мелодекламация
дамски-альбомных романсов нашего галантного поэта и какие-нибудь гимны Ра,
псалмы Ксочиквецали – перед лицом Аполлона равны.
V
Эта салонность поэзии как будто и неуместна теперь. Светозарный Игорь
Северянин, милый принц, он явился как будто не вовремя. Ведь нынче в моде,
напротив, пещерность, звериность, дикарство; поэты из сил выбиваются, как бы
позверинее рявкнуть. Кто же поймет и полюбит теперь
[Его] волшебные сюрпризы,
[Его] ажурные стихи!
Нынче даже тонкие эстеты, парнасцы, как, например, Гумилев, вдруг записались в
Адамы: основали секту адамистов, первобытных, первозданных людей.
– Как адамисты, мы немного лесные звери! – уверяют эти господа. – Сбросим же
с себя «наслоения тысячелетних культур»! Все эти адамисты, как и эгофутурист Игорь
Северянин, – живут в Петербурге и порождены Петербургом.
А московским кубофутуристам нечего больше и сбрасывать. Они уже все с себя
сбросили: грамматику, логику, психологию, эстетику, членораздельную речь, – визжат,
верещат по-звериному:
Сарча кроча буга на вихроль!
Зю цю э спрум!
Беляматокияй!
«То было и у диких племен», – поясняет их апостол Крученых. Вот воистину
модный девиз для всех современных художеств: «Го было и у диких племен». Тяга к
дикарю, к лесному зверю, к самой первобытной первобытности есть ярчайшая черта
нашей эпохи; сказать про творение искусства: «Го было и у диких племен», - нынче
значит оправдать и возвысить его. Пусть Игорь Северянин, как хочет, жеманничает со
своими кокотессами-принцессами в желтой гостиной из серого клена с обивкою
шелковой, – на него со всех сторон накинутся с бумерангами, дубинами, скальпами
кубисты, футуристы, бурлюкисты: сарча, кроча, буга на вихроль! – и, не внемля его
французскому лепету, затопчут бедного поэта, как фиалку. Долой финтифлюшки, и в
той же гостиной на всех шифоньерках расставят явайских, малайских, нубийских
кривоногих пузатых идолов, по-шамански завопят перед ним: зю цю э спрум!
Беляматокияй!
«Сбросим с себя наслоения тысячелетних культур!» – таков бессознательный
лозунг новейших романов, поэм, философий, статуй, танцев, картин.
«О, большие черные боги Нубии!» – взывает один кубофутурист и, свергая
Аполлона Бельведерского, славит «криво-чернявого идола»!
«Вашему Аполлону пора умереть, – пишет он в альманахе «Союз молодежи». – У
вашего Аполлона подагра, рахит. Мы раздробим ему череп. Вот вам другой Аполлон,
криво-чернявый урод!»
Даже Венеру Милосскую они обратили в дикарку, сослали ее в тундру, в Сибирь, и
бедная неутешно рыдает в поэме московского Хлебникова:
Ты веришь? – видишь? снег и вьюга!
А я, владычица царей,
Ищу покрова и досуга Среди сибирских дикарей.
Игорь Северянин явился не вовремя, бонбоньерочный, фарфоровый, ажурный.
Добро бы к такому дикарству влеклись одни московские футуристы. Бог бы с ними! Но
нет. Это всеобщая тяга. Джек Лондон отнюдь не футурист, а ведь вся Европа влюбилась
271
в него именно за эти призывы к первобытности, звериности, стихийности.
Стихийность! Что же и славят теперь нынешние модные философы.
Антиинтеллектуализм господствует нынче повсюду. Ratio, Logos – нынче у нас не в
фаворе, – дорогу слепым, но вещим озарениям стихийной души. Интуитивное
постижение мира, темный звериный нюх, шаманский экстатический бред мудрее вашей
бедной рассудочности. «Сбросим же с себя наслоения тысячелетних культур!»
И ведь дошло до того, что даже он, даже Игорь Северянин, от кокоток, кушеток,
файв о’клоков, гарсонов тоже вместе со всеми устремля
ется в тундру, в первобытные дебри дремучих лесов. Сидит со своими гризетками
где-нибудь в отдельном кабинете или
В будуаре тоскующей нарумяненной Нелли,
Где под пудрой молитвенник, а на ней Поль де Кок, -
и вдруг заявит ни с того ни с сего:
«Иду в природу, как в обитель...», «По природе я взалкал», «Бегу оленем к дебрям
финским...», «И там в глуши, в краю олонца... Моя душа взойдет, как солнце».
Повторяю, теперь это мода, и, право, прелестна его виконтесса, которая прямо из
ложи театра угодила на Северный полюс:
Я остановила у эскимосской юрты
Пегого оленя, – он поглядел умно...
А я достала фрукты И стала пить вино.
И в тундре – вы понимаете? – стало южно...
В щелчках мороза – дробь кастаньет...
И захохотала я жемчужно,
Наведя на эскимоса свой лорнет.
Тундры, юрты, олени делают особенно пикантным гривуазно-коко– точный тон этой
очаровательной пьески. Шампанское – в тундре! Эскимос и – лорнет! О, виконтесса
осталась в восторге от диких экзотических стран, – там такие пылкие любовники:
Задушите меня, зацарапайте,
Предпочтенье отдам дикарю!..
Вот в какие неожиданные формы вылилась эта жажда стихийности, чуть только она
докатилась до «желтой гостиной из серого клена, с обивкою шелковой», хотя дело,
конечно, не в формах; знаменательно, что и будуарные души воздыхают нынче по
пещерам и тундрам.
«Гнила культура, как рокфор!» – восклицает Игорь Северянин.
«Я с первобытным неразлучен... Душа влечется в Примитив».
VI
Трогательно наблюдать Игоря Северянина на лоне того Примитива, к которому он
так страстно влечется. Он и в поля и в леса вносит те же паркетные вкусы. Вот
пролетела перед ним стрекоза. «Грациозная кокетка!» – кричит он ей вслед. Сирену он
называет водяной балериной, а деревья ему кажутся маркизами. Он требует, чтобы на
берег моря, на дикий прибрежный песок, ему принесли клавесины, он сыграет попурри
из Амбруаза Тома, а его адьютантесса покуда защитит его
зонтом от солнца. Таково его слияние с природой! Полосы спелой пшеницы для
него золотые галуны, в весеннем шелесте листьев он слышит зеленые вальсы, и даже в
тундре олений бег кажется ему бальным вальсированием.
Нынешняя жажда первобытного привела современных людей к детям, к детской
душе. Художники, особливо кубисты, изучают детские рисунки, пробуют им
подражать; поэты благочестиво печатают образчики детских стихов. Николай Кульбин
в своих лекциях о грядущем искусстве читает стихи семилеток.
Игорь Северянин тоже льнет и влечется к малюткам, но опять-таки как-то по-
272
своему:
Ласковая девонька! Крошечная грешница!
Ты еще пикантнее от людских помой, —
говорит он какой-то крошке, очевидно, с Невского проспекта, —
Котик милый, деточка! встань скорей на цыпочки.
Алогубы-цветики жарко протяни...
В грязной репутации хорошенько выпачкай
Имя светозарное гения в тени!
И здесь он верен себе. Но если бы эти стихи как-нибудь удручили читателя,
затемнили светозарный лик поэта, право, мне очень легко снова вернуть к нему сердца.
Стоит только мне переписать иные его певучие строфы, например, плясовую,
камаринскую – такую утреннюю, молодую, заразительную, или эту его милую
«диссону», в которой многих, я уверен, прельстит такая острая пряность игривых и
пикантных ассонансов:
Ваше Сиятельство, к тридцатилетнему – модному – возрасту Тело имеете
универсальное... как барельеф...
Душу душистую, тщательно скрытую в шелковом шелесте,
Очень удобную для проституток и для королев...
Впрочем, простите мне, Ваше Сиятельство, алые шалости.
Ирония, претворенная в лирику, – здесь Игорь Северянин настоящий маэстро, и я
думаю, сам Обри Бердслей удостоил бы его «диссону» гротеском.
VII
Здесь я, в сущности, мог бы и кончить. И правда, не пора ли расстаться с этой
исчерпанной книгой? Но в самом ее конце, на одной из последних страничек, я
внезапно с удивлением увидел неожиданное слово: футуризм.
Странно. Неужели и он футурист? Вот никогда не подумал бы. В чем же его
футуризм? Может быть, в этих кексах, журфиксах? Или в русско-французском
жаргоне? Но тогда ведь и мадам Курдюкова, которой восьмой десяток, такая же
футуристка, как он. Однако мадам Курдюкова никогда не говорила о себе: «Я
литературный Мессия... Моя интуитивная школа – вселенский эгофутуризм»; это
говорил о себе господин Северянин. В его книге мы беспрестанно читаем, что он
триумфатор, новатор:
Я гений, Игорь Северянин,
Своей победой упоен, -
и когда любимая женщина усомнилась в его победе, он чуть не задушил ее за это:
Немею в бешенстве, – затем, чтоб не убить!
Издевайтесь над ним, хохочите, – вы скоро все поклонитесь ему, так уверяет он
сам. «Новатор в глазах современников – клоун, в глазах же потомков – святой!» У него
есть ученики и апостолы, есть даже, как увидим, Иуда, и в разных газетах и журналах
они возглашают о нем: «Отец Российской эгопоэзии! Ядро отечественного футуризма!
Ее Первосвященник. Верховный Жрец!»
А мы перелистали его книгу, – и где же были наши глаза? – ничего такого не
увидели. В ней откровения грядущих веков, а нам мерещились какие-то романсы! Пред
нами пророк, а мы думали: оперный тенор. Мы думали, что он шантеклер, а он,
смотрите, стоит на Синае с какими-то скрижалями в руках. И на этих скрижалях
начертано:
«Вселенский эгофутуризм... Грядущее осознание жизни... Интуиция... Теософия...
Призма стиля – реставрация спектра мысли... Признание эгобога... Обет вселенской
души», – и так дальше, в таком же роде, а мы, перечтя его книгу и раз, и другой, и
третий, так-таки ни в одной запятой никакого футуризма не нашли! О, критики, слепые
273
кроты! Футуристы отвергают нас недаром. «Вурдалаки, гробокопатели... паразиты!» -
иначе они нас и не зовут.
Вникнем же как можно почтительнее в эти их катехизисы, заповеди, декларации,
манифесты, доктрины, скрижали, постараемся без желчи, без хихиканья понять эту
загадочную секту.
Я готов даже попробовать и сам сделаться на время футуристом, на неделю, на две,
не больше, чтобы точнее, доскональнее узнать и потом поведать всему миру, что же
это, в сущности, такое. Критик так и должен поступать, иначе к чему же и критика! И
если он сам, например, хоть на час не становился Толстым или Чеховым, что он знает о
них! Клянусь, я уже был в свое время и Сологубом, и Белым, и даже Семе
ном Юшкевичем. Нужно претвориться в того, о ком пишешь, нужно заразиться его
лирикой, его ощущением жизни.
Итак, с настоящей минуты я – уже не я, а Бурлюк. Или нет, – Алексей Крученых!
«Сарчй крочй бугй на вихроль!»
Но лучше подожду еще минуту и постараюсь хоть бегло, хоть в нескольких
строчках побыстрее досказать о Северянине.
VIII
Есть два стана русских футуристов: петербургские и московские. Петербургские не
просто футуристы, а с прибавкою слова эго. Северянин – эгофутурист. Эго – по-
гречески: я. Не оттого ли в его стихах так выпячено надменное я:
Я даровал толпе холопов Значенье собственного я.
«Я изнемог от льстивой свиты...», «Я гений, Игорь Северянин...», «Я коронуюсь
утром мая...», «Мне скучен королевский титул, которым бог меня венчал», – не оттого
ли он вечно чувствует свою коронован– ность, избранность, единственность? И все его
адъютанты за ним. Даже какой-то Олимпов и тот говорит: я гений.
Иначе нельзя, помилуйте, на то они эгопоэты. Ведь и бог у них не бог, а эгобог:
если он сотворил человека по образу своему и подобию, значит, он такой же эгоист, как
и мы, – рассуждают эти господа и зовут нас поклониться эгобогу.
Но к чему же сочинять стихи, ежели я – эгобог? И к чему вообще слова, если я во
всем мире один? – рассуждает эгофутурист Василиск Гнедов. – Слова нужны лишь
«коллективизм», «общежителям». И он создает знаменитую поэму без слов: белый, как
снег, лист бумаги, на котором ничего не написано. Эта бессловесная поэма озаглавлена
«Поэма конца», и как хорошо, что Гомер и Вергилий держались иных убеждений.
Эгофутуристы мечтают о таком же эготеатре, где не будет ни актеров, ни зрителей, а
только мое или ваше единое я. Это у них называется «эговый анархизм», и я мог бы
легко доказать, что отсюда логически следует то всеосвящение, всеоправдание мира, о
котором возвещает их мессия: «Виновных нет, все люди правы... не знаю скверных, не
знаю подлых...», «Я славлю восторженно Христа и Антихриста!.. Голубку и ястреба!..
Кокотку и схимника!..»
Но где же здесь, ради бога, футуризм? Это старый, отжитой, запыленный
«Календарь модерниста» за 1890 или 91-й год. Там, где-нибудь на дырявой страничке,
замызганной тысячами пальцев, вы найдете всю эго-поэзию от первой строки до
последней. «Люблю я себя, как
бога», – писала там Зинаида Гйппиус... «И господа и дьявола хочу прославить я», —
писал там Валерий Брюсов, и даже этот соллипсический эготеатр выкроен по старой
статье Сологуба. Право, не стоило всходить на Синай для такой отрыжки вчерашнего.
Впрочем, есть у этих петербуржцев и новые скрижали. На последней, например,
странице в их альманахе «Стеклянные цепи» я с восторгом прочитал такое:
«Константин Олимпов носит воротники “торреадор”».
И дальше:
274
«В имении директора газеты “Петербургский глашатай” И. В. Игнатьева...
состоялся оживленный стерляжий раут».
И дальше:
«И. В. Игнатьев изволил одобрить Американские Горы в “Луна– парке”».
Там же Игорь Северянин сообщает: «20-го июня уезжаю на мызу княгини Л. А.
Оболенской».
Это у них самобытное. Рауты, мызы, княгини и, главное, воротнички «торреадор»,
– здесь единственная их подоплека, сколько бы они ни лепетали об эго-боге или
эгопоэзии. Розовая пудра! голубые флакончики! золотые духи! «Ах, хотел бы я быть
элегантным маркизом и изящно играть при дворе с королями в фаро!» – вздыхает один
из них, должно быть, на Песках или в Подьяческой. «Луна просвечивала сквозь облако,
как женская ножка сквозь модный ажур» – пишет эгофутурист Шершеневич и доходит
до такой галантерейности, что даже могильных червей, торопящихся к свежему трупу,
величает франтами во фраках, с гвоздикой в петлицах, спешащими на званый обед.
Из гостиной или из Гостиного двора вышли эти господа в литературу? Этакие
Оскары Уайльды, они словно состязались друг с другом, – особенно в первые годы -
кто кого пережеманничает, кто кого пере– манерничает, кто покартавее крикнет:
«Гарсон, сымпровизируй блестящий файв о’клок».
Всех перекартавил Северянин, но и остальные не ударили в грязь. Я никогда,







