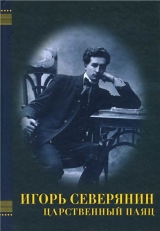
Текст книги "Царственный паяц"
Автор книги: Игорь Северянин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 40 страниц)
преимущественно романских звонких слов в лексиконе И. С. Но он не ограничивается
расширением поэтического словаря введением иностранных уже принятых в русскую
речь слов. Он идет дальше: от этих слов он производит новые через присоединение
разных суффиксов, – так, от слова «бравада» по параллелизму со словами «отрада,
прохлада» он производит слово «бравадный», от прилагательного «бравурный» —
глагол «бравурить», от «ажурный» по параллелизму с «лазурной» он восходит к
фантастическому слову, производящему: «ажурь». Мало того, музыка романских звуков
199
так пленяет его, что он даже от русских корней на страх филологам и в их посрамление
производит слова через присоединение – horribile dictu – французских окончаний;
так от слова греза... он производит слова – грёзер, грёзерка.
Чем объяснить такой выбор слов, это стремление затопить русский язык
наводнением носовых романских певучих звуков? Он щеголяет ими, как некоторые
щеголяют вставленными в разговор иностранными словами. Этот романизированный
язык И. С. считает настолько родным, что, написав стихотворение на напев русской
плясовой народным стилем, – он сейчас же указывает, что это только подражание, что
это просто исполнение художественной прихоти поэта, – и указывает это очень тонко:
стихотворенье озаглавлено «Chanson russe». Этим он отгораживается от всякой
близости к народности, – о, нет, он не народник, он космополит и денди. Правда
дендизм его, не дендизм английский, не дендизм родоначальника его Джорджа
Брёммеля, который говорит, что у истинного денди ничто не должно бросаться в глаза,
что он скромен, что слишком яркие галстуки – это принадлежность не дендизма, а
фатовства. Этой скромности у И. С. нет; его дендизм вызывающий, бравирующий,
требующий внимания, эстрадный.
Другую особенность словообразований И. С. составляет чрезвычайное богатство в
изобретении новых глаголов: «взорлил, гремящий, на престол», – «удастся ль душу
дамы восторженно омолнить», – «офиалчен и олилиен озерзамок Мирры Лохвицкой». В
каждом из этих слов скрыто собственно два: одно выражающее действие, глаголи
другое сравнение; И. С. глагол опущен, а от сравнения производится новый глагол:
таким образом, из «взлетел, взнесся орлом» обра
зовалось «взорлить» из «пронзить или озарить молнией» – «омол– нить», из -
увиться фиалками и лилиями – «офиалчен и олилиен».
Затем, И. С. часто соединяет в одно слово эпитет с определяемым: «озерзамок»
вместо «озерный замок»; «лесофея» вместо «лесная фея», и от этих двойных слов он
производит еще и прилагательные: «она была в злофейном крепе». Русский язык знает
такие словообразования: он позволяет соединять в одно существительное глагол, с его
прямым дополнением – напр., чаепитие, рукопожатие; но помимо того, что И. С.
выходит за эти пределы, он часто от таких сложных отглагольных существительных
производит новый глагол, требующий нового дополнения – «сенокосить твой спелый
июль».
Что объединяет эти словообразования? не ясно ли, что это – стремление к усилению
энергии, экспрессивности речи, к повышению ее образности. Дать возможно больше
представлений в возможно меньшем количестве слов, даже жертвуя законами речи.
Вдохновение И. С. так бурно и эксцессивно, что речь его, как полноводная река, ломает
сковывающий ее однообразный лед правил и несет, играя только причудливые
отдельные его осколки. Мне хочется назвать И. С. его словом: «эксцессер», потому что
одновременно в нем есть намек на его яркий дендизм и определение его
художественного метода.
Но «эксцессивность» или «эксцессерство» неразрывно связано с другим
психологическим свойством – эмоциональностью. Если эксцесс рассматривать как
взрыв, то эмоциональность является условием переработки горючего материала опыта
в летучие газы. Эксцессивность даже только атрибут эмоциональности, так что о ней
мы могли бы просто заключить из наличности эксцессивности, но об ней
свидетельствуют и неожиданные обороты его речи, то отрывистой, как крик, то
вьющейся и стелющейся, как ползучее растение.
Мне не хочется утомлять читателя подробным синтаксическим разбором структуры
языка И. С. Вместо этого я позволю себе привести два стихотворения его, в которых
различно, но одинаково явно зыб– лются волны этой эмоциональности, всколебленной
200
дуновением вдохновения.
В ОЧАРОВАНЬИ
Быть может оттого, что ты не молода,
Но как-то трогательно больно моложава, Быть может оттого я так хочу всегда С
тобою вместе быть; когда, смеясь лукаво, Раскроешь широко влекущие глаза,
И бледное лицо подставишь под лобзанья,
Я чувствую, что ты – вся нега, – вся гроза,
Вся – молодость, вся – страсть; и чувства без названья Сжимают сердце мне
пленительной тоской,
И потерять тебя – боязнь моя безмерна...
И ты, меня поняв, в тревоге, головой Прекрасною своей вдруг поникаешь нервно,—
И вот, другая ты: вся – осень, вся – покой...
В ПЯТИ ВЕРСТАХ ПО ПОЛОТНУ
Весело, весело сердцу! звонко, душа, освирелься! -
Прогрохотал искрометно и эластично экспресс.
Я загорелся восторгом! я загляделся на рельсы! —
Дама в окне улыбалась, дама смотрела на лес.
Ручкой меня целовала. Поздно! – но как же тут «раньше?..»
Эти глаза... вы – фиалки! эти глаза... вы – огни!
Солнце, закатное солнце! твой дирижабль оранжев!
Сяду в него, – повинуйся, поезд любви обгони!
Кто и куда? – не ответить. Если и хочет, не может.
И не догнать, и не встретить. Греза – сердечная моль.
Все, что находит, теряет сердце мое... Боже, Боже!
Призрачный промельк экспресса дал мне чаруйную боль.
Первое стихотворение представляет из себя одно сложное непрерывное
предложение, отдельные части которого плавно, гармонически втекают одна в другую;
кажется, – это волна, медленно поднимающаяся на плоской берег и на вершине взлета
вдруг вскипающая страстной пеной и брызгами, чтобы вдруг погаснуть в паденьи; это
долгий, томительный, сладкой вздох, рассказанный словами; второе же стихотворенье
– пленительная путаница перебивающих друг друга предложений, в которых мысль и
чувства поэта подобны беспокойной зыби, где блеск и тень, боль и восторг, очарованье
и безнадежность мгновенно сменяют друг друга.
Если эмоциональность художественного темперамента И. С. выводима из его слово-
и фразопостроения, то особенности его стихосложения – наоборот – сами до конца
выводимы из этой эмоциональности. Ею рождены эти упругие строфы, она
подсказывает ему его качающиеся, колыбельные размеры, она – источник почти
песенной певучести его стихов, такой властной и заразительной, что стихи его хочется
неть. И. С. и поет свои стихи – и напев их так внятен, что его можно записать
нотными знаками. И это не прихоть чтеца – напев заключен 8 них потенциально и
можно даже вскрыть технические причины этой напевности.
Возьмем для примера две строки из стихотворения «Мороженое из сирени»: «Я
сливочного не имею, фисташковое я распродал. Ах, граждане, да неужели Вы требуете
крэм-брюлэ». Проскандировав эти стихи, мы замечаем, что это шестистопный
амфибрахий с цезурой после третьей стопы. Известно, чтб для произнесения каждой
отдельной строфы требуется приблизительно равная затрата голосового усилия,
распределяющегося равномерно между ударными слогами. Но в данном отрыве шести
метрическим ударениям соответствует только четыре грамматических; получается
ускорение, нечто вроде метрического зияния, – и, чтобы строфа не смялась, на
произнесение ударного слога, предшествующего потерявшему ударение, падает
201
двойное усилие, – этот слог должен произноситься протяжней, а усилию голоса
невольно сопутствует повышение и вот уже как бы пунктиром намечается напев.
Итак, к двум уже найденным определениям – денди и эксцессер – присоединяется
третье: эмоционалист, но оно требует дополнительных разъяснений. В самом деле, об
эмоциональности И. С. мы заключили выводным путем из особенностей его речи;
беглый взгляд на своеобразную метрику и чтение стихов И. С. еще больше
поддерживает нашу уверенность, что мы на верном пути. Эти особенности были для
нас гипсовой формой, на которой отпечатлелись волнообразные линии, говорящие нам
о наличности эмоции как формирующей силы; напряженность или прихотливость ее
угадывалась по глубине и сложности борозд отпечатка. Но качественного характера
этих эмоций мы не определили и не определим по тем формальным данным, с
которыми мы до сих пор имеем дело. Здесь лежит порог, переступая который, мы
неминуемо должны потерять свою объективность и доказательность положений
заменить их убедительностью. Между тем мне кажется несомненным, что повышенная
эмоциональность является самым существенным свойством личности И. С. как поэта.
Весь мир для него – многотонная гамма ощущений – и ощущений по преимуществу
пассивных, страдательных, чем, пожалуй, можно объяснить частое сравнива– нье
самим И. С. своих переживаний с ощущениями вкуса – и, о, какое тонкое гурманство
проявляет тогда поэт-денди. Недаром названиями фантастических и существующих
яств и ликеров пестрят его поэзы... Может быть, самый сок жизни представляется ему,
как эти колоритные, сладко пьяные и обжигающие напитки, от которых кружится
голова и все вещи пускаются в плавный танец. И когда опьяненным взглядом он
окидывает картину природы или опьяненным сердцем переживает мгновение любви —
его вдруг настигает галантный эксцесс и из глубей приливающий прибой выкидывает
нам на берег узорноажурную пену – замысловатое кружево его стихов.
Вдохновение его так непосредственно, путь от сердца к песне так короток,
переживания так быстро чередуются, что они не успевают, достигнув сознания, из
творческих эмоций претвориться в творческую идею...
Ты женщина, ты ведьмовский напиток,
Он жгет огнем, едва в уста проник,
Но пьющий пламя подавляет крик И славословит бешено средь пыток, -
говорит Валерий Брюсов, и в этих словах слышится узнавшая все отрады и отравы
современная душа, познавшая гибельность любви. И на сдержанное исступление этих
строк разочарованно откликается И. С. – «кудесней всех женщин – ликер из банана».
«Колыбель бесконечности» – так в одном стихотворении называет Бодлэр океан.
– «Он плещется дессертно, совсем мускат – люнель– но», – сладко поет в ответ Игорь
Северянин. Первый, созерцая океан, отвлекается от того маленького круга, которым —
увы – ограничивает нас наше физическое зрение, – он видит его весь, он
растворяется в этом созерцании, и, по слову Лермонтова, пьеса о Вечности, как
великан, ум человека поражает вдруг. Для Игоря Северянина океан таков, каким он
сейчас, мгновенно, преломляется в нем; строго говоря, для Игоря Северянина океан —
это только, как и вся природа, состояние его души. Он – солнце того мира, в котором он
живет, и, ослепленный своим блеском, он не может видеть над собой небесного,
вечного солнца.
В моей душе восходит солнце,
Гоня невзгодную зиму.
В экстазе идолопоклонца Молюсь таланту своему.
В его лучах легко и просто Вступаю в жизнь, как в листный сад.
Я улыбаюсь, как подросток,
Приемлю все, всему я рад.
202
Ах, для меня, для беззаконца,
Один действителен закон:
В моей душе восходит солнце,
И я лучиться обречен!
Так вот к чему приводит эмоционализм как мироощущение! Человек становится
центром всего мира, но весь мир зато из большого МиРа, вселенной, космоса,
превращается в мир малый, ограниченный нашими Лятью чувствами. Связь между
микрокосмом и макрокосмом порвана. Больше нет ни в чем надежной опоры.
Достаточно просто
усталости, чтобы потерять остроту вкуса и впасть в уныние, ибо потеря вкуса для
эмоционалиста равна смерти, он погружается в бесчувственную тьму. Действительно,
останется только «ликер из банана», а за ним морфий или кокаин.
Одинок И. С., несмотря на солнечность свою, в замкнутом мире своих ощущений,
– их редкость замыкает его от слушателя как бы в многоцветную тюрьму, и голоса
почти он не понимает. Эксцессерство же его кажется подозрительной публике красным
плащом тореадора, – и, боясь стать разъяренным быком, она подымает на смех поэта.
«Паяц» – кричит толпа. И эту кличку принимает Игорь Северянин, но с такой
грустной гордостью, что в его устах она звучит «как королевской титул».
За струнной изгородью лиры Живет неведомый паяц.
Его палаццо из палацц —
За струнной изгородью лиры...
Как он смешит пигмеев мира,
Как сотрясает хохот плац,
Когда за изгородью лиры Рыдает царственный паяц!..
И не кличку только, но и личину трагического паяца принимает И. С. – сколько
поводов для новых эксцессов. «Я трагедию жизни претворю в грезофарс», – решает И.
С.
И под личиной паяца он становится шутом-сатириком, смеющимся над смехом
публики, как смеются над человеком, который не замечает, что его держат за нос:
Каждая строчка – пощечина, голос мой сплошь издевательство, Рифмы слагаются
в кукиши, кажет язык ассонанс;
Я презираю Вас пламенно, тусклые Ваши Сиятельства,
И, презирая, рассчитываю на мировой резонанс.
Но эти стихи идут не из самой глубины творчества И. С., они случайны, как
результат непонимания, возникшего между поэтом и слушателем. Стоит поэту
отвернуться от слушателя, побыть с собой, и опять горячие волны ощущений сладких,
нежных, десертных укачивают его. В нем борются два желания: «Кому бы бросить
наглее дерзость? – кому бы нежно поправить бант?» – побеждает второе и вновь
рождаются стихи сладкие, нежные, тающие, десертные – «Мороженое из сирени» (?),
– так называет он их. Но вот обернулся он к*слушате– лю, и паяц вновь просыпается в
нем: Игорь Северянин накидывает ко
стюм мороженника и, с ужимками в голосе, подражая его протяжному завыванью,
зазывает в свою палатку умирающую со смеху публику:
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.
Сударышни, судари, надо ль? – не дорого – можно без прений...
Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!
Я сливочного не имею, фисташковое все распродал...
Ах, граждане, да неужели вы требуете крэм-брюле?
Пора популярить изыски, утончиться вкусам народа,
203
На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс в вирэле!
Сирень – сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном крене
Зальдись, водопадное сердце, в душистый и сдадкий пушок...
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей Богу, похвалишь, дружок!
Публика будет смеяться и лакомиться, но если среди нее – не дай Бог —
встретится глубокомысленный литературный критик, он послушает, важно покачает
головой и скажет: «Уж не говоря о том, что многого я здесь не понимаю, должен
заметить, что стиль не выдержан: где это слыхано, чтобы мороженник говорил такие
слова, как эмблема, популярить, изыски». Увы, господин критик, вы не многого не
понимаете здесь, а главного; не понимаете, что автор этими словами нарочно как бы
показывает из-под костюма мороженника сюртук от петроградского – несомненно,
петроградского портного и из-под маски мужика– мороженника выглядывает
недвижное холодное лицо поэта денди, космополита и эксцессера, и слышатся слова,
намекающие на то, что это просто прихоть, маскарад, грёзофарс, chanson russe...
Но не думайте, что из-под маски истинный свой лик показал вам И. С., – нет,
истинного лица сам он вам не покажет, – это было когда– то раньше, когда он писал
строфы «Сирени моей весны», где сердце свое трепетное и открытое доверчиво давал в
руки читателю, но «много, много уж этому времени, много, много уж этому снов». Но
сердце его не умерло: оно спряталось только; тепло и любовь помогут вам растопить
восковую личину денди, и под ней вы увидите лицо страдающего и радующегося
человека, талантливого личного певца, а в мороженом из сирени, которое предложит
вам поэт-хозяин «помпезных поэзо-концертов», – вы узнаете то же прежнее,
трепетное, живое сердце, только покрытое тонким «холодным и сладким пушком».
Сем. Рубановиг
Прочитано на вечере поэз Игоря Северянина, в Политехническом музее в
Москве 31 января 1915 г.
МОРОЖЕНОЕ ИЗ СИРЕНИ»
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.
Сударышни, судари, надо ль? – Не дорого – можно без прений...
Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!
Я сливочного не имею, фисташковое все распродал...
Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюле?
Пора популярить изыски, утончиться вкусам народа,
На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс в вирелэ!
И так далее... Мне думается, что эту поэзу можно было бы взять эпиграфом ко
всему «громокипящему кубку» Игоря Северянина. Вся эта книга есть один
своеобразный «эксцесс в вирелэ», если повторить вслед за поэтом это дикое сочетание
слов. К сведению читателей: «вирелэ» – одна из форм лирической поэзии во Франции
XIV—XVI вв.; все эти рондели, кэнзели, вирелэ хорошо подходят к чисто манерной
поэзии Игоря Северянина.
«Эксцесс» в манерности, но не слащавой французской, а грубой и намеренно-
ломающейся – этого много в книге «поэз», но ведь в этом– то и видит поэт весь вкус
своего «мороженого из сирени»! Он великолепно презирает «площадь»: ведь
«площадь» эта любит «сливочное» и «фисташковое» мороженое – стихи Бальмонта или
Брюсова. Да и то есть «граждане», которые еще и до этого не доросли, а «требуют
крем– брюле», питаются Апухтиными и им подобными. Игорь Северянин хочет своей
поэзией «популярить изыски» (т. е., переводя на русский язык, хочет ввести в обиход
изысканность), хочет угостить нас своим «мороженым из сирени»: «Поешь
204
деликатного, площадь: придется товар по душе».
Я не могу сказать, чтобы мне все пришлось по душе в товаре Игоря Северянина;
начать с того, что как раз «деликатного»-то меньше всего в «поэзах» этого автора.
Какой вкус у мороженого из сирени – я не знаю; но знаю наверное, что вкус самого
автора «поэз» далеко не изыскан. Он с восторгом поглощает, например, такую
музыкальную дрянь, как Тома, Масснэ, Масканьи: пишет о них, посвящает им стихи!
Этот музыкальный крем-брюле не претит его художественным вкусам, и это вообще
характерно для всей его поэзии. Его «мороженое из сирени» – очень грубое кушанье,
щиплющее и острое, но именно в этом и состоит его своеобразный вкус, который как
раз «площади» может прийтись по душе.
Игорь Северянин, несомненно, талантливый поэт – самобытный и красочный
лирик; в последнем – вся его сила, и больше ему ничего не
надо. Он, конечно, склонен оценивать себя иначе; он заключает книгу гордым
«эпилогом»:
Я, гений, Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен,
Я повсесердно утвержден!
От Баязета к Порт-Артуру Черту упорную провел.
Я покорило литературу!
Взорлил, гремящий, на престол! (с. 140)
Это, конечно, очень весело читать; и, воображаю, каким хохотом и свистом будут
встречены такие слова. И по заслугам; хотя, в сущности, это только дань поэта «эго-
футуризму», в коем он доныне пребывал. Многие ли не считали себя «гениями», когда
были гимназистами?
«Эго-футуризм» есть самоновейшее течение среди зеленой поэтической молодежи.
Они «создали» теорию самого крайнего индивидуализма, поставили вершиной мира
свое «я» (о, незабвенные гимназические годы!), издавали различные «манифесты» и
все поголовно именовали друг друга «гениями». Все это мило и безвредно; одна беда:
почти все они – самые безнадежные бездарности; об этих своих коллегах Игорь
Северянин в одном из своих стихотворений выразился кратко и метко:
Вокруг – талантливые трусы И обнаглевшая бездарь...
Но сам Игорь Северянин – не «трус» и не «бездарность». Он смел до
саморекламы, и он, несомненно, талантлив. Эта излишняя развязность и смелость,
вероятно, скоро пройдут; недаром он заявил уже где– то «письмом в редакцию», что
вышел из кружка «эго-футуристов». Но талантливость при нем была и осталась; и эта
подлинная талантливость заставляет принять этого поэта и говорить о нем серьезно и
со вниманием. Мне пришлось уже говорить о нем «как о подающем надежды»;
чрезмерных надежд возлагать не приходится, но часть уже осуществлена, и можно
говорить не только о будущем поэта, но и об его настоящем.
Когда Игорь Северянин захочет, он пишет в «старых формах» такие прекрасные
стихотворения, как, например, «Очам твоей души» (е. 9); может показать себя
достойным учеником Брюсова «Весенний день» (с. Ю), учеником Бальмонта «Chanson
russe» (с. 37), может блес– нуть таким мастерством техники, как шестнадцать
пересекающихся Рифм в одном четверостишии («Квадрат квадратов», с. 86). Но не в
этом
его сила, а в том, что он, подлинный лирической поэт, чувствует по– своему, видит
по-своему, – и по-своему же выражает то, что видит и чувствует. В этом «по-своему» он
иногда слишком смел, а иногда поэтому в выражениях его многое спорно, многое
раздражает, – особенно в виду его любви к острым и новым словообразованиям.
205
Когда он говорит:
По аллее олуненной вы проходите морево, —
то последнее слово меня не радует, ибо расхолаживает мое поэтическое восприятие
необходимостью разгадывать ребус. Когда он заявляет мне, что:
Чтоб ножки не промокли, их надо окалошить, —
или, тут же рядом, что:
Он готов осупружиться, он решился на все, —
то это только напоминает мне бесчисленные «поэзы» Саши Черного, лаврам
которого вряд ли стоит завидовать Игорю Северянину. И то же самое надо повторить о
целом ряде никому не нужных «эксцессов», вроде:
Я в комфортабельной карете, на эллипсических рессорах, Люблю заехать в
златополдень на чашку чая в женоклуб...
Или:
Офиалчен и олилиен озерзамок Мирры Лохвицкой,
Лиловеют разнотонами станы тонких поэтесс,
Не доносятся по озеру шумы города и вздох людской,
Оттого, что груди женские, тут не груди, а дюшесе...
К чему все это? И неужели это «поэтический образ»? Во всем этом много
гимназического задора и нет поэтической необходимости. Нет ее и в том насиловании
русского языка, которое Игорь Северянин возводит в систему. «Популярить изыски»,
«бурно бравурит весна», «драприть стволы» – к чему все эти «эксцессы в вирелэ»?
Надо пожалеть русский язык и избавить его от таких обогащений; а ведь Игорь
Северянин думает, вероятно, что он это новые горизонты открывал, когда писал такие
строки:
Вы постигнете тайну: вечной жизни процесс И мечты-сюрпризэрки Над качалкой
грэзерки
Воплотятся в капризный, но бессмертный эксцесс!
Все подобные «эксцессы в вирелэ» очень часто портят лучшие стихотворения
Игоря Северянина. Иногда выдержанное, прекрасное стихотворение вдруг обидно
пачкается намеренно грубыми мазками в конце; «деликатного» во всем этом очень
мало...
Вот пример – прелестное стихотворение «На реке форелевой»:
На реке форелевой, в северной губернии,
В лодке, сизым вечером, уток не расстреливай:
Благостны осенние отблески вечерние В северной губернии, на реке форелевой.
На реке форелевой в трепетной осиновке Хорошо мечтается над крутыми веслами,
Вечереет холодно. Зябко спят малиновки,
Скачет лодка скользкая камышами рослыми,
На отложье берега лен расцвел мимозами,
А форели шустрятся в речке грациозами...
Особое умение: двумя словами бесповоротно испортить все впечатление от
прекрасного стихотворения! И ведь, вероятно, очень горд собою, – деликатно и
изысканно выразился! «Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!» И эта
невозможная безвкусица заключает собой стихотворение, очарованию которого
поддаешься с первых же строк. «Благостны осенние отблески вечерние», – это
«настраивает». Малиновки «зябко спят»; «лодка», «скачет камышами»; «форели
шустрятся» – все это смело и верно, все это подлинное восприятие поэта.
Такого подлинно поэтического, иногда спорного, иногда сразу радующего и
покоряющего – немало у Игоря Северянина, и в этом все надежды на его будущее.
Люблю октябрь, угрюмый месяц,
206
Люблю обмершие леса,
Когда хромает ветхий месяц,
Как половина колеса...
Морозом выпитые лужи Хрустят и хрупки, как хрусталь...
Здесь я вижу лицо поэта. Я покоряюсь ему, когда он говорит про то, как перед
грозой «небеса растерянно ослепли, вытер, зашарахался в листве»; когда он говорит
про «морозом выпитые лужи», про «хромающий месяц» или про то, как «кувыркался
ветерок». Я нахожу среди книги «поэз» много выдержанных и ярких лирических
отрывков, мно– го «смелого» и «нового» – не только в плохом, но и в хорошем смыслу
рядом много гимназического задора и вздора, много ломаний,
сплошной «эксцесс в вирелэ», – но всюду талант, которому предстоит еще
победить самого себя. И недаром в минуту откровенности, поэт сознается:
Не покидай меня! – я жалок В своем величии больном...
Это «больное величие» ему и предстоит победить прежде всего; без этого путь
вперед закрыт для поэта. И несмотря на то, что эта книга его «поэз» заканчивается как
раз бредом «больного величия» – «эпилогом», отчасти приведенным выше, – но все же
заключительные строки его позволяют надеяться, что на пройденный путь поэт уже не
вернется:
Не ученик и не учитель,
Великих друг, ничтожных брат,
Иду туда, где вдохновитель Моих исканий – говор хат...
Новый этот путь – единственный, на котором Игорь Северянин может пойти
вперед и преодолеть сам себя. До сих пор он только поэт площади, не воспевающий ее,
но рожденный ею; здесь он выделывает свое «мороженое из сирени», думая, что это
весьма «деликатное» кушанье для «площади», презираемой им. Он ошибается: это
кушанье грубое, хотя именно в грубости его – его вкус. Но было бы грустно, если бы
он век остался кричать на площади или разносить свое «мороженое из сирени» по
петроградским дачам. Он подлинный лирической поэт, и широкой путь его лежит от
«дачи» – к «природе», «от площади» – в леса, в поля, туда, «где вдохновитель его
исканий – говор хат». В силах ли только он свершить этот путь и перестать
выделывать свое излюбленное «мороженое из сирени?»
Иванов-Разумник
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
Нетрудно вышутить Игоря Северянина, низвести его на один уровень с Крученых и
Бурлюками, победоносно отразить его мнимые завоевания. Все так еще не прибрано и
не благоустроено у него на новоселье; едва ли найдется в его книгах хоть одно
стихотворение, не испорченное каким-либо нелепым трюком или просто первым попав
шимся под рифму выражением; И так много в ней лишнего, ненужного, случайного
или нарочитого, столько наивного задора и комического самообольщения, так мало
окончательно ценного и прочно установленного, что из лоскутьев ее можно состряпать
какое угодно попурри. Но над ней, надо всей ее досадной нескладицей и разлепицей,
как над мутным половодьем, над распутицей и бездорожьем пахучих мартовский
полей, веет духом весны, – над ней веет свежий дух поэзии, юный дух
нарождающегося поэта.
Какие шири! дали! виды!
Какая радость! воздух! свет!..
Что бы ни говорили староверы, Игорь Северянин одарен исключительным даром
стихотворца. Звуковой диапазон его стиха очень велик. Он умеет быть протяжно-
мелодичным:
Какая ночь! – и глушь, и тишь,
207
И сон, и лунь, и воль...
Зачем же, сердце, ты грустишь?
Откуда эта боль?
Или напряженно-напевным, восторженно-звонким:
Светило над мраморной виллою
Алеет румянцем свидания...
Но, когда нужно, он умеет нежно приспустить свою звонкость, заставить свой стих
звучать тихой жалобой, наподобие струн, прижатых сурдинкой:
Так тихо-долго шла жизнь на убыль
В душе, исканьем обворованной...
Так странно-тихо растаял Врубель,
Так безнадежно очарованный...
Едва ли удавалось кому-нибудь с большей удалью и с большим изяществом
передать грубовато-забористый, стремительный ргаеББ^ плясовой:
Хорошо гулять утрами по овсу,
Видеть птичку, лягушонка и осу,
Слушать сонного горлана-петуха,
Обменяться с дальним эхо: «ха-ха-ха!»
~~ или бойкую скороговорку наивно-тривиальной гармоники:
Зашалила, загуляла по деревне молодуха.
Было в поле, да на воле, было в день Святого духа, -
или выкрики уличных разносчиков, нахальные, то звонко-переливчатые, то дробно-
рассыпчатые:
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше!
Сударишни, судари, надо ль? – недорого – можно без прений...
Но в то же время немногим из его сверстников дано владеть таким простым и
спокойно-красивым стихом:
Схожу насмешливо с престола И ныне, светлый пилигрим,
Иду в застенчивые долы,
Презрев ошеломленный Рим.
Звукоподражания его зачастую превосходны:
Элегантная коляска, в электрическом биеньи,
Эластично шелестела по шоссейному песку. .
или:
Снежеет дружно, снежеет нежно,
Над ручейками хрусталит хрупь Куда ни взглянешь – повсюду снежно...
или еще:
Морозом выпитые лужи Хрустят и хрупки, как хрусталь;
Дороги грязно-неуклюжи,
И воздух сковывает сталь.
Последние четыре стиха замечательны также по своей изобразительности,
достигнутой путями прямыми, средствами простейшими. Таких стихов и отдельных
счастливых выражений и образов найдется в книге Игоря Северянина немало. Правда,
это всегда только отдельные отрывки, крупицы, рассыпанные среди неудачных
нововведений, насыщенной публицистики, а то и образчиков простой безвкусицы; но
рассыпаны эти крупицы рукою щедрой и, бесспорно, талантливой. Замечательно также
то обстоятельство, что стихи Северянина, как бы неудачны они ни были, всегда
остаются стихами, никогда не превращаются в рифмованную прозу. Мы не видим
покамест оснований и для того, чтобы согласиться с мнением Андрея Полянина («Сев.
208
зап.» № 4), что безвкусие – органический порок Игоря Северянина. Скорее, оно есть
следствие слишком явной незрелости его таланта и той потери равновесия, которая
подстерегает почти каждого на новых и потому опасных путях искусства, – а Игорь
Северянин ходит новыми путями.
Было бы грубейшей ошибкой принимать поэзию Северянина и то течение, к
которому он примкнул, за подновленное декадентство девяностых годов. Оба течения
взаимно противоположны, как по устремлениям своим, так и по происхождению.
Каждый декадент, какого бы толка он ни был прежде всего утонченником ради
утонченности, он хотел бы быть «поэтом для немногих»; до толпы, ее вкусов никакого
дела ему не было; об общедоступности он не заботился, считал ее не только излишней,
но и прямо нежелательной. Игорь Северянин в своих стремлениях наполовину
публицистичен. Он пишет непременно для многих, он хотел бы быть общедоступным и
общеобязательным, – поэтом для всех: «Я покорил литературу», «Я повсеградно
оэкранен...» Но при этом он не желает поступаться своими вкусами, своей (хотя бы и
мнимой) утонченностью. «Я сливочного не имею, фисташковое все распродал...»
Отсюда его задача: быть изысканно-лубочным, художественно плакатным – «Пора
популярить изыски, утончиться вкусам народа».
Мы не верим Игорю Северянину, когда он говорит: «Для нас Державиным стал
Пушкин», не верим не только в том смысле, что считаем это объективно-неверным, но
не верим и в субъективную правду его слов. Насколько еще не изжит Пушкин для
самого Северянина, видно хотя бы из того, что через одну страничку после столь







