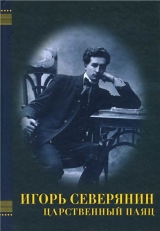
Текст книги "Царственный паяц"
Автор книги: Игорь Северянин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 40 страниц)
среднего интеллигента. По Амфитеатрову,
мы имеем дело с поэтессой, «иногда возвышавшейся почти до гениальности».
«Гениальность» и «искусство второсортное» – расхождение, наводящее на слишком
грустные размышления, чтобы можно было назвать его курьезным. Великолепный
анекдот о российской критике!
Особенно много копий сломано в вопросе о словотворчестве Игоря Северянина.
Выражение «драприть», например, понравилось из критиков только одному Вал.
Брюсову. Вл. Гиппиус решительно не доволен этим словом:
Через два обыкновенных слова на третье – он прибегает к таким выражениям, как
«драприть стволы» и т. д.
А Иванов-Разумник даже возмущен:
Насилование русского языка, которое Северянин возводит в систему: «драприть
стволы» и др. – к чему все эти «эксцессы в вирелэ»? Надо пожалеть русский язык и
избавить его от таких обогащений.
Но профессор Р. Ф. Брандт, именно с точки зрения правильности образования
слова, не совсем разделяет мнение Иванова-Разумника о «насиловании русского
языка»:
Не могу не сочувствовать различным способам укорочки, встречающимся у
Северянина, таковы: туман... тебя задраприт, вм. задрапирует, с его немецким
суффиксом 1г.
Что касается выражения «популярить изыски», которым также возмущены и Вл.
Гйппиус, и Иванов-Разумник, то профессор Бранд высказывается еще более
определенно:
Двукратное укороченье представляет выражение «популярить изыски» вм. по-пу-
ля-ри-зи-ро-вать и-зы-ска-ни-я. Последнее Игорем чуть ли не сказано в шутку, но я
рекомендовал бы это всерьез.
Но в самое комичное положение попал, благодаря своему авторитетному тону,
Валерий Брюсов:
Есть (у Северянина) просто исковерканные слова, большею частью, ради рифмы
или размера, как «глазы» вместо «глаза» и др. Громадное большинство этих новшеств
показывает, что И. С. лишен чутья языка и не имеет понятия о законах
словообразований.
Вся комичность этой сентенции о «чутье языка» становится очевидной, когда
прочтешь приведенную по этому поводу пр. Брандом народную поговорку: «Свиные
глазы не боятся грязи». Очевидно, и народ придется отнести к разряду «лишенных
чутья языка и не имеющих понятия о законах словообразования».
Что стал бы делать Игорь Северянин, если бы захотел хоть отчасти послушать
советов гг. критиков насчет своего дальнейшего пути!
Валерий Брюсов советует ему стремиться стать «учителем человечества»:
Игорю Северянину недостает вкуса, недостает знаний. То и другое можно
приобрести, – первое труднее, второе легче. Внимательное изучение великих
созданий искусства прошлого облагораживает вкус. Широкое и вдумчивое
ознакомление с завоеваниями современной мысли раскрывает необъятные
перспективы. То и другое делает поэта истинным учителем человечества.
А. Измайлов мирится с меньшим:
Признание и любовь придут к нему (Северянину) в ту минуту, когда он оставит в
314
детской все эти ранние игрушки, весь этот ажур парикмахерски прифранченных слов и
найдет спокойный и честный язык для выражения нежных, наивных, прелестно
грустных переживаний, какие знает его душа.
Иванов-Разумник зовет к природе:
Было бы грустно, если бы он век остался кричать на площади, или разносить свое
«мороженное из сирени» по петроградским дачам. Он подлинный лирически поэт, и
широкий путь его лежит от «дачи» к «природе», от «площади» – в леса, в поля...
Г-н А. Б. из «Голоса Москвы» никуда не зовет, он советует, по-видимому, остаться
самим собой:
Раскрашивать цветочки, рисовать губки бантиком, писать мадригалы нездешним
принцессам, – вот его поэтический круг. И пока нет в нем умысла, пока пенятся эти
идиллические песенки молодостью и живой любовью к миру, до тех пор такая поэзия
может привлекать и очаровывать.
Андрей Полянин ничего не советует, потому что смотрит на И. С. совершенно
безнадежно:
...Мы более чем сомневаемся (!), чтобы из «гения Игоря Северянина» выработался
хороший поэт.
А Амфитеатров «вылил свои думы» в стихах, пародирующих, между прочим, одно
из стихотворений Северянина:
Читаю вас: вы нежный и простой,
И вы – кривляка пошлый по приметам.
За ваш сонет хлестну и вас сонетом:
Ведь, вы – талант, а не балбес пустой!
Довольно петь кларетный вам отстой,
Коверкая родной язык при этом.
Хотите быть не фатом, а поэтом?
Очиститесь страданья красотой!
Французя, как комми на рандеву,
Венка вам не дождаться на главу:
Жалка притворного юродства драма,
И взрослым быть детинушке пора...
Как жаль, что вас, дитей, не секла мама За шалости небрежного пера!
Каким проворным Фигаро нужно быть, чтобы хоть приблизительно следовать всем
этим зовам и советам.
О, очная ставка господ критиков оказалась необычайно удачной и яркой. Игорь
Северянин со своими необычными успехами, взлетами и падениями явился блестящей,
совершенно исключительной мишенью для этих близоруких охотников. Это состязание
с удивительной ясностью доказало, что только любовь или ненависть должны
руководить пером критика. Сухая объективность, серое беспристрастие оказались для
критика путеводителями совершенно непригодными.
Конечно, и говорить нечего, что личные счеты, погоня за вкусами толпы,
собственное безвкусие, неумение разбираться в явлениях искусства и отсутствие
чуткости ставят человека, берущегося за перо критика, в исключительно смешное
положение.
Пусть эта маленькая книжонка станет настольной для всякого, кто хоть минуту
сомневался в истинном значении нашей беззубой, равнодушной, творчески
несостоятельной, нечуткой и «авторитетной» критики.
Михаил Ефимов НОВЫЙ ПОСТАВЩИК УЛИЦЫ
Игорь Северянин и А. Масаинов «Мимозы льна»
С тех пор как Игорь Северянин отошел от эгофутуристов, он всецело отдался
315
служению улице и хорошо для этого приспособился. Снял хризантему из петлицы, из
большой и шумливой толпы «соратников» оставил одного только верного Алексея
Масаинова, сделал свой язык понятнее и, открыв новую лавочку поэзо-парфюмерии,
спокойно дожидается успехов и лавров. А успехи, нужно признать, довольно крупные.
Правда, Северяниным все меньше интересуется критика, но улица, к которой направил
он теперь свои поэзы, принимает его сочувственно. Нужды нет, что, уйдя от
футуристов, он не примкнул к «бальмонтис– там» или акмеистам, или другим; язык его
для широкой массы понятен и даже ощутительно нужен: как в крестьянстве до наших
дней живет смутная тоска по «Милорду глупому», «Францылю Венециану» и другим
чудесным заморским героям, так и в среде мелкой буржуазии есть всегда тяготение к
экзотичному, «бонтонному», великосветскому. Лимузины и ананасы, не считаясь с их
происхождением, она принимает за чистую монету, и звонкий, текучий стих
Северянина ей как нельзя более по вкусу. И «гением Игорем» уже упиваются юнкера,
провинциальные барышни, даже телеграфисты начинают мурлыкать его под гитару.
Как и все пишущие для улицы, Игорь Северянин не двигается в своем творчестве
вперед. Чтобы идти с улицей в ногу, нужно плестись черепашьим шагом: толпе чужды
искания и новые для нее порывы – она требует от каждого и^ поэтов поставки только
одного сорта литературного товара. Игорь Северянин и в этом покорен толпе. Новая его
книга «Мимозы льна» – «повторение пройденного». Он, как в кинематогра-
фе, прежде чем демонстрировать «вторую серию», еще раз повторяет первую, для
тех, кто ее еще не видел.
Поэтому мы и находим здесь прежнее:
Снова маки в полях лиловеют Над опаловой влагой реки А выминдаленные лелеют
Абрикосовые ветерки...
...Нежно нежилось море голубым сновидением,
Вековой медузью, устрицевым томленьем,
Нежно нежилось море, упиваясь собой...
Здесь есть многое для репертуара Эссбукетовых с гитарой:
Мы ехали с тобой в бричке Широкою и столбовой,
Порхали голубые птички,
Был вечер сине-голубой...
...А рдеет ветер, далеет Нарва,
Синеет море, златеет тишь,
Душа – как парус, душа, как арфа,
О чем бряцаешь, куда летишь?
Есть и новые изысканности:
Лилиевое тело В прожилках голубых Искристо запотело (!)
В сонах полубольных.
Есть и вариации на мотив «я гений Игорь Северянин» и еще многое-премногое, но
отсутствует то, что имелось в достаточном количестве в прежних книгах, —
стихотворения, отмеченные печатью таланта.
Это кажется безнадежным.
Даже Ал. Масаинов, скромно примостившийся позади Северянина, думается,
заслуживает большего внимания. В его стихах есть содержание, и что гораздо важнее,
очень мало той улицы, которой ревностно взялся служить его товарищ.
Леонид Фортунатов КУПЛЕТИСТ НА ПАРНАСЕ Новый том Игоря
Северянина «Тост безответный»
Изумительная продуктивность, редкая производительность, исключительная
трудоспособность отличают Игоря-Северянина. «Такой молодой, а уже 6-й (прописью -
шестой!) том стихов преподносит он читающей публике.
316
Вчитываешься, одну за другой перелистываешь страницы изящно изданного
шестого тома. Хочется найти хоть несколько настоящих стихотворений, хоть одно бы,
хоть несколько строф, рожденных подлинным вдохновением и идущих от сердца к
сердцу.
Каждый новый поэт – это ведь новое ощущение мира, новая красота. Если ничего
не горит, не сверкает между строк, – то кому и зачем нужны эти рифмованные
страницы?
Ах, вы очень культурны, но души-то в вас нет:
Вы не знаете горя, вы не знаете боли,
Что в столице лишились этой шири и воли,
Что подснежник мудрее... чем университет!
Но как пристально ни вчитывайся, и при наилучшем, наиболее доверчивом и
любовном отношении к поэту – ничего не найти на унылых страницах шестого тома
Северянина.
«Подснежник мудрее, чем университет» – это не ахти как ярко, но это единственная
строка, какую стоит запомнить изо всего тома.
Все остальное – несравненно хуже. Не поэт, а лысый бухгалтер «сочинял» все эти
признания:
Подлец ли я, что я ее покинул,
Ее, с которой прожил трое лет,
Что, может быть, уйдя из сердца, вынул?..
Подлец ли я? Подлец ли я иль нет?
Лысый бухгалтер предстает пред нами не случайно. Его стиль, его тон, его душа
повсюду в этой книге:
Не было похожих на тебя, – не будет.
Изменял другим, – тебе не изменю.
Тебя со мною не убудет,
Себя с тобою сохраню.
Этот почтенный, тонко чувствующий дебет и кредит бухгалтер, – жалуется, что
прежние возлюбленные его – их по точному подсчету оказывается было двенадцать -
были не ахти каковы:
Немолода, нехороша собою,
Мещаниста и мало развита.
Зато теперь, – хвастает бухгалтер, – он нашел тринадцатую, это уж антик с
мармеладом, что-нибудь особенное, как там ни говори.
...Тебя ни с кем нельзя сравнить:
Ты лучше, чем мечта (!).
...Ты – совершенство (!) в полном смысле слова Ты – идеал (!), приявший плоть и
кровь...
...Не улетай, прими истому:
Вступи со мной в земную связь.
Мы-то, наивные люди, верили, что теперь уже военные писаря и прыщавые
парикмахеры не позволяют себе этой меры пошлости – ты, мол, мечта и даже «лучше
чем мечта», ты, дескать, идеал, а посему «вступи со мной в земную связь», и чем
скорее, тем лучше.
А оказывается, этаким языком говорят и пишут у нас поэты, и еще изысканнее, еле
соглашающиеся «популярить изыски». Делается жутко за ту мелкость души, за ту
изумительную пошлость, какою дышат все переживания этого поэта.
– Ах все мне кажется (и отчего бы то Ведь ты мне поводов не подаешь),
Что ты изменишь мне, и все, что добыто Твоим терпением, продашь за грош.
317
И все мне кажется, и все мне чудится Не то подпрапорщик, не то банкир...
И все мне чудится, что это сбудется,
И позабудется тобой весь мир.
... Я безусловно тебя застрелю,
Если ты... с кем-нибудь... где-то там...
Потому что тебя я люблю И тебя никому не отдам.
...Впрочем, делай, что хочешь, но знай:
Слишком верю в невинность твою.
Не бросай же меня! не бросай!
Ну, а бросишь, – прости, застрелю.
Самые разудалые цыганские романсы, самые старые номера куплетиста – и те
требуют большей оригинальности, большего благородства, чем эти любовные стансы
новоявленного Петрарки наших дней. – Ты меня допостичь не могла! – уверяет поэт
возлюбленную. Но что ж тут «допостигать», если все так явственно пошло, трафаретно
и вульгарно:
Тобою услаждаясь ежечасно,
Мне никогда тобой не досладиться:
... Миленькая девочка скучает,
Миленькая девочка не знает,
Как жестоко ошибался часто,
Как платился, как и сколько раз-то!
2
Игорь-Северянин с похвальной откровенностью рассказывает о себе все, что
возможно.
Мы узнаем даже и о том, как велик темперамент поэта и его гвардейская
правоспособность:
Как солнце восходит раз (!) в сутки,
Восходит в крови моей страсть...
Тем меньше оснований у Северянина скрывать внешние события своей биографии.
Недавние газетные сообщения о том, что Игорь Северянин (Лота– рев) призван из
запаса, – немедленно иллюстрируется соответственной поэзой.
Как на казнь, я иду в лазарет!
Ах, пойми! – я тебя не увижу...
Ах, пойми! – я тебя не приближу К сердцу, павшему в огненный бред!..
... Я пылаю! Я в скорби! И бред Безрассудит рассудок... А завтра Будет брошена
жуткая карта. Именуемая: Лазарет.
Но ведь вот на обложке VI тома горделиво значится:
Бумага для этого издания изготовлена по специальному заказу. Шестого тома
выпускается: 6.500 экземпляров: 500 нумерованных на Александрийской бумаге в
переплетах из парчи, 3.000 в обложке работы Д. И. Митрохина и 3.000 в обложке
работы Н. И. Кульбина.
А рядом перечисление целого ряда изданий первых томов,– тысячи и десятки
тысяч экземпляров, и каждый том торжественно предлагается покупателю «в переплете
материи Лионез».
Почему «лионез»? В каком смысле и откуда этот бесспорный бьющий в глаза
успех?
В чем дело? Почему наше время дало титул избранника этому бухгалтеру, каким
образом типичнейший мещанин мог показаться поэтом?
Не за газетность же, с какой воспевает всех знакомых развязный стихотворец:
И Брюсов, «президент московский»,
318
И ядовитый Сологуб С томящим нервы соло губ,
Воспевших жуткую Ортруду,
И графоманы, отовсюду В журналы шлющие стихи,
В котором злющие грехи,
И некий гувернер недетский,
Адам Акмеич Городецкий,
Известный апломбист «Речи»,
Бездарь во всем, что ни строчи,
И тут же, публикой облапен,
Великий «грубиян» Шаляпин И конкурент всех соловьев,
И Собинова – сам Смирнов,
И парень этакий-таковский Смышленый малый Маяковский,
Сумевший кофтой (цвет танго!)
Наделать бум из ничего.
И лев журналов, шик для Пензы,
Работник честный Митя Цензор,
Кумир модисток и портних,
Блудливый взор, блудливый стих.
Сам Игорь-Северянин не сомневается, что он гений.
«Ведь я поэт – всех королей король, – уверяет он. Моих стихов классично-ясен
стих», «Гений мой тому порукой».
Когда мне пишут девушки:
«Его Светозарности»,
Душа моя исполнена
Живой благодарности.
Ведь это ж не ирония И не пародия:
Я требую отличия
От высокородия!
Пусть это обращение Для бездарности...
Не отнимай у гения
Его Светозарности!
В чем же – кроме безудержной смелости – видит свое право на «светозарность»
этот гений?
В словотворчестве, музыкальности стиха?
Арфеет ветер, далеет Нарва,
Синеет море, златеет тишь.
Душа – как парус, душа – как арфа.
О чем бряцаешь? куда летишь?
«Нарва» и «арфа», – это рифма, конечно, очень богатая, но «стерва» и «Марфа»
звучала бы еще лучше.
Все хорошо в тебе: и ноги (!), и сложенье,
И смелое лицо ребенка-мудреца,
Где сквозь энергию сквозит изнеможенье (?),
В чьей прелюдийности (?) есть протени (?!) конца...
Все хорошо в тебе: и пламенная льдяность,
Ориентация (?) во всем, что чуждо лжи...
Неужели этим можно ввести в заблуждение кого бы то ни было? Слов нет, не лишен
звучности набор слов вроде:
ПОЭЗА О ИОЛАНТЕ
Иоланта в брилльянтах, Иоланта в фиалках.
319
Иоланта в муар, Иоланта в бандо,
Иоланта в шантанах, Иоланта в качалках,
Иоланта в экспрессе, Иоланта в ландо!
Иоланта в рокфоре, Иоланта в омаре,
Иоланта в Сотерне и в triple soc curasso.
Иоланта в Вольтере, Иоланта в Эмаре,
В Мопассане, в Баркове и в Толстом, и в Руссо!
Но ведь звучность ни на йоту не уменьшится, если вместо слова Иоланта вставить
всюду хотя слово «Идиотка».
Идиотка в брилльянтах, идиотка в фиалках,
Идиотка в муаре, идиотка в бандо,
Идиотка в шантанах, идиотка в качалках,
Идиотка в экспрессе, идиотка в ландо.
Говорить о миропонимании, об идеях, о каком бы то ни было углубленном
отношении к миру в стихах Северянина невозможно.
Его привлекает только «безыдейность»:
Блаженство бессмысленно, и в летней лилейности – Прекрасен и сладостен
триумф безыдейности...
Лишь думой о подвиге вся сладость окислена,
И как-то вздыхается невольно двусмысленно...
Но, как это всегда бывает, и помимо воли, – поэт проявляет свое я. Когда он
заявляет «Мечта, ты стала инженю (!)», нам ясен опереточный уклон его мечтаний.
Правда, часто автор ведет себя как чеховский герой: «Оны хочут свою
образованность показать и нарочно про непонятное говорят»:
И ты, как рыцарица (!) духа,
Благодаря кому разруха Дотебной (?) жизни – где-то там,
Прижмешь свои к моим устам...
...Дитя, ты лучше грезы!
И грезу отебить (?) хотел бы я свежо:
Тебя нельзя уже огрезить: все наркозы,
Все ожидания – в тебе: все – хорошо!
Все хорошо в тебе! И если ты инкубишь (?),
Невинные уста инкубность тут нужна...
Но иногда добрый бухгалтер забывает об «инкубности», «дотебной жизни» и
говорит по существу:
Я возьму в волнистую дорогу Сто рублей, тебя, свои мечты,
Ну, а ты возьми, доверясь Богу,
Лишь себя возьми с собою ты!
И когда оставишь в стороне «словесность»: «За синельными лесами живет меня
добивный я» – видишь настоящую суть.
Раньше всего аристократизм. Окромя «поклонниц», – поэт имеет дело с князьями и
графьями:
Тут не сдержалась бы от вздоха Моя знакомая княжна,-
вспоминает ни к селу, ни к городу в одном месте.
Maman с генеральшей свитской Каталась в вечерний час -
сообщается между прочим в другом.
Сколь аристократичны знакомства, столь же изысканны и вкусы:
Граммофон выполняет, под умелой (!) рукою Благородно (!) и тонко (!) амбруазный
мотив.
«Умелая» и «благородная» игра на граммофоне – это ли не типичный для
320
парикмахера штришок?
А вот и еще более характерная черточка:
Гйбнет от взрыва снаряда огромный пассажирский пароход. Что усмотрел здесь
этот «поэт Божьей милостью»?
Умирали, гибли, погибали Матери и дети, и мужья,
Взвизгивали, выли и стонали В ненасытной жажде бытия...
...Женщины, лишенные рассудка,
Умоляли (?) взять их пред концом,
А мужчины вздрагивали жутко,
Били их по лицам кулаком...
Что – комфорт! искусство! все изыски,
Кушаний, науки и идей! – Если люди в постоянном риске,
Если вещь бессмертнее людей?!..
Раньше всего – «кушанья», а потом уже все остальное, – как это типично для
изысков этого рода!..
Пусть бы наслаждался жизнью с «знакомою княжной» и с «благородным
граммофоном» этот удачливый куплетист... Но Северянину этого мало. Он хочет еще
славы.
Пусть афишируют гигантские Меня афиши, – то ль не эра!
О, еще бы! Конечно, эра. Судя по новому, VI тому, от того дарования, какое – надо
признать – несомненно было дано Богом Игорю Северянину, не осталось ничего.
Но осталась «эра». «Всякому времени свой муж потребен», и наша эра, очевидно,
именно такова, что чуть ли не «первым», во всяком случае, самым модным поэтом -
объявлен стихотворец, разменявший себя на дешевку, не имеющий как будто и
представления о том, что такое Поэзия, что такое Искусство, что такое Красота.
Лариса Рейснер
ЧЕРЕЗ АЛ. БЛОКА К СЕВЕРЯНИНУ И МАЯКОВСКОМУ
I
Александр Блок никогда не был революционером и реформатором.
Величие его поэзии не искало пурпурных и золотых слов.
Всегда большой и незабываемый, даже в пошлых образах, даже в поблекшей теме,
он бесшумно переступил черту временного и ничтожного. Его влияние громадно, как
влияние абстрактной идеи, тончайшей математической формулы.
Из сумерек социального упадка он вынес цветок мистической поэзии, бледный, но
благоухающий, и в этом его величайшая заслуга. Но подражать Ал. Блоку, его
полутонам, его лирике, выросшей без света и воздуха, его любви, затерянной в сером
холодном небе, – невозможно и бесполезно.
Как всякое завершение – Блок неповторим.
И современная поэзия не совершила этой ошибки.
В беспорядочном бунте футуризма, каким бы скандалом он ни был, выразилась
жажда жизни и творчества и желание и воля новых поколений.
Улица, прельщенная желтой блузой и развязными манерами, оценила новых героев
и с улюлюканием проводила их на Олимп русской литературы.
Теперь, обезвреженные и прирученные, подробно описанные критикой, – русские
футуристы далеки от своей площадной купели.
Два имени, в особенности, вошли в общее употребление и пошли по рукам: Игорь
Северянин и Вл. Маяковский.
Начнем с прославленного эголирика. Он принес с собой радость, этот странный
человек с мертвым лицом и глубочайшим голосом.
В ночных кафе, после трех часов ночи, перед ошеломленными профессионалами
321
его «поэзы» кипели, как брага, цвели, как цветет счастье:
Пою в помпезной эпиталаме (О, златолира, воспламеней!),
Пою безумье твое и пламя,
Бог новобрачных, бог Гименей...
Он дерзал любить и благословлять. Как отпущение грехов, цвели ландыши его
весны, и форма стиха была как прозрачнейший лед.
Как много богатства и щедрости, и все это нам, «талантливым трусам и
обнаглевшей бездари».
И только одну непоправимую ошибку совершил Северянин. Вместо обнищавшего
человечества он призвал к себе улицу, скверную и безнадежную улицу.
Кокотки зашелестели муаровыми шелками поэта. Все, бесславно увядшие и
поношенные, цветными карандашами подчеркнули прославленную моложавость и
прозрачность жалких лиц. Эта была поэтическая косметика, крем и пудра Северянина.
А эти, бездарные и оскудевшие, наша знаменитая «чуткая» молодежь, беззаботно
идущая на удобрение общественной почвы! И она причастилась.
Восторгаюсь тобой, молодежь!
Ты всегда, даже стоя, идешь...
Когда-то поэт мечтал о хрустальном гробе, о сказочных похоронах своей души. Ну
что же, желание исполнилось. Его сердце уже показывают за деньги, и не слишком
дорого заплачено за публичное поругание. На помпезных поэзо-концертах подают
«мороженое из сирени», «шампанское в лилии». Все стыдливые и тайные слова поэзии
«распивочно и на вынос», со скидкой для учащихся, с бесконечными бисами – «очам
души твоей», «болезнь» и «страх», «плач совести» и «хохот лиры» – всё, всё
распродается!
Есть избранники; их жизнь – тайна и несчастие. Слава удовлетворяется их
могилами, не смея запятнать самое страдание. Так жил и умер Тассо или Шекспир, о
котором мы не знаем почти ничего. Так нищенствовал Сервантес и томился в течение
сорока лет Поль Верлен.
Но есть и другие, для которых гений становится могильщиком.
Вычеркнутые из списка живых собственным величием, они жадно существуют,
чтобы погибнуть случайно; преждевременно опустошенные, до дна испитые, всеми
изведанные творцы.
Игорь Северянин – крайнее выражение именно этой категории. Он не только
пережил свое дарование: заживо переваренный толпой, добыча тысячи тысяч
желудков, он исчез, измельчал в непрестанном процессе общественного пищеварения.
«Victoria Regia» – одна из последних книг Северянина. Страницы ее как лепестки
этого пышного цветка-паразита. Лишенные аромата, плотно, всею кроной вросшие в
теплое и сырое болото – они наливаются яркой и болезненной краской.
Сожаление и боязнь сквозят в остывающих строфах:
О, век безразумной услады,
Безлистно-трепетной весны.
Модернизованной Эллады И обветшалой новизны!..
Это значит, что Громокипящий кубок упал в трясину, его золото перестало блестеть,
и Victoria Regia выросла на преждевременной могиле.
II
Маяковский никогда не был фальсификатором.
Улицу не смешивал с шантаном, чернь отличал от черни просвещенной, в кармане
прятал кастет и пренебрегал Северяниным, как бродяга – сутенером.
Мир для него – не бутафория, не мертвая, временная декорация, которую можно
подновить или взять напрокат, как берет Северянин «форелевые ручьи», «эскимосские
322
юрты» и «карельские яхты».
Улица Вл. Маяковского «безъязыкая», которой «нечем кричать и разговаривать», его
площадь, которую «испешеходили чахотки площе», часы, которые «падают, как с плахи
голова казненного», – все, мертвое и покорное, попираемое ногами, – имеет свою
высокую, скрытую ценность.
Мельчайшая пылинка живого
Ценнее всего, что я сделаю и сделал!..
Камень, железо и асфальт гнутся и стонут в стихах Маяковского. Через толщу
тротуаров, из-под каменных гор приходит его гнев, его месть, его жажда освобождения.
«Крикогубый Заратустра», поэт, которым воспеты мужчины, «зале– жанные как
больница», и «женщины, истрепанные, как пословица», Маяковский по-своему
молится величайшему богу человечности:
...Люди,
И те, что обидели,
Вы мне всего дороже, ближе.
Видели,
Как собака бьющую руку лижет?
Он, осмеянный и у сегодняшнего племени,
Как длинный скабрезный анекдот,
Видит Идущего через горы времени,
Которого не видит никто.
Видит Поэта, и для него, Грядущего, отдает свою душу, чтобы она, окровавленная,
стала «как знамя».
И еще странность.
Игорь Северянин, утонченный гурман, не побоялся такого посвящения: «Эта книга,
как и все мое Творчество, посвящается мною Марии Волнянской, моей тринадцатой и,
как Тринадцатая, последней».
Никто не увидел пошлости в этом посвящении, не нашел ее в фиалково-лимонном
гареме, которым Северянин окружил свою Тринадцатую. Тем охотнее нашли
скабрезность в задыхающихся стихах Маяковского. Его печальные многоточия, в
которых больше ярости, чем желания, просмаковали вполне. Никто не захотел увидеть
главного, чего нет и не было у Северянина, несмотря на эго-экстазы, груди-дюшесы и
захмелевшие цветы, – Любви.
А между тем где ее больше, громадной и нежной, чем в книге, которая называется
«Маяковский».
Правда, она страшна, эта любовь, она разливается «как румянец чахоточного», но с
нею «Каторжане города-лепрозория:
Где золото и грязь изъязвили проказу, —
Чище Венецианского лазорья,
Морями и солнцами омытого сразу...
Игорь Северянин не знает ревности; в березовое шале его пускают с заднего
крыльца. «Жена и мать» пользуются им, как морфием, чтобы немного ослабить тяжесть
старой «бракоцепи». И галантный «Эксцесс» охотно идет к этой «замужней невесте»,
чтобы «девственно озве– рить» ее «алчущий инстинкт». Такая нежность, не лишенная
пользы, называется «Berceuse осенний»...
Как неуместна после подобной «терпимости» безумная, ревнивая боль
Маяковского:
До утра раннего, в ужасе, что тебя любить увели,
Метался и крики в строчки выгранивал Уже наполовину сумасшедший ювелир...
Странная лирика. Она не умеет нравиться, у нее никогда не будет «дежурной
323
адъютантессы». Юлии, Зизи, Инстассы и Вероники не станут утешать Маяковского
мороженым из фиалок, сиреневыми шоколадами и лазоревыми жалами.
Мне, чудо творцу всего, что празднично,
Самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь,
И голову вымозжу каменным Невским!
Прихотливый мятежник Северянин никогда не выходил на улицу, никогда не искал
поддержки глубоко презренной черни.
Поэзия, как и история, имеет свои дворцовые перевороты, учтивые, паркетные
заговоры, производимые благовоспитанными молодыми людьми в рамках тонкого
этикета.
И Северянин как раз наиболее талантливый лейб-революционер современного
искусства.
Пусть Маяковский не завидует этому титулу: пока не оскудела его рельефная,
образная речь, пока творчество не устало ломать старые воплощения, никто не
оскорбит его, Поэта, этикеткой и номером Литературного архива.
Мария Моравская ПЛЕБЕЙСКОЕ ИСКУССТВО Об Игоре Северянине
Многие не знают, что такое, в сущности, Игорь Северянин, так как принято его
разглядывать с поэтической точки зрения. А поэтическая точка зрения здесь не при
чем, так как этот внешне талантливый стихотворец с умопомрачительно дурным
вкусом не мог бы так долго интересовать читателей и критику, если бы не социальное
содержание его стихов.
Игорь и его подражатели – это плебейство, стоявшее у двери дворца.
Все читатели и почитатели Игоря Северянина, все слушатели его поэзо-концертов
(какое романтическое слово!), восторженные курсистки и приказчики, все это – «люди
без собственных лимузинов», которые тоскуют по внешней культуре. Они чувствуют,
вдыхая стихи Северянина, запах экзотических цветов, запах цветов, которые обычно им
приходится видеть лишь за стеклом магазинного окна. Они слышат легкую бальную
музыку в этих стихах с банальным ритмом. Они, читая Игоря, входят в нарядные
будуары и видят зеркала, в которых им никогда не суждено отразиться.
И крылатые яхты, и авто, и молниеносные путешествия по всему миру, – все, что
доступно лишь немногим, лишь внешним хозяевам жизни, вынес Игорь на улицу. Он -
продавец сказочных лубочных картинок, которыми кухарки оклеивают свои сундуки.
Но он же бессознательный выразитель тоски по благам внешней культуры, тоски по
физически полной жизни, по «нарядной сытости», как клеймят это некоторые.
А клеймить тут нечего. Из-за обладания этой внешней культурой идет борьба,
совершаются социальные перевороты. Вечно стоит народ у парадных дверей. И всегда
жадно хочет знать, что делается там внутри.
И пусть Игорь «все переврал», пусть у него мраморная терраса неестественно
приделана к березовому коттеджу; пусть его принцессы с утра ублажают себя
ананасами в шампанском – разве нужен верный быт людям без собственного лимузина?
Им нужна фантазия на тему о том, как живут другие, хозяева жизни.
И это не смешно, и это не низменно. Сам Пушкин мечтал о внешней культуре;
проезжая по плохим русским дорогам, он тосковал: когда же «Мосты чугунные чрез
воды шагнут широкою дугой».
А если б он жил «во времена Северянина», он, быть может, мечтал бы, когда же ему
удастся помчаться в родное имение на молниеносном самолете?
Это не смешно, что люди стоят у чужих парадных дверей: это не низменно, что они
в мечтах тоскуют по внешней культуре; это лишь бесконечно печально.
Пастух, мечтающий о принцессе, приказчик из меблирашек, студент из мансарды,
324
грезящий о березовом коттедже, и сам Северянин, воспевающий этот коттедж, их
общая тоска – плод социального неравенства. Это очень серьезно и очень
значительно. Это сама жизнь – тоска у чужих парадных дверей.
Но тоска эта имеет разный характер. Люди активные, которым обидно зябнуть под
ветром нищенской судьбы, бьют в двери кулаком:
«Открыть или руки о двери сломать».
Вот, как говорит об этом Верхарн, сын героической страны. Обидно, что наш поэт
плебейской тоски может лишь стоять и мечтать о том, что внутри... И с ним мечтают
многие, пассивные, ничтожные, те мужчины, которые приглашают своих подруг:
«Пойдем в кинематограф, там теперь идет великосветская драма, о том, как лорд
Нокс с опасностью достает своей Дженни черную жемчужину».
Они выйдут из кинемо, муж и жена, символические Муж и Жена, плебеи наших
дней, и не будут чувствовать стыда, что не они – герои; что он никогда никуда не уедет
за черной жемчужиной, а она не способна умереть от любви. Они выйдут на улицу и







