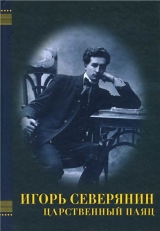
Текст книги "Царственный паяц"
Автор книги: Игорь Северянин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 40 страниц)
Полетив той комар у чистое поле,
У чистое поле в зелену дуброву.
В роли комарика оказалась группа поэтов, с победоносным жужжаньем вылетевших
в чистое поле русской литературы, а в роли «Мухи– Шелестухи» те читатели, которых
увлекли господа эгофутуристы.
Зазовь!
Зазовь манности тайн Зазовь обманной печали...
Зазовь сипких тростников Зазовь зыбких облаков Зазовь водностных тайн Зазовь.
Это комарик вечером над болотцем справляет свою комариную свадьбу и зазывает в
свои объятья непоседливую Муху-Шелестуху. Этот комариный язык, конечно, не имеет
никакого отношения к «непонятным гиероглифам Пушкина»...
Не «рог времени трубит» в зазывающих книгах Гйедовых и Хлебниковых, а трубит
победу и одоленье над Пушкиным и «великим сплетником» Толстым все тот же
комарик, не устающий жужжать «зазовь... зазовь... зазовь!».
В малороссийской песенке, о которой я вспомнил, рассказывается о трагическом
конце комарика и его апофеозе. После свадьбы с Мухой– Шелестухой молодой уселся
на дубочек, «свои ножки опустив в холо– дочек». Пока он наслаждался своим
царственным величием, «налетела шуря-буря, вона того комарика с дуба сдула».
Комарик погиб. Тогда после его смерти начался апофеоз. Прилетели атаманы.
Положили разбитого и смятого комарика в гроб, покрыли бездыханные останки
«червонною китайкою» и похоронили на высоком кургане.
Но и это не все.
Песня кончается словами:
Ой шож там лежит за покойник?
Ой чи пан, чи гетман, чи полковник?
Ой ни пан, ни гетман, ни полковник.
А то Мухи-Шелестухи полюбовник.
Поэтиков, занимающихся словоизвержением и победоносным жужжанием, быстро
унесет волна общественного подъема. Атаманы Валерий Брюсов и Ф. Сологуб
попытаются сперва их сосватать, а потом устроят им пышный апофеоз.
Но кто пережил свою первую любовь к поэзии Пушкина и Толстого, кто чужд
высшей политике атаманов, тот пройдет мимо высокого кургана. Он ведь знает, что там
покоится:
Ни пан, ни гетман, ни полковник,
А то Мухи-Шелестухи полюбовник.
285
Владимир Маяковский ПОЭЗОВЕЧЕР ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА
О поэзии Игоря Северянина вообще сказано много. У нее много поклонников, она
великолепна для тех, чей круг желаний не выходит из пределов:
Пройтиться по Морской с шатенками.
Но зачем-то ко всему этому притянута война? Впечатление такое: люди объяты
героизмом, роют траншеи, правят полетами ядер, и вдруг из толпы этих «деловых»
людей хорошенький голос: «Крем де вио– лет», «ликер из банана», «устрицы»,
«пудра»! Откуда? Ах да, это в серые ряды солдат пришла маркитантка. Игорь
Северянин – такая самая маркитантка русской поэзии.
Вот почему для выжженной Бельгии, для страдальца Остенде у него только такие
«кулинарные» образы:
О, город прославленных устриц!
Поэтому и публика на лекции особенная, мужчины котируются как редкость: прямо
дамская кофейная комната у Мюра и Мерилиза.
Публики для военного времени много.
Нетерпеливо прослушан бледный доклад Виктора Ховина, ополчившегося на
воинственный итальянский футуризм и пытавшегося теоретически обосновать
воспевание «гурманства» и «трусости», о которой дальше проскандировал Северянин:
Да здравствует святая трусость Во имя жизни и мечты!
После вышел «сам». Рукоплескания, растущие с каждым новым стихотворением.
Еще бы: «это – король мелодий, это – изящность сама». Увлекаются голосом,
осанкой, мягкими манерами, – одним словом, всем тем, что не имеет никакого
отношения к поэзии. Да в самом деле, не балерина ли это, ведь он так изящен, ну,
словом —
Летит, как пух из уст Эола:
То стан совьет, то разовьет И быстрой ножкой ножку бьет.
<1914>
Мариэтта Шагинян ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
Чего только ни наговорили об этом поэте! Федор Сологуб любит его за «дерзание»,
Корней Чуковский за «коконтес и виконтес», которых он считает наиболее
характерными для «изысканного упадочника» Северянина. Принято нынче всюду,
говоря о нем, прибавлять «но, конечно, он очень талантлив...» Его книгой
«Громокипящий кубок» обновился старый «Гриф», – московское книгоиздательство,
давно уже помалкивавшее; издавая ее, оно как бы записало в восприемники футуризма
волну русской символистской поэзии, именовавшуюся «декадентством».
Первым и наиболее главным из отрицательных явлений, мешающих читателю
ознакомиться с Иг. Северяниным, надо признать кличку футуризм и футуристскую
рекламу. Большинство приступающих к чтению «Громокипящего кубка» ищет в нем
сенсаций, чего-нибудь забавно-предосудительного, дразнения, а также и той
болезненной истерики, которая столь часто дразнением вызывается. Наиболее
искренние из называющих себя «футуристами» находятся сейчас на положении своего
рода пушных зверьков, которых публика всячески гладит против шерстки, дабы
вызвать рычанье и царапанье. Следы такой болезненной «непокорности» имеются в
«Громокипящем кубке», но их мало, и они не существенны. Этот настоящий
лирический сборник, заслуживающий настоящего и серьезного внимания, никоим
образом не следует читать как нечто футуристское. Рекомендую моему читателю
забыть сейчас все клички, все невежественные и наивные теоремы футуристов и
вместе со мною отдаться удовольствию перебрать несколько прекрасных
стихотворений, удовольствию, в наше время ставшему редким.
Всякого поэта, большого и малого, в поэзию, как в рыцарство, должна посвятить
286
любовь. Не потому ли мы переживаем наиболее бедное лирикой время, что наши
многочисленные стихотворные таланты успевают только писать, окончательно
разучившись углубленно переживать? К чему они должны непременно писать, и
непременно в стихах, а не в прозе – загадка и для читателя, и для них. Подобной
«загадки» не существовало ни для Игоря Северянина, ни для его внимательного
непредубежденного читателя, который отделяет в стихах Северянина
подлинное от вымороченного: автор «Громокипящего кубка» не мог не писать в
стихах, ибо он любил.
Первый отдел его книги называется «Сирень моей весны». В этом отделе
происходит посвящение поэта в поэзию любовью; каждая строка тут автобиографична,
по крайней мере, так убежденно чувствует читающий.
Очам твоей души – молитвы и печали.
Моя болезнь, мой страх, плач совести моей;
И все, что здесь в конце, и все, что здесь в начале, – Очам души твоей...
Ну, что здесь футуристского? А между тем этим стихотворением начинается
сборник. Автора <сердце?> совсем молодое, умеющее любить и страдать,
самоуверенное, но и трогательное в своей смиренности существо, дерзкое перед
чужими, кроткое перед любимыми, и главное – до зависти, до странности, не по-
петербургски, – откуда оно для всех нас возникло, – молодое.
В то время как стихотворные складки нашей безукоризненной молодежи ложатся
по-старушечьи сморщенно, строфы аккуратны и безобидны, темы до тошноты скучны
– и это при всех потугах на юность и стихийность, у Игоря Северянина нет ни одного
скучного стиха и ни одной старческой гримасы во всем сборнике, даже там, где он, к
сожалению, начинает уже писать не просто, а как бы для иллюстрации футуризма.
Чуковский видит в Северянине городского поэта, оозера, влюбленного в файф-о-
клоки, автомобили, кокоток и т. д. Это абсолютно неверно. Игорь Северянин глубоко
чувствует деревню, знает и видит ее и, когда о ней пишет, выбирает нежные и верные
слова; посмотрите, например;
Люблю октябрь, угрюмый месяц,
Люблю обмершие леса,
Когда хромает ветхий месяц,
Как половина колеса...
Или, например:
Прост и ласков, как помыслы крошек,
У колонок веранды и тумб Распускался душистый горошек На взлелеянной пажити
клумб.
Замечательно по своей светлости и свежести стихотворение «Маргаритки», которое
так и тянет сравнить с гетевской «Майской песнью»,
читатель, конечно, не посетует на меня, если я приведу это стихотворение целиком:
О посмотри! как много маргариток —
И там, и тут...
Они цветут; их много: их избыток;
Они цветут.
Их лепестки трехгранные – как крылья,
Как белый шелк...
Вы – лета мощь! Вы – радость изобилья!
Вы – светлый полк!
Готовь, земля, цветам из рос напиток,
Дай сок стеблю...
О,
девушки! о, звезды маргариток!
287
Я вас люблю...
Бег оленей для него «воздушней вальсовых касаний и упоительней, чем лень», ночи
приходят в «сомбреро синих», вечером при луне «дорожка песочная от листвы
разузорена – точно лапы паучные, точно мех ягуаровый», в ясный день он описывает
лёт автомобиля: «...а кругом бежали сосны, идеалы равноправий, плыло небо, пело
солнце: кувыркался ветерок; и под шинами мотора пыль дымилась, прыгал гравий,
совпадала с ветром птичка на дороге без дорог...». Каждое стихотворение, каждое слово
говорит о верном чувствовании и свежем радостном вглядывании поэта в мир. Надо
признать, что даже там, где Северянин, заключенный в городе, волей-неволей поет
город, он воспевает, даже в специфически городском, косвенные отражения природы и
находит эпитеты всегда живые, органические, растительные, земляные, а отнюдь не
механические.
Вот несколько образчиков этого: у автомобиля он берет не его машинные
характеристические признаки, а такое, в сущности говоря, случайное свойство, как
материал, – то, что он из клена: «...сел на сером клене в атласный интервал»; далее
мотор прямо называется клено– ходом: но не довольствуется растительным сравнением.
Северянин окончательно анимизирует автомобиль: «шоффер» – мой клеврет —
коснулся рукоятки, и вздрогнувший мотор, как жеребец заржавший, пошел на весь
простор»... «Цилиндры у него «солнцевеют», дамская венгерка – комичного цвета
коричнево-белковая и т. д.
Но то, что безусловно отличает Игоря Северянина от громадной массы
современных поэтов, как футуристского, так и прочего толков, это элемент подлинной
лирической скорби, обостряющейся иногда до трагизма, и при этом не высосанной из
пальца и взятой напрокат у со
седа (как ныне практикуется), а рожденной собственным опытом, перенесенной
душою, как болезнь, простой и оригинальной, как и все настоящее.
Все истинные стихи – биография; жутко-интимные и стихи «Громокипящего
кубка»: из них можно вычитать целый рассказ о любви автора. Я попытаюсь сделать
это для читателя.
Быть может, оттого, что ты не молода,
Но как-то трогательно-больно моложава,
Быть может, оттого я так хочу всегда С тобою вместе быть...
Итак, она не молода; на пальце ее обручальное кольцо – она замужем; встречается с
ней автор в «трехкомнатной даче», которую он называет в стихах «шалэ», и которая
находится где-то «на реке форелевой, в северной губернии»; все эти встречи – летние;
зимою они так же редки, как цветение Виктории-Регии. И зимой поэт мечтает о лете,
когда он «откроет сердце, как окно», для своей запретной любви. Вот пленительное
стихотворение под заглавием «Это все для ребенка...»
О, моя дорогая! ведь теперь еще осень, ведь теперь еще осень...
А увидеться с Вами я мечтаю весною, бирюзовой весною.
Что ответить мне сердцу, безутешному сердцу, если сердце
вдруг спросит.
Если сердце простонет: «Грезишь мраком зеленым, грезишь
глушью лесною».
До весны мы в разлуке. Повидаться не можем. Повидаться
нельзя нам.
Разве только случайно. Разве только в театре. Разве только
в концерте.
Да и то бессловесно. Да и то беспоклонно. Но зато – осиянным
И брильянтовым взором обменяться успеем... как и словом
288
в конверте...
Вы всегда под охраной. Вы всегда под надзором. Вы всегда
под опекой.
Это всё для ребенка... Это всё для ребенка... Это всё для ребенка...
Я в Вас вижу подругу. Я в Вас женщину вижу. Вижу в Вас человека.
И мне дорог Ваш крестик, – как и Ваша слезинка,
как и Ваша гребенка.
Но что произошло меж нею и поэтом? Так любима, что даже разлука становится
для него источником духовных откровений и близости:
Найти друг друга, вот отрада!
А жизнь вдвоем – предтеча тьмы...
Нам больше ничего не надо:
Лишь друг вне друга – вместе мы!
Так любима, что поэт зовет ее: «мой лучший друг, моя святая» – и вдруг, «Стансы»
выдают нам его тягчайшую боль:
И все – невозможно! И все – невозвратно!
Несбыточней бывшего нет ничего...
И ты, вся святая когда-то, развратна...
Развратна! – Не надо лица твоего!..
В этой строфе каждая строка свидетельствует о страдальческой сознательности
автора; а фраза «несбыточней бывшего нет ничего», – блестящая по афористической
мудрости мысль, достойная войти в разряд философско-житейских максим.
Человек может грешить и почти всегда грешит ниже и хуже животного, но любить
он способен лишь чистоту: в этом его страдательная привилегия. И поэт не прощает ей,
любимой, как раз того, в чем он может быть и сам повинен, – утери чистоты. Цикл
«Сирень моей весны» заканчивается в числе других стихотворением «Завет», где Игорь
Северянин формулирует свой внутренний опыт следующими великолепными по мысли
строками:
Целуйте искренней уста – Для вас раскрытые бутоны,
Чтоб их не иссушили стоны,
Чтоб не поблекла красота!
С мечтой о благости Мадонны Целуйте искренней уста!
Как не схоже это «с мечтой о благости Мадонны целуйте» с нашими современными
эротическими заповедями, которые не только не освящают подхода к женщине
воспоминанием о благостной Деве Марии, а и самую «благость Мадонны» превращают
(например, у молодых поэтов школы Белого и Эллиса) в средство для двусмысленно-
экстатических «подходов», напоминающих экзальтированную влюбленность в
женщину. Далее, в стихотворении «Завет» следуют строки «прощайте пламенней
врагов», «страдайте стойче и святей», «любите глубже и верней, бессмертен, кто любил
страдая...». Таково credo родоначальника русского футуризма.
Читателю, вероятно, еще очень понравится маленькое стихотворение из первого
цикла. Оно называется «В парке плакала девочка».
В парке плакала девочка: «Посмотри-ка ты, папочка,
У хорошенькой ласточки переломлена лапочка, —
Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю...»
И отец призадумался, потрясенный минутою,
И простил все грядущие и капризы, и шалости Милой маленькой дочери,
зарыдавшей от жалости.
Следующие циклы гораздо совершенней по форме, но, к несчастью, и гораздо
нарочитей и скусней <скучней> первого. С них, собственно, и начинается футуризм
289
Северянина. Он подает читателю «мороженое из сирени», для чего предлагает своему
«водопадному сердцу» «заль– диться в душистый и сладкий пушок». Поэт восклицает:
«Пора популя– рить изыски, утончиться вкусом народа!». Но посмотрим, какие же
изыски он собирается популярить. Лилия ликеров, фиалковый фиал, качалка грезерки,
мечты-сюрпризэрки, омолненный дым, озерзамок, аллея олуненная, окалошить,
омолнить, солнцевеет, лоско, броско, нечно <так!>, зеркалозеро, лес одобренный,
слезоем, омаен, освирель– ся, безслухий и т. д., и т. д. Вот область, где Северянин
производит свои «изыски» и где сосредотачивается его изысканность. К изобретаемым
новым словам присоединяется славянизация слов романских (офлеря, кайзэрка, вирелэ,
крем-де-мандарин, эксцессерка и пр.) и наряду с этим романизация слов славянских
(пристегивание французских окончаний, итальянское сокращение гласных «¡я» в «а» и
т. д. Сюда же принадлежат так ново и непривычно звучащие русскому уху рифмы
«констриктор-редактор, фиалково-Пулково. журфикс-кэкс, шелесте– шалости»,
которым, несомненно, принадлежит будущее. Все эти новшества относятся к технике
стиха; что же принадлежит самому Игорю Северянину в области поэтического мелоса,
иначе говоря, в чем его собственная песня? Большинство критиков-сходится на том, что
Игорь Северянин – поэт крайнего декаданса, «ажурности», «грезэрок», «румян», той
самой гнили, которую отлагает от себя культура: другие (а с ними вместе, вероятно, и
сам поэт), считают его как раз, наоборот, воз– вестителем конца мира, пророком
одичания, бегуном от культуры. Я думаю, песня Северянина – ни о том, и о другом);
она поет нам лишь о молодости самого поэта. Мелос Северянина в подлинной его
молодости, – как раз в том, чего недостает сегодняшним старцам, не успевшим даже
на вершок перерасти гимназический пюпитр.
Увы! – пустынно на опушке Олимпа грозовых лесов...
Для нас Державиным стал Пушкин,
Нам надо новых голосов!
Теперь повсюду дирижабли Летят, пропеллером ворча,
И ассонансы, точно сабли, Рубнули рифму сгоряча!
Мы живы острым и мгновенным, Наш избалованный каприз:
Быть ледяным, но вдохновенным, И что ни слово, – то сюрприз.
Не терпим мы дешевых копий, И примелькавшихся тонов И потрясающих утопий
Мы ждем, как розовых слонов...
Душа утонченно черствеет, Гйила культура, как рокфор...
Но верю я: завеет веер!
Как струны, брызнет сок амфор!
Придет Поэт – он близок, близок! Он запоет, он воспарит!
Всех муз былого в одалисок,
В своих любовниц претворит.
И, опьянен своим гаремом,
Сойдет с бездушного ума...
И люди бросятся к триремам,
Русалки бросятся в дома!
Извиняюсь перед читателем за длинную выдержку; стихи так прекрасны, что жалко
выбрасывать строфы. Что же в них наиболее характерно? Явная молодость, радостная
воля жить, умение быть молодым... В этом главная прелесть Северянина: «блажен, кто
смолоду был молод», и ждал «потрясающих утопий», как «розовых слонов»; но в этом
же и главная опасность для поэта: сумеет ли он свою весеннюю ярость прочно и
праведно переработать в мужество и показать нам всем, кто дул в его парус, – дух
Божий, или только ветер его счастливого утра?
Виктор Ховин СКВОЗЬ МЕЧТУ
290
Вымысел, которого ты так опасаешься, есть душа этого творения, дыхание его
жизни, та текучая теплота, которой недостает срезанным листьям.
Поль Гоген. «Ноа-Ноа».
Путешествие на остров Таити
Здравствуй, Белая Ночь!..
В тревожные сумерки взял я эту книгу, книгу, рожденную очарова– нем
Обетованной Земли, и не успел дослушать вдохновенный шелест древней свирели,
«которую маори знают под именем vivo», не успел дослушать тихую песнь взморья,
которую, казалось, несло мне дыханье соснового леса, как заворожила'легендная
чаровница, лежащее там, в отдалении, скверное, мертвенно спокойное море...
И когда в открытое окно вошла она в своем холодном и мудром молчании,
набросившая на всю природу из прозрачно сребристых струй мантию, вдохновенно
приник я к грезе художника, – к грезе Благоуханной Земли...
«И вот с Таити художник привозит с собою не листья тамарина, на которых
вырезаны красивые слова, и не горсточку песку, и не живую женщину, и не солнце. Он
привозит с собою ту Г^езу, которую пережил там своими глазами, своим умом и
сердцем.
Но не лжет ли он? И кто даст нам уверенность в том, что действительно существует
этот далекий остров, на котором мы ни разу не бывали, эта восхитительная и
обреченная земля?..»
И когда одни отбросят твою книгу, художник, как никчемную для потребностей их
сегодняшнего дня, а другие, те, кого называют эстета-
ми, составители гербариев и хранители железных сундуков, будут помнить о
Благоуханной Земле как о царстве лени и дремы, будут говорить о крепких чреслах
маорийской женщины, но пройдут холодные мимо того, что называешь ты
«маорийским очарованием», не приникнут к той песне, которую поет дикая свирель
vivo, и к той тайне, которую излучают глаза златокожей женщины, хранительницы
старых преданий, – не удивляйся и не жди больше; – пред тобою прошел современный
читатель.
И когда бескрылые, опустошенные и пустые в своем скептицизме души
пренебрегут твоей книгой, книгой подлинного вымысла и вдохновенных суеверий,
повтори слова другого суеверца:.«Кто верит какой либо системе, тот изгнал из сердца
своего всеобщую любовь! гораздо сноснее нетерпимость чувствований нежели
рассудка: суеверие все лучше системоверия...»
Но я в эту белую холодную ночь, я поверил тебе, художник, поверил твоему
видению, твоему вымыслу, равному той истине, которая пребывает только в душах
наших... и не только одинокие оба, сердце твое и vivo «вблизи и вдали поют
свирельною трелью», но и далеким северным эхом отвечает вашим сердцам и вашим
песням мое сердце и моя песнь...
– Он был первым, кто сказал – живите, как цветы полевые, – пишет Уайльд о
Христе, и Он же признавал, что душа каждого должна быть, как девочка, что резвится
и плача, и смеясь.
Мечта Уайльда о торжестве бесплодных эмоций над практицизмом, творческой лжи
над будничной правдой действительности нашла себе воплощение в сладостной и
пламенной легенде бездомного художника, бежавшего от городской культуры в дебри
варварской природы острова Таити...
«Сквозь Мечту» – так назвал Поль Гоген, этот взыскательный и непримиримый
фантазер, первую главу своей книги.
Сквозь Мечту!..
Но неужто же путь мечтательства, очарованных скитаний и прихотливо
291
фантастических странствий, неужто же путь этот лежит там, вдали, через океанийские
острова, – лежит не примиренным с городской) Европой?
Неужто же действительно в городе не стало больше цветов?
Неужто в моторном канкане улицы, среди контор, казарм, кабаков, больниц и тюрем
смолкли весенние шелесты звонкопоющих душ, и Прекрасная Дама, лунная греза
поэта, растоптана на панелях городской проституткой?
И кто же прав из них – художник ли варвар, думавший оставить на берегах Европы
свою заледенелую в лучах электрического солнца душу и в фанатизме своем
бросившийся на путь далеких исканий будто бы потерянной нами тайны творческой
лжи, или художник дэнди, пустивший своего фанатика красоты в туманы лондонских
улиц?..
О, вы помните, еще так недавно бродил мечтатель по аллеям старых барских
усадьб, желтеющим осенней позолотой, – и не правда ли, царством его было царство
природы? И вот пришла эта шумно-блистательная городская культура, в стальной
паутине которой забилась недавно еще стихийная душа мира; что же сталось тогда с
мечтателем?
Он тоже перекочевал в город, и как странно было мечтателю в городе. Ведь он так
привык запрокидывать свои глаза в голубизну небес и в своей поэтической наивности
искал Прекрасную Даму в густолиственных чащах лесов и на берегах спокойно-
ласковых рек. И вдруг – сдавленность городских стен, судорожная поспешность,
истерическая деловитость улицы.
А вот мечтатель Достоевского одним из первых почувствовал себя как нельзя лучше
в городе; – он завязал какую-то необъяснимую дружбу с деловито бегущей улицей, он
вступил в таинственное общение с каменными мешками домов. Он познал поэзию
неприступных углов, мансард, где обитал, – углов, оторванных от мира, которые таятся
от дневного света и не знают солнечных лучей. Еще немного, и городской мечтатель
как улитка прирастет к городу, впитает в себя яд его, город сделает столицей своей и не
променяет ее на все великолепие царства природы.
Вот спускается он в закоптелые угарные подвалы городских кабаков и здесь, под
пьяные вульгарные звуки коверкливых органов, ищет уюта среди других отверженцев
улицы. И в такую-то обстановку попадает мечтатель и не попадает, а сам идет, идет по
собственному желанию, влекомый к дверям этого кабачка – кем? – Прекрасной Дамой,
грезой поэта.
Помните как у Блока в «Незнакомке» поэт тоскует в пьяном угаре: «Вы послушайте
только. Бродить по улицам, ловить отрывки незнакомых слов. Потом прийти вот сюда и
рассказать свою душу подставному лицу.
И среди огня взоров... возникнет внезапно, как бы расцветет под голубым снегом —
одно лицо: единственно прекрасный лик Незнакомки».
И медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями И в кольцах узкая рука.
И свою «Незнакомку» Блок приводит куда же? – да в городскую квартиру, быть
может даже в один из этажей городского небоскреба.
Звездная «странница по путям жизни, о которой тосковал мечтатель всех веков,
идет в большую гостиную комнату, ну, конечно же, ярко освещенную электрическими
лампами и, конечно, в общество молодых людей в безукоризненных смокингах, как
гласит ремарка блоковской пьесы.
292
Но ведь это все та же лесная фея, призывная спящая царевна; разве не ее прозрел
Поль Гоген в богине-дикарке с острова Таити, и разве не к ней, «к вечно безымянной,
странно так желанной, той, кого не знаю и узнать не рад», – стремится самый
современнейший из современных поэтов Игорь Северянин?
– Мечтатель сегодняшнего дня идет по путям новой фантастики и новых
странствований.
Маринетти, так прекрасно понявший душу городской культуры, презрительно
отмахнулся от всего не городского, от всего того, что лежит за городскими
шлагбаумами. Но Маринетти отдал искусство в услужение современной культуре; он
слишком прозаик и потому-то забыл о таинственных общениях души поэта с душою
мира, забыл о том, что мечтатель, прогуливаясь теперь по тротуарам города, трепет
свой несет все туда же – в хрустальные замки творческой фантазии...
И конечно, не с маринеттизмом, а с истинным футуризмом идет восторженная и
громоносная юность, идет средь болотных огней повседневности, великая в буйстве с
пламенными словами заклинаний:
И потрясающих утопий
Мы ждем, как розовых слонов!..
«Гнила культура, как рокфор...» – говорит Северянин, а там вдали лучится палевое
царство грез, но современный мечтатель не занавешивает окна своей комнаты от
уличных фонарей, не заглушает шума улицы, не зажигает сальную свечку в
сантиментальном испуге.
Через современность должен пронести он свою мечту и сквозь мечту должен
созерцать современность.
Мечтатель Блока спустился в угарный уличный кабачок, современный же мечтатель
тоскует в шантане:
Шампанского в лилию! Шампанского в лилию!..
И если блоковский поэт держал за рукав полового из кабачка в надежде, что хоть
этот приникнет к причудливым словам поэта о легко– вейной пляске вечерне-синего
снега, то не северянинский ли мечтатель изнывает пред нагло-накрашенной кокоткой
Зизи.
Бледный, сумеречный силуэт Незнакомки расцвечивается у Северянина яркостью
красок в двуликом образе Прекрасной Дамы сегодняшнего дня. И зовут эту
Прекрасную Даму: Демимонденкой и Лесофеей. Это она проходит в шумном платье
муаровом, это она несется на лан– долет по островам к зеленому пуанто. И ей поет
свою песнь двуликий поэт – наивный мечтатель в образе столичного дэнди.
И песнь пенная фантазмами шампанского – во имя той, которая в шумном платье
муаровом сменяется другой песнью, пахнущей лугами и травами, во славу Лесофеи. И
с грешно-алых губ поэта упадают нежные и молитвенные слова.
Царство холодных лучений и зеркальных отраженностей, царство парфюмерии и
судорог городских масок и поэзия, впитавшая в себя мотив шантанного напева,
ароматная утонченным запахом модных духов, пряная, как ликер Crиme de Violette. А
за всем этим бледное молитвенное лицо:
Зизи, Зизи! Тебе себя не жаль?
Не жаль себя бутончатой и кроткой? Иль может быть цела души скрижаль И лилия
не может быть кокоткой?..
Грядет механизированный человек, грядет бездушное машинное царство, которого
так алчет современность. Но мечтателю нечего становиться по рецепту маринеттизма
приспешником этого царства, точно так же как нечего бросаться под колеса
чудовищной машины технической культуры, дабы задержать ее всепобедное шествие.
Жива Прекрасная Дама! Жив мечтатель! И есть магические слова, преображающие
293
тусклый прозаизм будней в царство безразумных чудес, и
В будуаре тоскующей нарумяненной Нелли,
Где под пудрой молитвенник, а на ней Поль де Кок, —
есть еще, значит, молитвенник...
И в бессветности потерявших грани дней и ночей города пишется новое Евангелие
современного мечтательства.
Александр Редько ФАЗЫ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА
Игорь Северянин – Надсон. Мадагаскарская королева на автомобиле. —
Обнаглевшая бездарь . – Пустая душа
I
По ходячей молве Северянин представлялся свежим, юным счастливцем, только
вчера пришедшим в мир, чтобы дерзать.
Ныне эту ходячую молву разрушает не кто иной, как сам Северянин.
Соблазненный своей громкой известностью и возможностью предать тиснению и
восторженной оценке поклонниц и поклонников всякую строку, им когда-либо
написанную, автор «Ананасов в шампанском* приложил к сборнику особый отдел.
Здесь собраны давние стихотворения Северянина.
В отделе «Незабудок* собраны стихотворения Северянина, начиная с 1903 года. Как
видит читатель, Северянин совсем не такой ново– возникший поэт, как это
представляется по ходячей молве. Он работает, как стихотворец, уже 12 лет, хотя и стал
модной известностью чуть не вчера. Оказывается, что в пору действительной юности
Игорь Северянин совсем не напоминал Игоря Северянина, каким мы знаем его теперь.
Во многом – по тону душевных переживаний – он напоминал двенадцать лет тому назад
– кого бы вы думали? Можно биться об заклад, что ни одна из его поклонниц и ни один
из поклонников, столь бурно аплодирующих при его появлении на эстраде, не оскорбят
дерзновенного любителя ананасов в шампанском сравнением с Надсоном. Сам он
бранится этим именем.
И между тем, в его собственных старинных «незабудках* чисто Надсоновские
переживания. При другой стихотворной форме (во избе
жание недоразумений подчеркнем это) совершенные аналогичные настроения. Так
как это мало правдоподобно и «оскорбительно» для Игоря Северянина, то приведем
две справки из прошлого, поскольку оно освещено самим автором в отделе
«Незабудок».
Вот «Новогодняя элегия» Игоря Северянина, помеченная датой: 2 января 1908 года.
Наступивший «Новый Год» заставляет автора «проследить печальным оком
миновавшие года». Результат пережитого оказывается удручающе печальным. В
прошлом не оказалось ни одной сбывшейся надежды. Все было самообманом и
самообольщением. И вот вывод, к которому автор приходит:
Не ищи в унылой тундре Ароматных ярких роз, —
Не ищи любви и счастья В мире мук, в мире слез.
Но дождался – не дождешься,
Боль была и есть в груди...
Вот все, что было, и все, что будет. «Боль была и есть в груди». И вот все, чем Игорь
Северянин может поздравить человечество:
С новолетьем мира скорби —
С новой скорбью впереди!..
На что-нибудь другое, кроме скорби, по Игорю Северянину, рассчитывать не
приходится.
Разве автор этой «Новогодней элегии» не родной брат «господину Надсону», в свое
время тяжело и жалобно переживавшему бессилие личности и безнадежность жизни?
294
И настроение подавленности не исключение в отделе «Незабудок».
И теперь я плачу, плачу на коленях О погибших грезах,
Об измене мая.
Не нашел себе я счастья, —
Звуки горе мне напели:
Я боялся их недаром С безмятежной колыбели.
Тоска и неопределенные душевные позывы – вот основные настроения молодого
Игоря Северянина. И это продолжается не менее пяти лет: «Новогодняя элегия»,
написанная в 1908 году, не обнаруживает никаких изменений в настроении по
сравнению с 1913 годом. Все та же безнадежность искателя «любви и счастья в мире
муки, в мире слез».
Стихотворения «господина Надсона» тоже были безрадостны и унылы. Но они
были нужны своему времени, своим читателям. Они раскрывали читателям те чувства,
которыми они жили, не умея их сознавать. Поэтому безрадостные, унылые







