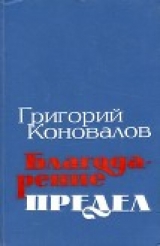
Текст книги "Благодарение. Предел"
Автор книги: Григорий Коновалов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 35 страниц)
Мефодий грозно блеснул глазами на Саурова, чтоб не быть смешным своей увядающей размягченностью:
– Врешь, джигит! Попроще… как бы не так. Будь я на твоем месте… за одну бы ночь перекинул мост на Ольгину сторону… сам бы лег через речку заместо моста: ездите по мне, я и этому рад…
– А прочен ли мост из тебя-то? – сказала Ольга. – Не верится.
– Так это я по старости начал выражаться словами Ивана… Я даже стихи запомнил. – Мефодий, видно боясь уронить себя стихами, произнес их нарочито громко, кривя губы:
Ведь не все, что я мог, то обмерил,
Ведь сбивался с пути, как слепой.
И остуженной совестью верил,
Что тебя уведу за собой…
Конечно, стихи стихами, – продолжал Мефодий, – самим вам не построить долговременный мост: половодье снесет… – Он расчетливо и хитро, поучительно и немного мстительно озабочивал молодых, чтобы не думали, будто жизнь только тем и занята, как бы поровнее выстелить перед ними радостную дорожку.
Знал он наверняка, что, несмотря на свою административную независимость от местных властей, райком различными способами убеждения, жалоб верхам принудит его строить мост (не этот овечье-лошадиный, а для тяжелого транспорта). «Пока юные деятели не поплакались там, надо мне заприходовать их капиталец, силенку, симпатию – тоже немаловажно! – прикидывал Мефодий, пока что в лад с ними раздумчиво горюнясь, покусывая травинки, как и они. – Дам воду или повременю – от меня зависит» – эти мысли, пусть малость демагогические, укрепляли Кулаткина в столкновениях с совхозскими – с Аникиным и Ахметом Туганом, а теперь вот и с молодыми. На всех он глядел как бы со стороны, глазами канальщика-благодетеля.
«Ну, братцы, напою и обмою, только выращивайте пшеницу стойкую, скотину нагульную!» Наверху доложил: к государственным ассигнованиям изыскал кое-что на месте… скрытые резервы нащупал. Канал его рубил две лесные полосы. В предвидении истошного вопля насторожившихся охранителей каждого деревца Мефодий сам подкинул им спасительную идею: давайте бережно (как учит партия!) пересадим дубки, черноклены вдоль канала, вроде бы крылато отогнем лесополосу. Получилось. И деньги, отпущенные областью на расплату за вырубку деревьев, повернул на строительство домиков для своих канальщиков…
– Ладно, Оля и Сила, помогу вам мост соорудить, только не тут, а чуток пониже… Хорошие вы люди, в долгу не останетесь… Убедите Ахмета и Аникина насчет моста-то… рабочих выделить…
Сауров воспринял задумку Мефодия, а Ольга, улавливая многозначительную затаенность матерого мужика, сдавалась нехотя, – казалось, опасливо ступала на будто бы уже соединивший берега мост, горбатый, как борзая в гоне.
– Поживем – увидим, – сказала она с упрямой рассудительностью. – Ты, Сила, не торопись. Поговорим с руководством.
Она встала, повела плечами, накидывая платок на голову. И сердце Мефодия сдвоило: такой вольной торжествующей женственности не замечал в ней прежде. И потому, что не для него эта осознавшая себя женственность и красота, Мефодий заробел пришибленно, униженно, брови наползли на глаза, и смотрел он с украдчивостью потерявшего все невозвратно.
А она и не замечала, кажется, что лицо его стало не его лицом – грубо наляпаны припепеленные скулы, и на этом неживом лице слепли от унизительного горя желто-перегорающие глаза.
Сразу видно, четыре ветра схлестнулись, туго свивая черный вихрь. Жмурясь от пыли, Мефодий залез в машину, отгородился стеклом от ветров и молодых: видеть видел их с трепетавшей на них одеждой, но уже из какого-то немыслимого далека, погасившего их голоса и смех.
Вышибло из борозды, качало и мучило его не то, что поняты были им их отношения, а то, что чисты были они, парень и женщина. И никаким злым воображением он и не пытался подчернить эту чистоту. Если прежде в его словах, что живет для молодого поколения, было немало головного, по-кулаткински наигранного, теперь и без этих приказенных слов он чувствовал всем своим потрусившим под уклон старения существом, что, что бы он ни строил, все это действительно для них. Ему-то лично если и нужно, то разве только как привычная усталь, духовное удоволивание и убеждение самого себя в недаром прожитой жизни…
«Да что я морочу себя? Могу! Все могу! А она? Что она? Не один я схватил руками воздух около нее – Ванька молод, стишками форсит, да и то полетел с кручи: вильнула лиса хвостом, а гончая-то собака и метнулась в пропасть».
Но мысли эти скорее были неприязнью к Ивану, чем утешением. Иван был и оставался для Мефодия Сынковым, непонятным, чужим до раздражения и тем не менее, кажется, неизбежным в жизни. Все самое неприятное, упорно живущее, самое тягостное было в Сынковых. Куда проще оказались отношения даже с Терентием Толмачевым, упорно сокращавшим жизнь отца с самой юности. Поварился в крутом щелочном кипении времени, прополоскался в быстрой воде, посушился на ветрах и стал хоть чуточку новым человеком, а что он временами запросто обходится (в рассуждениях) со Вселенной, вздыхает по своей молодости, так это не мешает ему шить отличную сбрую. Даже иве позволительно повздыхать по воде над высохшим прудом. Не потому ли и с Палагой все как-то враз обрушилось, осела пыль, и все утихло.
Не то получилось с Сынковыми…
XVII
В кои-то века собрался Мефодий Кулаткин посидеть на заре с удочкой, как сиживал в детстве, бывало. С вечера приготовил удочку (тоже как в детстве!): ветловое удилище, леску конопляной нитки (клубок остался от покойной Агнии), камышовый поплавок. И червей нарыл у верблюжьего озера. Проснулся на рассвете, сунул в карман пиджака корку хлеба, лугами заспешил к лодке. Ночью выпал дождь, и теперь от земли поднимались запахи трав, было свежо и влажно. Из каждой впадинки крылатился туман над лугами.
Только уселся на корме лодки, приткнутой носом к обрывчику, услышал за спиной: кто-то топтался на берегу.
– Рыбачишь? – По голосу узнал Филиппа. – А что, ежели сом?
Не оборачиваясь, Мефодий бросил:
– Не пугай рыбу.
В тишине слышно было, как старик усаживался, видно, всерьез и надолго. В тростнике сердито, с исступленной страстью, кричал дикий селезень, отыскивая спрятавшуюся от него утку с утятами. Ни за что ведь она, недавно любившаяся с ним, не отзовется, зная, что перебьет он малых утят… Поплевал Мефодий на наживку («ловись рыбка большая и малая!»), с давней навычкой закинул к лопухам кувшинок.
– А ежели, к примеру, кит клюнет? – озабоченно спросил Филипп.
– Да откуда же тут кит? – вразумительно, с досадой сказал Мефодий.
– Вот и я думаю, киту тут неловко: речка узкая. Да и как вытащишь? Леска лопнет.
Запахло дымком: Филипп разжег костерик из коровьего помета. Тень от дыма текуче отразилась в воде. Потом отразился баран, сдуру глядевший с кручи на Мефодия.
– Да как донесем-то его? Придется позвать тягача…
Мефодий молча обернулся побуревшим от крови лицом: так и есть, Сынков уселся у костра. Догадался Мефодий по блуждающей улыбке старика, что запала ему в голову какая-то непостижимая дурость. Отвернулся, подергивая удочку.
– Или придется топором рубить на куски…
– Да кого же, черт возьми?!
– Кита, кого же больше.
– Ну, дед, ты совсем съехал с круга. Какой же кит в пресной воде?
– То-то и оно, откуда тут киту быть? Разве что с перепугу от китобоев мог заскочить? Не только в пресную, а и в кипящую воду кинешься…
«Что ему надо? И сам, кажется, уж не знает», – думал Мефодий. Старик вызывал не только раздражение, но и жалость. Непонятно было Мефодию, почему Филипп не уходит на покой, – может, с дровами трудно? С кормом для коровы?
– Увидишь Токина, скажи: велел я привезти тебе машину дров… он знает каких. Года уж не те у вас с Аленой… Трудно по земле ходить, а?
– Какой уж я работник на земле… пыль и та слетает с ног…
– Иди, покуда я не передумал…
– А то что будет? – совсем по-детски спросил Филипп.
Он разулся, развесил на рогульки свои портянки. И уж больше не замечал Кулаткина. Покликал волкодава Битка и стал выбирать клещей из его ушей, кидая их в огонь.
Подошла к Филиппу его напарница Палага, развернула узелок. Пастухи сели завтракать. Мефодий наотмашь кинул удочку в камыш, развернул лодку и погреб домой. В детстве был бережливее: не бросал удочки, да еще с таким гневом.
Но гнев этот был мимолетен, как и непродолжительное желание посидеть с удочкой, по-детски отдаваясь рыбалке. В конторе треста Каналстроя ждали его дела: пришли новые рабочие, на одном участке экскаваторщики наткнулись на каменные глыбы, и их нужно было взрывать.
XVIII
Едва сошли снега, Филипп Сынков спозаранку вышел на просяное поле посбирать комковые кисти. Летось запоздало вызрело, тяжело полегло просо, каждая кисть – на целую кашу для самого гвардейского едуна. Ранние снегопады помешали убрать урожай.
В новых широких лаптях, норовя хозяйски ступать в межрядья, Филипп топтался по мокрой земле. Был он так легок, что почти не печатал следов.
Просо высушили на печи, обмолотили вальком напересменку с Аленой, кое-как обрушили. Уж очень хотелось занемогшей Алене пшенной каши с картошкой. Филипп не ел кашу.
С утра Алена потягивалась, поламывалась, однако на работу вышла, да еще пошутила, мол, «гуд в башке, в ногах ломота, а на людях быть охота». А к вечеру едва добрела до дома. В жару бормотала жалобную несуразицу, вроде ребенком себя считала. Завалило опухолью горло.
Врачи заглядывали в рот, наконец определили, что глотошная эта хворь приключилась с каши из плесневелого прошлогоднего проса и называется септической ангиной…
Присоветовали разные полоскания, грелки к ногам. Но немочь глотошная все злее разгоралась.
Долго маялась сильная баба Алена. С хрипом, мелко и часто дышала, не стеная, не жалуясь. Вылезающие из орбит глаза прикрывала рукавом кофты застенчиво.
– Дыхни глыбже… Аленушка, дыхни, и все наладится, – просил ее Филипп, стоя на коленях перед кроватью. – Дыхни, матушка…
Пальцы ее стыдливо метались над расстегнутой кофточкой, безуспешно просовывая пуговицы в петельки. И он, потупив взгляд, прикрыл рушником белую, молодую грудь ее.
Попросила соборовать ее. Позвали Терентия. Пахло от скорняка квасами и кожей. И руки были такие крепкие, жилистые, что, когда наложил ладонь на голову Алены, казалось, сломится она, хотя поддерживали ее две женщины. Но Терентий лишь едва касался ласково ее красивой, неподатливо седеющей головы. Прочитав молитву, которую знал нетвердо, на ходу вставляя свои слова, он велел женщинам положить Алену на подушки повыше, а самим уйти. Один на один, робея чужой тайны, принял исповедь своей сестры и соборовал ее.
Филипп с соседками – подругами Алены – ждал на кухне.
Доверием и братской любовью проникся он к Терентию: ему она исповедовалась в тайнах жизни, о которых никому больше не положено знать. И Филипп не узнает.
За неплотно прикрытой дверью были слышны доносившиеся из горницы голоса Терентия и Алены. Голоса эти были спокойные, и Филиппу вдруг поверилось, что жена встала на ноги.
И вспоминалось ему…
Шли по вешнему лугу бабы, щавель рвали… В расписных нарядах, белых передниках с голубыми и бордовыми полосками, на головах кики с рожками, монеты на грудях. Одна баба, Алена, позвала его у бересклетова куста отдохнуть. Сели. Она помахала платком на свою грудь – взъемная, двух ребят посади, третьему место останется. Алена пасла овец на соседнем отделении. Мужа ее задрала медведица. С затылка потянула лапой, содрала кожу с головы, глаза завесила. Таким и приполз к избушке с голым черепом. Алена натянула кожу, да жар начался у Митрия, и он скончался.
Потянули европейские туманы, полил дождь, и остались в избе вдвоем Алена и Филипп да конь в конюшне, корова в хлеву и собака в сенях.
Долгими зимними вечерами, доглядывая за окотом овец, веселя друг друга сказаниями, пошли они рожать детей, как бы спохватившись, что вот-вот и на убыль склонится сила…
Дверь приоткрылась, и Терентий разрешил войти в горницу.
Алена лежала на широкой лавке под образами. Руки с распухшими в ссадинах пальцами покоились на груди, глубоко запавшие глаза остановились на свече, горевшей в блюдечке в ногах.
– Прости меня, Ленушка, – попросил Филипп. – Господи, что она шепчет, не пойму.
Терентий склонился ухом к губам сестры.
– Сына просит, – сказал он, – Васютку.
– Да Вася-то… нетути его давно уж… Ну ладно, отделение-то далеко и слякотно, непроездно, – Филипп заметался по горнице, будто сбираясь в дорогу к сыну. Но Терентий остановил его:
– Прощайся с Аленой, отходит.
Терентий и бабы вышли на кухню, Филипп склонился над Аленой.
Брови ее пошевелились, глаза же по-прежнему недвижно смотрели на свечу. Пламя дрогнуло, вытянулось, оторвалось от свечи, потом соединилось, потом выше отлетело и погасло…
Неожиданная кончина не застигла Алену врасплох. Устояла она, получив похоронные на трех сыновей, и с задумчиво-грустной заботой приготовила все необходимое на смертный исход – льняное выбеленное покрывало, рубаху, башмачки, свечку.
Спокойная, с истончившимся похорошевшим лицом, лежала Алена в гробу на подушечке с сосновой стружкой…
Пахло богородской травой.
– Она еще в силе была, корову доила, на корточках сидя, а не как некоторые – на скамейке, – сказал Филипп.
Препоручив догляд за коровой и курами соседке, Филипп надел сапоги и шинель покойного сына, пошел за Иваном.
Снега сошли со всей степи, но сеять было еще не время. Едва уловимым пресным запахом проснувшейся зелени пахнул переливающийся над землей голубовато-тревожный воздух, звеневший голосами жаворонков.
По пути перехватил Филиппа Мефодий Кулаткин, посадил в свой вездеход. Пожаловался, что урожай совхоз плохо собирает, оставляет много.
– Кругом я виноват, Мефодий Елисеевич… Вот так в старости хватишься – виноват кругом.
– Так в чем же твоя вина, отец?
– Великая моя вина и горе мое неизбывное: старуху мою Алену Ерофеевну обкормил гнилым просом смертельно.
– Значит, не отказываешься, что собирал?
– Не собирался я травить, само нанесло.
– Не про то я. Что просо-то сбирал – не отнекиваешься?
– Совесть не велит отказываться – старухи-то нетути в живых. А выживи она, не сидел бы я в твоей машине. Ну, чего же стоим середь степи? Ваньку надо и Ольку тоже. Хоронить надо не мешкая. Хворь дурная.
– И сколько же насбирал, папаша?
– Фунтов двадцать будет. Необрушенной, с лузгой. А если чистого пшена, то меньше.
Мефодию неловко было оттого, что Сынков подробненько рассказывал, как еще зимой вынашивал, лежа на печи, планы набега на совхозное поле, как он втихомолку по зорьке пробрался на поле. По глупости или по глубокой моральной испорченности рассказывал. И хотя Мефодий не работал в совхозе, добро его блюл.
Никогда Филипп не хвастал, а теперь перед Мефодием задурил безудержно:
– Хочешь, я на одних потерях дом поставлю? Не буду воровать, а просто сбирать после уборки. Да что там дом, совхоз поставлю на ноги. За вами буду ходить и богатеть. Прямо на глазах. А если поручите отымать у воров…
– Вона какие мыслишки.
– Баба моя померла по оплошке моей. Ах, батюшки, горе-то какое, – уже самому себе говорил Филипп. В этой воняющей бензином машине он вдруг как-то по-особенному горестно осознал смерть своей старухи. – Вовсе не износилась, а померла. Ну, отпусти меня, Кулаткин, побегу я.
– Ладно, иди. Ответь только на один вопрос, и мы сейчас же махнем за Иваном. Олька чья дочь?
– А ты ее сам спроси, Кулаткин. Весь ты в своего отца – в душу лезешь.
– Я же по-хорошему.
– А что же держишь меня, как лиса колобка?
– Скажи все о нас. Тут никто не слышит. Степь.
– Степь-то все слышит, Мефодий Елисеевич. Даже думы улавливает степь. Олька наша дочь. Отпущай.
Филипп прибежал на могилку, когда гроб накрыли крышкой и стали забивать гвозди. Отстранил парня с молотком, поднял крышку, чуть отпрянул. Потом припал прямым сильным лбом ко лбу Алены.
– Прощай, скоро увидимся.
XIX
С пригорка, придерживая коня, Сила Сауров глядел, как лилово-осенний ветер косматил золотую солому распочатого омета на вспаханном черно-буром поле. Рабочие овцеводческого отделения свозили корма к зимним кошарам к Сулаку. Сила съехал с гребня в западину к омету, остановился у набитого соломой пароконного фургона. На сыто лоснящихся спинах лошадей тепло тулилось закатное солнце.
В затишье у омета Сила увидал Ольгу: расстелив на коленях салфетку с нарезанными помидорами и огурцами, она густо посыпала их солью и перцем.
– Хлеб да соль, – Сила снял шапку, кланяясь.
Ольга молчала.
Бывало, завидев статную фигуру его, Ольга вздрагивала, первые шаги делала нерешительно, потом смелее и, улыбаясь радостно и растерянно, устремлялась к нему с веселым доверием, вся открывалась, как цветок на сумеречный тихий дождь. И он жарко темнел глазами…
Давно было это. После того как он спас ее, она поостыла к нему сердцем. Всю зиму и все лето не пускала его к себе с твердостью человека, которому ничего не страшно, даже одиночество.
Теперь горькой была эта неожиданная встреча. Почему горькая, Ольга не знала. Казалось, теперь-то нечего стесняться ей – свободна, а он так всегда надеется, любит ее.
– Хлеб да соль, – повторил Сила.
– Едим, да свой, а ты так постой, – равнодушно и не сразу отозвалась Ольга.
Спешился в сторонке, срывал с низкорослого куста дикий терн, суховатый, терпкий, туго и кисло вяжущий рот. Конь положил морду на его плечо, хватал за ухо мокрыми губами.
– Иди, Сауров, подзакуси, уж так и быть. – Ольга подвинулась на соломе. – Не дует, тихо.
Ветер взбивал шуршащую солому на вершине омета, тут же отстоялась согретая солнцем тишина. Вокруг омета густо зеленела падалика пшеницы, сочная и яркая рядом с пашней – черной, с пересохшими корнями трав и стержней.
– Ну и наперчила-насолила!
– Привыкай. Зима настанет, чай, в гости заглянешь. Али стыдишься, спаситель? – голос ее звякнул с горькой злостью.
Сауров отодвинулся от еды.
– Ольга, никакой я не спаситель. И с тобой ничего особенного не было… И никто ничего не знает и не узнает…
– Да? Так говоришь, что верить начинаю тебе. – Ольга встала.
– Купалась ты, зацепилась за корягу. Я же рядом сидел с удочками… А насчет гостей зимой… А что? И приду… Ну вот, станет мне мелко в жизни, возьму и постою под твоим окном…
– Ну это ты без серьеза… А то ведь могу по глупости поверить.
– Да я бы… – занес руку над ее головой, норовя выбрать из волос соломинки, улыбнулся на то, как она зажмурилась, пятясь.
– Ну, Сила, с тобой, как с малолетним, нельзя пошутить… Корма запас на зиму для своих лошадей?
– Запас, у тебя взаймы не попрошу.
– Да я не дам, если и попросишь.
– Знаю, хозяйка ты прижимистая.
– А это мое татарское дело… Помоги-ка лучше навить воз.
Подавал он с омета большие навильники, она уминала сильными ногами, разыгравшись, пошумливала: «Мало! Еще!»
Обчесав граблями воз, Сила стоял, глядя снизу на Ольгу, подняв руки, манил спуститься на землю, когда подъехал на фургоне Иван Сынков за соломой для личного скота деда Филиппа.
С первого взгляда понял Иван, что его появление ничего не прибавило и не убавило в ее сердце. В горячо и светло улыбающихся глазах ее играла полная сил вольность и вызывающая решимость жить по-своему. Была она в этой решимости недоступна ни чужому гневу, ни чужой власти, ни чужой мольбе. Разобрала вожжи, махнула кнутом, и кони ходко двинулись к дороге. Парни проводили Ольгу долгим взглядом.
– И зимой будете рыть канал? – спросил Сила Ивана. – Земля-то промерзнет.
– Земля – не люди, промерзает не на всю глубину… да и отходит потом…
Иван уклонился от помощи Силы, и тот, как бы разрывая незримые тяжи, привязавшие его к земле, с усилием сел на коня, и конь сам зашагал на стонущий топот конского табуна за гребнем.
XX
Дед Филипп молился на коленях перед медным складнем, когда Иван вернулся домой. Молитва была тиха и светла.
– День всеобщего поминовения усопших. Помолюсь, тогда и исть будем, – сказал он.
Иван зашел в свою комнатку и стал вспоминать мать. И все устроеннее становилось у него на душе. Хотел он уйти и от Ольги, но будто бы совесть удерживала, кинулась под ноги, как покидаемая сирота, – не перешагнуть, не вильнуть в сторону. Можешь – стопчи, только заодно вынешь из себя душу.
«Не суждено тебе избавиться от нее. Пойми это и приблизься к ней только с помыслом одним: как не мешать ей своей любовью», – будто бы так сказал ему голос матери.
И повеселел он тихим сумеречным весельем перед непочатой жатвой вызревшего поля. И верилось в бесконечную добрую работу на всю жизнь. И сладостно было от сознания своей нужности, от примиряющей со своей жизнью и людьми усталости и светло-осенней печали. И руки и ноги стали легки, как листья.
«Не мешай ей даже тенью своею, шорохом шагов, а приблизься неслышно, как утро, как ветер», – повторил голос матери.
Но что-то в нем воспротивилось матери, отцу и деду.
«Деда, не в пору ли душевной усталости явился Христос, мол, надо примирить небо с землей… Ценою страдания и жертв, а? Но я не скажу тебе, дедушка, этих слов. Не хочу быть праведным на другой манер… Не жестока ли она тем, что укоряет людей, будит в них тоску и гнев? Почему снова и снова тревожит меня мой отец, которого ты сейчас поминаешь в своих молитвах? Чем-то он раздражал нормальных людей, уж не своей ли особенностью и кротостью? – думал Иван, ложась спать после ужина. – Но я сын ваш, кровь ваша, и как мне стать самим собою, не отрекаясь от вас?»
Ранние опалили морозы нагую землю, высветлили звонко-прозрачную даль. Утром в чистом поле под низким тихим домашним небом первый снег не измят ни шагом, ни взглядом. Ненадолго пал на землю этот белый снег.
Под вечер небо вздыбилось волчьей шерстью, запальным теплом дохнуло на всю широту меж Железной и Беркутиной горами. В ночь забуранило густо, будто снеговая река наискось хлынула на землю…
Тяжелы были плечи и руки Ивана, ноги в сапогах трудно месили снег. Помыслы были терпки, и обиды застарелые, заскорузлые. Родившееся в душе лишь в минуту редкого счастливого саморастворения чувство умерло, будто выгорело, и осталась щелка. Через нее-то и свистел сквозняк…
Иван стоял среди поля, тоска водила его взглядом по всем четырем сторонам. По первопутку ехали на санях парни из Татарского Сыромяса.
– Что, Ванька, сиротой стоишь? Айда с нами.
Повалился он в розвальни на сено. Попали они на свадьбу: татарин брал русскую. Неделю шла гулянка, и Иван не отставал. Потом оказался в Дракине у мордвы. И тут гулял. За соломатом и вином поспорили, у кого больше упрямства.
– Поперешнее нас, мордвы, нету, – сказал приятель, пододвигая к Ивану сковородку с залитым маслом соломатом.
– А я, может, упрямее даже украинца вон того. Вот сейчас в буран схожу за морожеными пельменями к Ольке, – сказал Иван.
– Далеко, не дойдешь.
– Увидите.
Нашли его проезжие в снегу на горе. Разбудили деда Филиппа, занесли Ивана на кухню. И начали в шесть рук растирать, а он все еще бессмысленно раскосил глаза.
В жару он видел себя ребенком и Ольгу ребенком видел. Дед Филипп обул в новые лапти его, Ольгу, Настю и Клаву, и они радовались…
Дед вернулся с полей, а Иван с девчонками попрятались – ведь так и подмывало на игру.
– Где же мои внук и внучки? – озабоченно спрашивал дед Филя бабку Алену.
– Да они ушли на гору, тебя встречать, а то, глядишь, пашут поле, тебе помогают. Они ох как любят работать, – говорила бабушка, указывая глазами деду на ситцевую занавеску чуланчика, где спрятались внуки.
– Ах ты, господи! Дожили мы, старуха, внуки работают… То-то радости!
– А ну как их волчишка тама напужает. Поехал бы в поле.
– Да и то, пойти надо разыскать…
Тут-то Иван и девчонки, распахнув занавеску, вылетали, вцеплялись в полы дедова кафтана. И одаривал Филя их диким миндалем, корочками засухаренного солнцем хлеба…
Выплывали из глубин души детской памятью меченные подробности: поля, изба, небо, лица стариков. И виделся в детстве незыблемый порядок, и было неизбежное счастье, как неизбежное чередование времен года.
А потом – сам пропаще поглупел, изнахалился с каким-то надрывом и где-то невозвратно обронил свою душу, пошел по жизни с голой вертучей мыслью, жестокий по навычке, а не по природе, равнодушный, дико самоуверенный в том, что вот-вот и откроется ему тайна, никому до сих пор не ведомая.
И когда на всю холодно-прозрачную плоскость открылся этот самообман, Иван бился душой об острые грани развороченной, обедневшей (без вымысла-то!) своей жизни…
Никогда ни наяву, ни во сне не видел он ничего более унылого и ненужного, чем его жизнь, развороченная и враз обедневшая до бессмыслицы. И он плакал без слез, потому что в жару весь иссох.
Зимовавшие в садах и лесах снегири, свиристели начали покидать пределы Ташлы. Оклемался Иван, когда появились первые зеленушки, зяблики розовогрудые запели звонкую трехколенную песню.
В листвень месяц из голубых просторов степей ровно тянул тепло-свежий ветер, пахнул он молодыми травами. Иногда выхлынет из оврага холодком недотаявшего снега – зернистого, спрессованного.
И опять доносил ветер запахи кочетков, молодой травы, теплой земли вместе с ржанием кормящих кобылиц – грелись со своими жеребятами на солнечном склоне. Печатали копытцами у ручья следы, а те, что повзрослев, били копытом по воде…
Никогда прежде Ольга не видела Ивана столь простым, открытым, как сейчас в его хвори. Слетела с потоньшавшего лица загорелость, просветлело лицо изнутри. Голос ровный, обнизился. Простота-то эта и позволила Ольге спросить прямо, не прибегая к уловкам, что ему хочется.
Заранее примирялась Ольга с тем, что Иван заговорит о совместной жизни; теперь, кажется, хватило бы у нее необидной жалости и доброты начать потихоньку семейную жизнь с Иваном, заодно взять под крыло старика Филиппа. Немного грустно, но честно и благородно получится. Она глянула в испитое лицо Ивана, помягче спросила:
– Ну?
– Ты о чем? А-а-а, извини, задумался. Говоришь, чего хочется? На гору подняться, осмотреться оттуда.
Обуваясь, тянул за ушки голенища сапог; лоб вспотел.
Чекмень обвис на усохшем теле Ивана. Он оттянул пояс, смущенно поморщился, потом махнул рукой, и в жесте этом было такое понимание того, что с ним происходит, что Ольга вздрогнула, будто оступилась. И далеко-далеко отошла душой от него.
Он надел шапку, щурясь на ярко сиявшее майское солнце, и на какое-то мгновение в сощуре этом проглянула былая душа. И Ольга, пряча глаза, вышла во двор. Успокоившись, она оседлала Рыжуху. Иван уже вдел носок сапога в стремя, оглянулся на Ольгу, и та подставила сцепленные в пальцах руки под правую ногу Ивана. И вроде бы не заметила его смущения. И сама была довольна собой.
На крутую красную гору лошадь подымалась рывками, и он, чувствуя напряженное движение сильных мускулов ее, сам помогал ей, вовремя клонясь вперед.
На макушке горы, ровной, как стол, он повернул лошадь головой к овечьему стаду и, когда она успокоилась, поняв его намерение, стал вглядываться в стадо овец.
От их клубящегося движения зарябило в глазах, и он, сомлев, склонился лицом к холке лошади. Сомлелость эта была недолгой, и он опять выпрямился, вяло помахал рукой чабанам.
Волкодав Биток первым подошел к нему, перенюхался с лошадью и, виляя хвостом сдержанно, с чувством собственного собачьего достоинства, погавкал, сманивая Ивана на землю.
«Ну, что остекленел глазами-то? Слазь в траву, сейчас вон чабаны идут с едой и кумысом», – говорили старые умные глаза собаки.
И чабаны пришли, раскинули кошму, на скатерке нарезали хлеб, положили горного дикого луку.
С того часу и остался Иван при овцах, чтобы поближе к дедушке Филиппу быть.
XXI
Камень-песчаник, метр шириной, полметра толщиною и пять высотою, ровный, как грифельная доска, был вырублен Иваном в каменоломне. На санях из бревен тягачом привезли его на гору.
Там, на горе, ранней зарею товарищи уже вырыли глубокую яму. Поставили камень концом в яму, выровняли в стойке, засыпали землей вперемешку со щебенкой, утрамбовали.
– Я тут зимой чуток не погиб: заблудился. Пусть другие не плутают. Метели-то у нас вона какие белые, как беспамятство Как бы вроде исчезаешь в белой бездне, в ничто превращаешься, – сказал Иван с той кроткой глушинкой в голосе, которая навсегда обжилась в нем после хвори.
Сила советовал высечь на камне чей-нибудь лик, хотя бы деда Филиппа.
Иван долго думал.
– Не годится этот камень: всего две грани, а с боков узкий. Для стариков нужно много граней, чтоб в разных выражениях изобразить. Это нас можно чеканить с одного бока – хватит…
Песок поземкой вился у камня, навьюжил барханчики в отишье, заносил потолченный каблуками острец. От мимолетного дождя ветер сложил мокрые крылья. Прозрачно и свежо заголубел заревой воздух в степи; овцы рассыпались по зеленому пригорку. Внизу на дороге остановились машины. Вылезли люди на свежий воздух. Это руководство двух совхозов прощалось на границе земель. При Ахмете Тугане узаконился обычай встречи и проводов гостей.
Думал Иван, что земля трудная, а жить на ней – все-таки счастье. Тесно вместе, но просторно в душе. А вот в одиночку внешнего простора больше, зато в душе все уже и ниже.
Казалось ему, что теперь он иначе понимает стариков. Для них важнее всего было – крыша над головой, накормить, одеть род людской. Ну конечно, вера гордая в правоту дела – братство не за горами. Возможно, не каждый допускал, что люди будут неравносильны духом… Для меня, для Силы заработок – не первая забота. Кто ты и куда летит твоя мысль? Чем томится и чему радуется душа?
Дух человека разлит всюду. Женщины стригут овец, мужчины подымают черный пар. Восход не потому ли и памятен, значителен чем-то, что омывает усталое от бессонных ночей запыленное лицо Афони Ерзеева?
Спят пахари вповалку на брезенте, и мне хорошо с ними, пусть один тяжело стонет, другой в обе ноздри храпит в лад поющим птицам. С холма видно, как коровы мережат к каналу тропы. И земля вся в ложбинках, налитых тенями утра. И казалось Ивану, что чует он землю и людей… Этот татарин русяв по-северному, у этого русского кривосабельный изгиб бровей… Одна заря пластает над ними крылья. Не в вас ли тайна, которая ищет меня, а я ищу ее?
Не потому ли мне жить-доживать, изживать себя, что родился? Ведь была же какая-то цель родиться мне именно в это время и для этого времени. Ведь и рыба мечет икру на теплых отмелях, птица кладет яйца в свое гнездо. Воде течь, траве колыхаться, дереву покачиваться на ветру, ребенку прыгать, птицам летать.
Почему же во мне так затяжливо оседает соль на душу? И это жизнь. Не нарушил бы жизнь, не раздергался бы – ведь так много дорог, людей, обстоятельств…
Однако дороги эти – хоть и немаловажное, заманчивое, но внешнее. Куда больше троп с властным зазывом довериться им в нем самом, они извилюжили всю душу. И еще в душе – теснота, неодолимость чего-то. Не напрасно ведь, не по наущению со стороны глядишь в самого себя, пытая, кто ты и для чего на земле. Об этом не спросишь людей, хотя без них нет жизни, для них пасешь овец. Людям дано утешить тебя словами или, норовя помочь, помять душу, но они вовсе не отвечают, что душа тебе дана такая вот, а не иная. Возможно, по наследству перенял ты душу отца, а тому она попала от деда и прадеда. Иначе, чем объяснить твою какую-то странную памятливость вроде бы о том, что с тобой было сотни лет назад?








