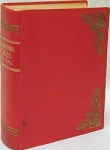Текст книги "При дворе императрицы Елизаветы Петровны"
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 52 страниц)
– Боже мой, как же так, ваше величество! Послать уполномоченного в Голштинию теперь, когда, согласно обнадёживающим словам его императорского высочества, быть может, скоро состоится соглашение об уступке Голштинии моему высокому государю?
При этом неуместном, недипломатичном вмешательстве Екатерина Алексеевна бросила торжествующий взгляд стоявшему против неё Уильямсу, и тот ответил ей лёгким кивком и тонкой усмешкой.
Императрица на слова Линара ответила вежливо, но очень твёрдо и решительно:
– Если мой племянник, при полном моём одобрении, решил произвести реформы в своём герцогстве и с этой целью посылает в Голштинию своего уполномоченного барона Ревентлова, то, очевидно, переговоры, ради которых вы, граф, явились сюда, не могут продолжаться далее и ваше присутствие здесь, одинаково приятное как моему племяннику, так и мне, может послужить лишь к выяснению спорных вопросов, возникших между Данией и Голштинией относительно пограничных владений, и, я не сомневаюсь, вы постараетесь разрешить эти вопросы и устранить все недоразумения.
Она слегка поклонилась графу Линару, давая тем понять, что для неё этот вопрос исчерпан.
Граф Линар отступил смущённый и смотрел кругом с растерянным видом. Он не мог сообразить, что его миссия, предпринятая так удачно, вдруг неожиданно потерпела крушение.
Между тем на лице великого князя не было и тени неудовольствия. Он радостно улыбался и кивал в знак полнейшего одобрения слов своей царственной тётки. Будучи по природе безвольным, нерешительным, он почувствовал, как гора свалилась с плеч, когда императрица своим решением положила конец его душевной борьбе между чувством дворянина, дорожащего своим родовым владением, и соблазном приобрести значительную денежную сумму.
– Всё готово, – продолжала императрица, – молодые супруги могут проститься с нами и отправиться в путь. Запутанные дела Голштинии требуют скорейшего вмешательства герцогского уполномоченного.
Она милостиво протянула руку фон Ревентлову, и тот приложился к ней губами.
Пётр Фёдорович тоже подошёл к Ревентлову и, ласково похлопав его по плечу, сказал:
– Поезжайте, поезжайте сейчас! Поздравляю вас с молодой женой. Мою доверенность и инструкции вам перешлёт Пехлин. Сообщите мне в скором времени, как нашли вы там положение дел.
– И позаботьтесь, – сказала великая княгиня, также подошедшая к Ревентлову, – чтобы Элендсгейму не было причинено несправедливой обиды.
Барон Ревентлов обменялся взглядом с княгиней Гагариной, холодно простился с Иваном Ивановичем Шуваловым и вышел вместе с Анной.
– Полковник Бекетов, – позвала Елизавета Петровна тоном строгого военного приказа.
Полковник подошёл.
– Я простила вам упущение по службе, – продолжала государыня. – Благодарите Бога, смягчившего моё сердце! Но я не могу оставить при себе адъютанта, оказавшегося недостойным возложенного на него доверия. Вы переводитесь в армию в чине, соответствующем вашему званию полковника моей гвардии. Местом вашей службы я назначаю город Самару. Вы отправитесь туда немедленно, а дальнейшие распоряжения получите через местного губернатора. Сани поданы.
Сделав едва заметное движение головой, она холодно отвернулась от Бекетова. Клара, мало смущённая таким немилостивым отпуском, сияя от счастья, взяла мужа под руку и увела его. Елизавета Петровна уже решила пройтись, по обыкновению, среди своих придворных, как вдруг её взгляд остановился на Брокдорфе, который хотя и терзался завистью к участи, выпавшей на долю Ревентлова, но всё же был счастлив, что гроза миновала, не задев его, и, весело улыбаясь, стоял в первом ряду великокняжеской свиты.
– А, господин Брокдорф, – сказала государыня, гневно сдвинув брови, хотя костюм камергера, сиявшего всеми цветами радуги, вызывал у неё невольную улыбку, – вы сделали бы лучше, если бы скрылись, а не старались попасться мне на глаза. С каких это пор разрешено в моей столице похищать молодых девушек?
Брокдорф побледнел как смерть, он с ужасом смотрел то на императрицу, то на Ивана Шувалова, который мерил его надменным взглядом.
– Ваше величество, я прошу у вас милосердия, – пробормотал Брокдорф, – если бы я мог подозревать, что совершу что-нибудь неугодное вашему величеству... я делал только то, что было мне приказано его высокопревосходительством...
– Барон, я очень мало склонен ходатайствовать за вас перед её величеством, – вставил обер-камергер, грозно насупив брови, – если вы осмелитесь вмешивать меня в дела, противоречащие законам страны.
Императрицу, казалось, сильно забавлял испуг Брокдорфа, и ей захотелось ещё больше напугать его; она сдвинула брови и, стараясь принять суровый вид, сказала:
– Да, да, барон, не пытайтесь защищаться. Хотя дело закончилось благополучно, но всё же насильно увозить девушку в Петербурге – шутка плохая, и, если бы Евреинов потребовал вашего наказания...
Брокдорф с отчаянием взглянул на Ивана Шувалова. Казалось, он ждал от вельможи поддержки и помощи, но взамен этого увидел его равнодушную и насмешливую улыбку. Тогда до крайности взволнованный и рассерженный барон пришёл в ярость и с видом кошки, прижатой к стене и в отчаянии готовой броситься на своего мучителя, произнёс шипящим тоном:
– Почему же я один должен отвечать за дело, которое другим принесло только почёт и награду? Если вы, ваше величество, окажете милость выслушать меня, то я расскажу всё, как было, и вы, ваше величество, увидите, что я не заслуживаю вашего гнева.
Иван Иванович Шувалов отвернулся от злобного взгляда Брокдорфа и, обращаясь к государыне, сказал:
– А всё же, ваше величество, я прошу у вас милости для этого господина. Что бы он ни сделал, что бы ни сказал, его винить нельзя: вы, ваше величество, видите, насколько он глуп.
Брокдорф выпрямился во весь свой рост, опёрся рукой на эфес шпаги и посмотрел на графа вызывающе.
– Посмотрите, ваше величество, на его фигуру, на дикий этот парик, – продолжал Шувалов, – всем известно, что у него не хватает винтиков, но распространять нелепую клевету он, пожалуй, сумеет.
Елизавета Петровна на момент потупила свой взор, но затем улыбнулась Брокдорфу и сказала почти повелительно:
– Да, вы правы, Иван Иванович, он – чудак. Пусть всё будет погребено и прощено! На этом делу конец.
– Я знаю, что говорю, – воскликнул Брокдорф вне себя, – ваше величество, вы убедитесь сами.
Но Елизавета Петровна повернулась к нему спиной. В тот же момент Лев Нарышкин быстро подскочил к Брокдорфу, сбил его медный парик и, громко рассмеявшись, сказал:
– Молчите, молчите! Хотя за вами все права и преимущества говорить глупости, но нельзя же говорить их так громко в присутствии императрицы.
– Как вы смеете? – воскликнул Брокдорф. – Мы после поговорим с вами, вы ответите мне за это!
– Мы можем расстрелять друг друга из пушек вашей крепости, – сказал Лев Нарышкин, хлопая по плечу барона.
– Умоляю вас, ваше высочество, оказать мне помощь, – воскликнул в отчаянии Брокдорф, простирая руки к великому князю, который как раз в это время проходил мимо, следуя за государыней.
Пётр Фёдорович остановился перед несчастным Брокдорфом, но искажённое отчаянием лицо камергера было так комично, что великий князь громко расхохотался.
– Он помешался, – сказала подошедшая в это время княгиня Гагарина, – я уже не раз замечала у него припадки умопомешательства, и, по моему мнению, его не стоит слушать. Государыня права...
– Её величество ожидает нас к столу, – проговорила Екатерина Алексеевна, которая стояла в некотором отдалении и разговаривала с Уильямсом.
Она взяла под руку великого князя и повела его, а Пётр Фёдорович, продолжая смеяться, всё ещё кивал головою Брокдорфу, в то время как княгиня Гагарина, бросив уничтожающий взор на камергера, поспешила за императрицей.
– Ну, друг мой, – сказал Нарышкин барону, – теперь всё кончено, и мы выяснили всё друг про друга. Я люблю весёлые шутки. Пойдём сядем в соседней комнате, нам, я думаю, где-нибудь накроют стол, и посмотрим, сумеете ли вы развлечь нас чем-нибудь, кроме тех гримас и диких взглядов, которые мы уже видели.
– Оставьте меня! – воскликнул Брокдорф. – Оставьте, мне не до ваших дурацких шуток. Пустите меня, я должен пойти к императрице, она выслушает меня!
Несколько молодых людей окружили Брокдорфа и загородили ему дорогу, а Лев Нарышкин подошёл к нему и, уперши палец ему в грудь, проговорил серьёзным тоном, заставившим Брокдорфа сделаться внимательным:
– Выслушайте меня, барон! Вы хотите пойти к императрице, чтобы сказать ей что-то. Так выслушайте сперва маленькую историю, которую я расскажу вам. Когда-то при этом дворе был граф Кайсаров, который был несравненно умнее и отважнее, чем вы. Он как-то раз оказался впутанным в заговор, не знаю хорошо, в какой именно, но достаточно сказать, что это участие грозило ему ссылкой на каторжные работы, а может быть, и смертью. Но императрица по какой-то тоже неизвестной причине не захотела наказать его и сказала: «Кайсарова нельзя считать ответственным за свои поступки, он – дурак и сумасшедший». Граф же не захотел, чтобы его считали дураком. Он затеял какую-то историю, и слух о ней достиг государыни. Тогда его схватили и посадили в тюрьму. Там ему дали попробовать, как сладко живётся каторжникам, а затем комендант крепости от имени императрицы сказал ему, что если он признает себя дураком, то его отпустят на свободу, если же он ещё будет настаивать на том, что он вполне владеет умственными способностями, тогда ему придётся отбыть полностью срок наказания. Граф согласился на первое, его отпустили на свободу, и он снова явился ко двору. С этих пор он никогда не пытался утверждать, что он в здравом уме, но был очень занятным дураком, и даже высшие сановники не могли обижаться на его остроты. Он умер несколько лет тому назад, – продолжал Нарышкин, – и жало его насмешки могло безнаказанно уязвлять даже самое императрицу. Теперь её величество, вероятно, находит, что при дворе стало не так весело с тех пор, как умер Кайсаров. Судя по всему, она хочет дать вам вакантное место графа, если не желает наказывать вас за ваш проступок и называет вас глупцом и чудаком, – сказал Нарышкин и отступил, давая дорогу Брокдорфу. – Теперь, барон, вы можете смело выбирать.
Брокдорф стоял молча, с побелевшими губами, и даже сделал испуганное движение, когда Нарышкин жестом указал ему дорогу в тронный зал. Потом он свесил свою тяжёлую голову на грудь и погрузился в глубокое раздумье.
– Ну, барон, – сказал Нарышкин, – я вижу, вы, кажется, хотите послушаться моего совета. Итак, господа, – обратился он к остальным присутствующим, – возьмём его с собою и посмотрим, есть ли в нём частица дурацкого ума Кайсарова.
Молодые люди повели Брокдорфа с собою в одну из боковых галерей, где был накрыт стол, за который тотчас все сели, и начали обильно подливать Брокдорфу в бокал шампанского, стараясь развеселить его шутками и остротами; он отзывался на них сперва неохотно, но затем, когда вино стало шуметь у него в голове, стал отвечать всё смелее и смелее, и хотя его шутки не всегда были остроумны, зато в них было достаточно терпкости и смелости. Спустя некоторое время Брокдорф сидел совершенно опьяневший среди весёлой компании. Его металлический парик съехал на сторону, и один уже вид его комичного лица вызывал бурю смеха среди молодёжи; последняя беспрестанно поднимала бокалы за здоровье императрицы, давшей им нового придворного шута, который смог всех развеселить.
В то время как ужин императрицы весело приближался к концу, двое элегантных, удобных саней-кибиток, эскортируемых казаками, направлялись к двум противоположным заставам Петербурга. В одной из этих кибиток сидели полковник Бекетов и Клара Рейфенштейн. Молодой человек, закутавшись в шубу, по временам пугливо вздрагивал. Клара казалась немного разочарованной, что Бекетов смотрел чаще в окно кибитки, чем на неё, тем более что на дворе стояла ночь и, кроме покрытых снегом улиц, нельзя было ничего разглядеть. Наконец она проговорила:
– Я должна вам заметить, что вы были гораздо любезнее во время нашей первой встречи на Неве, несмотря на то, что в то время вы были маленьким кадетом. Теперь же вы – полковник гвардии, что равняется армейскому генералу, и, кроме того, мы сидим в удобных, красивых санях, а самое главное, мы уже – муж и жена. Тем не менее вы совсем не глядите на меня, больше интересуетесь снегом. Неужели необходимо находиться вдали от вас, чтобы вы захотели видеть меня? Может быть, лучше будет повернуть назад и просить императрицу, чтобы она снова разъединила нас?..
– К императрице? – в испуге вскрикнул Бекетов. – Нет! Только не к ней! – Он обернулся и увидел прекрасное лицо Клары. – Да, да, – проговорил он задумчиво. – А ведь и правда... Всё устроилось самым удивительным образом, и если бы всё это было тогда, то я считал бы это огромным для себя счастьем...
– Считал бы счастьем? – воскликнула Клара, гневно сверкнув глазами.
– Нет, это и теперь счастье, огромное счастье! – проговорил Бекетов, беря её руку. – Не станем смотреть назад, будем лучше смотреть вперёд! – Он нагнулся к жене и поцеловал.
В других санях, которые направлялись в Германию, сидели Ревентлов и Анна. Барон не выглядывал, подобно Бекетову, из окна. Его глаза с упоением смотрели на прелестное личико Анны, которая нежно положила ему на грудь свою головку; он пылко целовал её тяжёлые косы и тихо нашёптывал ей слова любви.
ЭПИЛОГ
Прошли месяцы, и после краткого, но необычайно жаркого лета, во время которого двор с государыней совершил путешествие в Москву, снова над Петербургом пронёсся северо-восточный ветер, предвещающий наступление зимы с её морозами, снегом, маскарадами, балами и праздниками. Двор переехал в Царское Село и вёл довольно однообразный образ жизни, так как императрица всё чаще и чаще занималась теперь благочестивыми размышлениями и почти ежедневно приглашала к себе отца Филарета, в сильных и умных речах которого она находила большое утешение, не забывая в то же время угощать монаха самыми изысканными обедами и завтраками. Отец Филарет воздавал должное дарам гостеприимства императрицы, и Анна Семёновна, а также и другая камер-фрау с удивлением следили, как красноречивый монах, продолжая наставлять государыню в вере, поглощал с аппетитом блюда, которые ему подавали в одну из удалённых комнат. Время от времени отец Филарет отправлялся в Шлиссельбург и навещал там заключённого Иоанна Антоновича, после чего возвращался во дворец и во всём отчитывался императрице.
Эти отчёты почти не отличались друг от друга; Иоанн Антонович пребывал в полном покое; он радостно сообщал отцу Филарету, что к нему спускается архангел Гавриил и что он, благодаря этому архангелу, может беседовать с Надеждой, которая даже иногда будто бы посещает его келью. Это спокойное состояние нарушалось только в тех случаях, если кто-нибудь неожиданно мешал несчастному узнику в его беседах с архангелом или когда его старались уверить, что всё это – плод его воображения.
Императрица всегда молча выслушивала сообщения отца Филарета и тихо плакала, молясь на коленях перед образом святого Александра Невского.
К великой княгине государыня всё это время относилась с особенной любезностью. Она ежедневно посылала к ней доктора Бургава и требовала от Чоглоковой самых подробных сведений о том, как проводит время Екатерина Алексеевна. Эта материнская заботливость часто была истинным гнетом для последней, так как государыня не только предписывала ей соблюдать строгую диету, но даже запрещала верховую езду, которую та страстно любила.
Иван Иванович Шувалов находился теперь на вершине фавора; он обладал при дворе неограниченной властью, всем и каждому давал чувствовать её и только к политике относился безразлично. Он даже не взглянул на заключённый против его воли и желания договор с Англией, не беседовал о политических делах ни с кем из иностранных дипломатов и по отношению к канцлеру Бестужеву держался холодно-вежливо, не ставя ему, однако, никаких препятствий.
Со своей стороны, граф Бестужев тоже как бы устранился от дел. Он редко появлялся при дворе, а все его друзья, точно по уговору, каждый раз, когда разговор заходил о политике, в один голос утверждали, что Россия после заключения союза с Англией занимает завидное место в Европе и может спокойно смотреть в лицо будущему.
Уильямс время от времени виделся с графом Бестужевым, чтобы напомнить ему об исполнении принятого им решения стянуть войска к границе. Старый канцлер обещал английскому дипломату сделать всё, от него зависящее, и заявлял, кроме того, что в этом отношении уже очень многое сделано; тем не менее он ничего не говорил об этом ни Ивану Ивановичу Шувалову, ни его брату Петру, так как отлично знал, что вспомогательный корпус, который должен был двинуться в поход, согласно договору, далеко не приведён в бежевое состояние и что ни Иван, ни Пётр Шуваловы ничего не сделают в этом направлении. Бестужев на основании этого прибегал к давно испытанному среде гну бесконечного откладывания и пустых обещаний.
Однако, к его великому удивлению, сам английский дипломат не особенно настаивал на выполнении условий. При свиданиях Уильямс казался весьма довольным и только подчёркивал необходимость того, чтобы во всех случаях Россия и Англия держались одинаковой политики.
Великокняжеский двор тоже не производил отрадного впечатления. Екатерина Алексеевна всё чаще и чаще искала уединения, страстно предаваясь серьёзному чтению, причём Чоглокова из злорадной надсмотрщицы мало-помалу превратилась в её преданную подругу. Великий князь, несмотря на то что нежность к супруге уже давно исчезла, тем не менее относился к ней с предупредительным вниманием, молчаливо признавая её умственное превосходство и прибегая к ней за советом при всяком важном случае. В обычное же время Пётр Фёдорович по-прежнему занимался своими собаками, голштинскими сержантами и моделью крепости. Он утешал Брокдорфа тем, что оказывает ему своё доверие, и уверял его, что он занимает важное место при его особе.
Однако это мало удовлетворяло попранное честолюбие несчастного камергера, который не обладал умом Кайсарова, чтобы под охраной шутовства и глупости занять независимое положение при дворе. Так как дом на Фонтанной, где жила Мария Рейфенштейн, тоже был закрыт для Брокдорфа, то он вёл безрадостное существование и даже в будущем не видел ничего хорошего.
Салтыков пробыл в отсутствии довольно продолжительное время и по возвращении только изредка показывался при дворе, видимо избегая встречаться с Екатериной Алексеевной. Это удавалось ему довольно легко вследствие уединённого образа жизни великой княгини, и потому после описанных нами выше событий они виделись не более двух-трёх раз.
При таком положении дел наступил конец сентября. Был один из тех последних тёплых дней, которые, напомнив о минувшем лете, уступают место осени. Екатерина Алексеевна, полулёжа в спокойном кресле, предавалась чтению, изредка взглядывая в окно и глубоко вдыхая тёплый воздух. Ей было приятно чувствовать себя в тишине и одиночестве, так как именно благодаря этому одиночеству её дух приобретал силу. Вдруг в соседней комнате, занятой великим князем, послышался громкий разговор, отвлёкший её внимание от книги. Она разобрала испуганные возгласы, и в следующее мгновение в комнату ворвался сам Пётр Фёдорович, находившийся видимо в сильном возбуждении. Он был без сюртука и жилета, а кружевные манжеты его рубашки были отогнуты до локтя. В правой руке он сжимал рапиру, его лицо было искажено испугом, и, остановившись на пороге, он громко воскликнул:
– Пойдите сюда скорее, у меня случилось несчастье... Этот неловкий Чоглоков, с которым я сейчас фехтовал, вдруг упал и теперь лежит мёртвым!
Екатерина Алексеевна вскрикнула и поднялась с кресла:
– Боже мой! Как же это могло случиться?! Может быть, он чем-нибудь прогневал вас и вы убили его?..
Пётр Фёдорович, пожав плечами, возразил:
– Какой был для меня смысл убивать этого дурака?.. Разве только потому, что он был влюблён в вас? Но, мне кажется, большим успехом он у вас не пользовался?..
– Ваше высочество, – прервала его Екатерина Алексеевна.
– Неужели я ошибся? – воскликнул Пётр Фёдорович. – Я лично ничего не имел против этого Чоглокова, разве только то, что он был очень скучным господином. И вот теперь, когда он начал понимать фехтовальное искусство, черту вздумалось вмешаться в это дело, и бедный малый лежит мёртвым. Но я совершенно не понимаю, как это могло случиться? Пуговка на моей рапире нисколько не повреждена, и я готов держать пари, что у этого неловкого Чоглокова нет никакой раны, а он просто притворяется мёртвым, чтобы доставить мне неприятный разговор с императрицей... Но посмотрите сами и посоветуйте, что делать?
Екатерина Алексеевна отложила в сторону книгу и медленно пошла за супругом в его комнату.
Там в самом деле лежал Чоглоков в предсмертных судорогах, с уходящим лицом, а в углах рта пузырилась кровавая пена.
– Боже мой! – вскрикнула великая княгиня. – Как же так?
– Вот так, – возразил испуганный Пётр Фёдорович, – он плохо отпарировал удар, но я едва успел коснуться его, как он упал точно подкошенный.
– Нужно позвать Марью Семёновну и доктора Бургава, – приказала Екатерина Алексеевна стоявшим лакеям, а затем нагнулась и расстегнула мундир на груди Чоглокова. Нигде не было видно раны, не было следа крови. – Не понимаю, – сказала великая княгиня и, сев на стоявший рядом табурет, положила голову Чоглокова к себе на колени, прикоснувшись в то же время к его холодному, потному лбу.
И тут он глубоко вздохнул и блуждающим, удивлённым взглядом посмотрел вокруг себя. Увидев склонившееся лицо Екатерины Алексеевны, он блаженно улыбнулся.
– Великая княгиня! – воскликнул он и сделал при этом движение, чтобы подняться, но при первых же словах струйка крови потекла по подбородку, и, испустив болезненный стон, он снова впал в забытье.
– Он жив, слава Богу, он жив! – воскликнул великий князь. – Никто не скажет теперь, что он умер от моей рапиры.
В эту минуту появилась Чоглокова и молча, в слезах распростёрлась над ним.
– Константин Васильевич всегда страдал сердцем, – прошептала она, – вероятно, его постиг удар! О, Боже, неужели он помрёт? А я была так несправедлива к нему! – тихо присовокупила она.
Вскоре появился доктор Бургав и, исследовав больного, объявил, что вследствие быстрого движения у него лопнул один из внутренних сосудов и смерть, по всей вероятности, наступит неизбежно.
Немедленно были принесены носилки, и Пётр Фёдорович распорядился, чтобы лакеи отнесли гофмейстера в его помещение. Он вполне разделял страх своей тётки ко всему, что имело связь со смертью. Вскоре Чоглоков был перенесён к себе, и жена ревностно принялась ухаживать за ним, как было предписано доктором.
Екатерина Алексеевна часто появлялась в покоях своей обер-гофмейстерины, которая теперь окончательно превратилась в её преданную подругу. Великий же князь выказал своё участие лишь тем, что послал Брокдорфа взять от Чоглокова рапиру, которую лишь с трудом удалось вынуть из судорожно сжатой руки больного.
Чоглоков большую часть дня лежал без сознания, и доктор Бургав, констатировав его безнадёжное состояние, давал лишь капли, которые уменьшали его страдание. Он предсказал, что больной через несколько часов придёт в сознание, но затем последняя искра жизни в нём угаснет.
К вечеру перед заходом солнца Екатерина Алексеевна снова вошла в комнату умирающего; его жена сидела у постели, обливаясь слезами. Великая княгиня подала ей знак, чтобы она не вставала, и заняла место рядом с нею, с участием всматриваясь в заострившиеся черты. В это время Чоглоков раскрыл глаза, в которых мелькнул луч сознания. Он протянул руку к жене и начал тихо говорить, не спуская в то же время взгляда с великой княгини:
– Я умру, моя дорогая, я чувствую, как смерть сковывает меня холодом; я уйду из этой жизни, в которой сделал столько зла и несправедливости. Я виноват перед тобою в том, что моё сердце отвратилось от тебя. Я был ослеплён светом блестящей звезды, той звезды, которая и теперь, в час моего расставания с жизнью, освещает меня своими лучами! Это было чувство чистого обожания и уважения, – продолжал он, красноречиво глядя на великую княгиню, – и если я спустился до земного, в этом виноват великий князь, который влил в меня преступное желание своими речами.
Екатерина Алексеевна, смотревшая до сих пор с участием на умирающего, покраснела и досадливо отвернулась.
– Прошу прощения, ваше императорское высочество, – сказал Чоглоков. – Моё чувство опять стало чистым и светлым, как чувство ребёнка. Я могу взирать на вас и могу дать вам последний совет умирающего друга, которому не придётся больше заботиться о благе вашей особы. Этот мой совет состоит в следующем: не доверяйте никому, оставайтесь одна, всегда одна, и тогда вам не придётся испытать ни предательства, ни страдания. Оставаясь одной, вы будете сильны и завоюете будущее, которое, я предвижу, покроет славой ваше чело. Да, я вижу вас витающею в золотом облаке; я вижу вас владычицей... Екатериной Второй, Екатериной Великой!..
Он остановился. Его взгляд был устремлён в открытое окно. Вечерняя заря бросала на него прощальный свет.
Екатерина Алексеевна, замерев, слушала его слова как откровение.
Чоглоков снова посмотрел на жену.
– Прости меня за эту любовь, – сказал он, – я не мог не следовать за звездою.
Его голова снова упала на подушку, глаза закрылись, и он, по-видимому, впал в забытье.
– О, Боже мой, – сказала Чоглокова, – он просит прощенья у меня, тогда как я сделала ему столько зла, и теперь всё погибает, он тоже оставляет меня! Но я должна всё объяснить ему; он должен простить меня. Но теперь поздно! Посмотрите, ваше высочество, – воскликнула она, страшно волнуясь, – земное грешное счастье оставляет меня, а теперь и он покидает меня навсегда. Посмотрите, вот письмо...
С этими словами она протянула Екатерине Алексеевне письмо, которое вынула из-за корсажа.
Великая княгиня развернула записку и прочла:
«С каждым днём мне становится всё яснее, что узы, соединяющие нас, сотканы из греха и преступления. Я считаю своим священным долгом разорвать эти узы, хотя моё сердце обливается кровью. Будем навсегда не более как друзьями, просите прощения у Бога, что мы когда-то были не только друзья».
– Это пишет мне Репнин, – проговорила сквозь рыдания Чоглокова. – Я считала это письмо за простое лицемерие, за ложь, но теперь вижу, что оно есть только предупреждение Господа Бога, терпение которого исчерпано.
Екатерина Алексеевна с состраданием взглянула на глубоко потрясённую женщину, хотя с трудом подавила улыбку при виде разнородных чувств, которые обуревали Чоглокову.
В это время больной приоткрыл глаза и ещё раз окинул взором великую княгиню и свою жену; по его лицу промелькнула улыбка удовлетворения, и он с глубоким вздохом тихо откинул на подушку голову.
– Свершилось! – воскликнула Чоглокова. – Он умер!
В тот же самый момент в золочёном балдахине начала весело порхать маленькая птичка, которую едва можно было разглядеть среди дорогих драпировок; слышалось только её весёлое щебетание, а затем было видно, как она, точно тень, вылетела из-под балдахина и упорхнула в окно.
– Это была его душа! – воскликнула Чоглокова, в то время как Екатерина Алексеевна молча наблюдала за улетевшей птицей. – Да, да, это была его душа! Она послала нам свой последний привет. Он был прав: его взор видел будущее...
Она опустилась перед великой княгиней на колени:
– Екатерина Великая!..
Великая княгиня поднялась со своего места. Луч заходящего солнца упал в эту минуту на её лицо, а вечерний ветерок обвевал её волосы. На всей её фигуре лежал отпечаток какой-то сверхчеловеческой величественности.
Несколько минут обе женщины стояли безмолвно около постели покойника, лежавшего с улыбкой мира на лице.
Потом солнце зашло, небо омрачилось, и в окно потянуло холодным ветром.
Чоглокова встала и прижалась губами к челу почившего супруга. Екатерина Алексеевна сделала над покойником крестное знамение и произнесла краткую молитву. Затем они обе вышли из комнаты и прошли в приёмную, где тем временем собралась свита их высочеств.
В то время как Екатерина Алексеевна грустно и взволнованно объявляла присутствующим о смерти своего обер-гофмейстера, а Чоглокова, рыдая, принимала всеобщие выражения участия и сожаления, среди присутствующих вдруг показался Александр Иванович Шувалов. Он с холодной почтительностью поклонился великой княгине и сказал спокойно-служебным тоном, который казался почти оскорбительным контрастом с настроением всех собравшихся:
– Её императорское величество с искренним участием изволила узнать, что бедный Константин Васильевич Чоглоков заболел опасной болезнью, которая едва ли позволяет надеяться на благополучный исход.
– Он умер, – строго и почти укоризненно сказала великая княгиня, указывая на Чоглокову, которая, рыдая и тяжело опустив голову на руки, сидела на стуле.
– А! – сказал Александр Шувалов, и его лицо задёргалось ещё сильнее. – Я уверен, что это известие, которого, к сожалению, можно было ждать с минуты на минуту, будет встречено её величеством с искренним горем. Тем не менее наша высокая повелительница, прозревая будущее, уже наметила мероприятия и распоряжения на этот печальный случай; ведь таковы обязанности всякой монархини, и она не может отдаваться личным чувствам. Поэтому государыня была заранее озабочена тем, чтобы важная должность, которую занимал покойный при дворе их императорских высочеств, была вручена достойному и вполне надёжному человеку. Выбор её императорского величества пал на меня, – заключил он с церемонным поклоном по адресу великой княгини.
Ужас и отвращение отразились на лице Екатерины Алексеевны. Она ухватилась за спинку стоявшего около неё стула, словно ей вдруг понадобилась опора, без которой она не могла бы держаться прямо. Однако затем, усилием воли заставив себя застыть в горделивой холодности, она сказала слегка дрожавшим голосом:
– Её величество такой заботливостью ещё раз доказывает, насколько велико её истинно материнское благоволение к нам. Тем не менее, – прибавила она с глубокой горечью, – мы были бы ещё несравненно более обязаны императрице, если бы его высочеству великому князю и мне было позволено высказать свои желания при замещении вакансии такой должности, которая непосредственно касается нас.