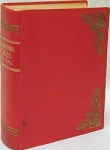Текст книги "При дворе императрицы Елизаветы Петровны"
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 52 страниц)
Глава тридцатая
В день своего назначения камергерами великого князя Ревентлов и Брокдорф перебрались в комнаты, отведённые им в Зимнем дворце, в непосредственной близости к великокняжеским апартаментам. Эти комнаты, расположенные близко одна к другой, вопреки крайней расчётливости, соблюдавшейся во всём прочем относительно содержания двора великого князя, были обставлены со всею роскошью и комфортом, какие только могли быть достигнуты в столь короткое время. Вместе с тем обоим кавалерам было ассигновано приличное содержание, треть которого им немедленно выдали полновесными голландскими дукатами, что немало способствовало приятности их положения, так как жизнь при дворе требовала значительных трат, кредит же великокняжеского придворного, если тот не принадлежал к богатому и могущественному роду в государстве, равнялся нулю. Это не было удивительно ввиду того, что и сам наследник престола нередко лишь с великим трудом и под невероятно высокие проценты мог доставать необходимейшие средства на покрытие своих весьма беспорядочных расходов.
Итак, приезжие голштинцы не имели повода жаловаться на богиню счастья, которая так скоро после их прибытия дала им всё, чего явились они искать в Петербурге: полученная ими почётная должность, не связанная ни с какими заботами, открывала этим чужестранцам доступ ко всем наслаждениям двора, и вдобавок все их житейские потребности были удовлетворены.
Судьба особенно благоприятствовала Брокдорфу, который, помимо своего третного жалованья, явился обладателем трёх тысяч рублей, выигранных им у графа Петра Шувалова за три партии экарте. Он тотчас употребил часть своего избытка, казавшегося ему неистощимым, на то, чтобы с помощью Завулона Хитрого пополнить свой гардероб и заменить поддельные камни на рукоятке своей шпаги и на пряжках башмаков топазами и аметистами. Само собою разумеется, что при своей новой экипировке Брокдорф выбирал бархат и шёлк, притом особенно ярких цветов, которые сочетались в его костюмах самым необычайным образом, так что его появление возбуждало всеобщее внимание, а великая княгиня никогда не пропускала случая сказать ему комплимент насчёт оригинальности его туалета.
Однако, несмотря на счастливое положение, в котором находился новый камергер великого князя, многое было ему здесь не по душе и нарушало его довольство. В вечерние часы, свободные от придворной службы, всякий раз, когда Брокдорф мог отлучиться, он посещал дом на Фонтанной, где жили обе девицы Рейфенштейн. Его влекло туда, кроме их общества, ещё одно побочное обстоятельство; граф Пётр Шувалов поручил новому камергеру регулярно бывать в этом семействе, чтобы приносить ему сведения обо всём, что делается при дворе великого князя. Марию Рейфенштейн очень мало интересовали посещения голштинского дворянина. Когда он сидел у сестёр в гостях, она обыкновенно валялась на диване, перелистывала французские романы, отделывала с помощью пилочек и щёток свои розовые ногти или с наивнейшей непринуждённостью занималась своим туалетом, не замечая присутствия Брокдорфа. Наоборот, её сестра Клара забавлялась частым гостем, вносившим некоторое разнообразие и развлечение в их монотонную жизнь. Она неутомимо поддразнивала нового камергера и направляла свою собачку на его пёстрые чулки, причём Брокдорф нередко был готов не на шутку рассердиться. Но юная плутовка умела посмотреть на него тогда таким очаровательным взором, смиренно молившем о прощении, так прелестно надувала губки, высказывая, как она завидует придворным дамам, которые ежедневно вращаются в его обществе и скоро заставят его позабыть своих первых друзей в Петербурге, что барон в приливе восторга и гордости тотчас забывал всякую досаду и пускался снова шутить с молодой хозяйкой. Он играл с её собачкой, проделывал всякие па, становился в позиции, которые требовались новыми фигурами менуэта, исполняемого при дворе, и что каждый раз смешило Клару до слёз, вызывая мимолётную улыбку даже на равнодушном лице Марии. Эти шалости привели к тому, что Брокдорф совершенно серьёзно влюбился в свою обворожительную мучительницу и не оказывал больше сопротивления её тираническим капризам.
Часто голштинец встречал у сестёр Рейфенштейн графа Петра Шувалова, который тогда, с довольно холодным и надменным видом, приглашал его подробно сообщить ему обо всём виденном и слышанном, но резко обрывал своего собеседника, если тот обнаруживал склонность к излишним разглагольствованиям. Однако граф не оставлял его больше ужинать с обеими девицами, а ещё менее того думал предлагать ему партию в экарте, на что Брокдорф, истратившись на множество покупок, согласился бы очень охотно и даже позволил себе однажды слегка намекнуть. Напротив, едва барон успевал дать отчёт обо всём случившемся при малом дворе и ответить на различные заданные ему вопросы, как граф Пётр Иванович спешил отпустить его теперь таким повелительным взором, что тому не оставалось ничего иного, как смиренно удалиться с безмолвным поклоном.
Вдобавок и положение Брокдорфа при великокняжеском дворе не соответствовало тем высокомерным надеждам, которые он стал питать с первого же дня после принятия его на службу. Хотя великий князь неизменно выказывал приветливую сердечность и простоту в обращении с ним, как и с прочими голштинцами, своими подданными, однако взоры Петра Фёдоровича как будто всё больше с каждым днём направлялись или были направлены на комические стороны в наружности его нового камергера, и если тонкая, язвительная ирония, таившаяся в комплиментах великой княгини, оставалась непонятной довольно развитому себялюбию и самодовольству Брокдорфа, то он не мог ошибиться насчёт гораздо более резких замечаний великого князя, который часто разглядывал его с громким хохотом и сравнивал то с удодом из-за торчащего гребня парика, то с попугаем из-за пестроты костюма. Брокдорф всякий раз складывал при этом свой широкий рот в почтительную, подобострастную улыбку, но не мог удержать ядовитой злобы, сверкавшей в его маленьких проницательных глазках. Кроме того, ему никогда не удавалось вызвать великого князя на какой-нибудь серьёзный разговор о голштинских делах, так как тот резко отклонял все замечания Брокдорфа насчёт управления герцогством.
Барон фон Ревентлов, со своей стороны, наслаждался прелестью и приятностью своего нового положения также не без того, чтобы не натыкаться на острые, колючие шипы, которыми тем щедрее усажены все благоуханные розы человеческого существования, чем они прекраснее и милее. Привлекательная, благородная внешность, любезная скромность и многостороннее по тому времени образование молодого человека вскоре снискали ему расположение великокняжеского двора. Сам Пётр Фёдорович отличал его вниманием, как человека, состоявшего на действительной службе у прусского короля. Он поручил ему обучить военным приёмам по прусскому образцу всех своих пятерых или шестерых лакеев в солдатской форме и усердно проделывал под его руководством различные ружейные приёмы и был необычайно польщён, когда Ревентлов уверил его, что он может служить фланговым в первой шеренге прусского полка.
Великая княгиня любила беседовать с бароном Ревентловом. Лев Нарышкин, Салтыков не могли не видеть в нём равного себе по происхождению и не признать его превосходного искусства во всех военных упражнениях. Наконец, супруги Чоглоковы также оказывали ему дружеское участие. При дворе великого князя его положение было во всех отношениях приятно. Тем не менее тяжёлый гнёт теснил сердце Ревентлова.
Разговор между канцлером и Репниным, невольно подслушанный им, тревожил его. Внезапные и бурные вспышки страсти у императрицы Елизаветы Петровны давно стали известны всей Европе. Все знали её способность влюбляться сплошь и рядом с первого взгляда в едва знакомых мужчин, причём подобные увлечения редко отличались продолжительностью.
При этом императрица, естественно, не считала возможным сопротивление такой внезапно вспыхнувшей её страсти. И хотя он был далёк от всякого самодовольного тщеславия, однако самолюбие не позволяло ему отрицать всякую возможность или вероятность предположения проницательного канцлера. Он отправлялся на придворные праздники, дрожа от страха, с потупленными взорами, с робостью молодой девушки, которая в первый раз чувствует обращённые на неё взоры большого общества, подходил с великокняжескою четою и её двором к императрице для приветствия. При этих взаимных приветствиях, которые, смотря по прихоти Елизаветы Петровны, затягивались дольше или сокращались, выходили ласковее или холоднее с её стороны по отношению к племяннику и его супруге, государыня никогда не упускала случая бросить на молодого голштинского камергера долгий, пристальный взор, как заметил это ещё граф Бестужев. И хотя Ревентлов скорее чувствовал, чем видел, этот взгляд, всякий раз кровь невольно ударяла ему в лицо и стоило труда сохранить самообладание. Императрица отличала его также перед всем придворным штатом своего племянника, обращаясь к нему всякий раз с несколькими милостивыми словами. Однако эти слова произносились всегда вслух пред всеми окружающими. Иван Шувалов стоял при всех этих случаях возле своей царственной повелительницы, и помимо лестного и милостивого разговора, которым государыня удостаивала чужестранца, было бы невозможно найти в её замечаниях какой-нибудь иной, особый смысл и нечто более обыкновенного благоволения к изящному рыцарю и кавалеру.
Так как это продолжалось некоторое время без всяких перемен, то молодой человек уже начал постепенно приобретать вновь свою прежнюю спокойную непринуждённость и надеяться, что граф Бестужев ошибся, вопреки своей острой наблюдательности и знакомству с характером императрицы, и что опасность, внушавшая ему такой неодолимый страх, вовсе не существовала или благополучно прошла. Ревентлова ещё больше укрепляло в этом мнении то обстоятельство, что Иван Шувалов и оба его двоюродных брата, Пётр и Александр, также обходились с ним при каждой встрече с благосклонной приветливостью, не чуждой, однако, некоторой гордой снисходительности, от которой иногда начинала закипать его возмущённая кровь немецкого дворянина. Он полагал, что Иван Шувалов, равно как и его двоюродные братья, наблюдают за увлечениями императрицы рьянее, чем канцлер, и потому они не оказывали бы ему такого ровного благоволения, если бы о чём-нибудь догадывались, что было высказано графом Бестужевым в интимной беседе с Репниным. Поэтому голштинец ободрился и соблюдал лишь одну предосторожность – держаться как можно дальше на празднествах от глаз государыни, к чему побуждали его и врождённые наклонности. Он любил уединение отдалённых боковых комнат Зимнего дворца, где ему было удобно предаваться мечтам. Предметом же этих юношеских мечтаний, как понимает читатель, неизменно была красавица Анна Михайловна.
Ревентлов пользовался каждым свободным от службы часом, чтобы заглянуть в гостиницу Евреинова, как и Брокдорф, со своей стороны, употреблял свои досуги на то, чтобы навещать сестёр Рейфенштейн.
Красавица Анна каждый раз встречала молодого гостя с сердечной радостью, как старинного друга; когда он появлялся, она не спускала с него взора, сама заваривала ему чай, и если барон подсаживался тогда к ней на лавку у маленького буфета, где они сидели вдвоём в первый вечер их знакомства, тогда девушка брала в руки балалайку и пела ему под аккомпанемент русские народные песни, в которых слушатель понимал теперь всё больше и больше. Для прочих посетителей, которых Анна встречала прежде так приветливо и радостно, у неё находился теперь едва равнодушный взгляд, холодный поклон, и часто требовалось строгое, сердитое замечание Евреинова, чтобы напомнить девушке её обязанности радушной и гостеприимной хозяйки.
Такая резкая перемена в дочери, равно как и её причина, не могли укрыться от зоркого взгляда отца, и это открытие внушило ему сильнейшее недоверие к Ревентлову. Правда, он приветствовал молодого человека при его посещениях с почтительной учтивостью, подобавшей придворному кавалеру и камергеру наследника престола. Когда же молодые люди сидели вместе, совершенно поглощённые своей беседой, словно оторванные от всего окружающего, Евреинов мрачно и грозно посматривал на них издали и в его глазах можно было прочесть почти сожаление о том, что чужеземец, приковавший к себе его дочь как будто внезапным колдовством, носит знаки камергерского звания, которое делает его неприкосновенным и исключает возможность отказать ему от дома. Отец не говорил ни слова с дочерью об этом деле, причинявшем ему горькие заботы; помимо строгих и сердитых напоминаний о том, чтобы она не забывала своих обязанностей, лежавших на ней как на хозяйке дома, он обращался с нею по-прежнему сердечно и ласково. Опытный, умный старик знал, что в подобных случаях всякое резкое вмешательство только усугубляет зло.
Между тем ещё иная забота закралась в сердце Евреинова и тревожила его не меньше так мало скрываемой любви его дочери к молодому голштинскому дворянину. Иван Иванович Шувалов стал частенько заглядывать в его заведение с того дня, когда побывал там со своим двоюродным братом Александром Ивановичем, и заказывал себе на кухне русской половины гостиницы то одно, то другое блюдо, благодаря чему его пребывание здесь затягивалось каждый раз на час и долее. В этих случаях Шувалов всегда необычайно любезно и ласково беседовал с Евреиновым и хвалил его за соблюдение русских обычаев. С Анной он разговаривал о самых обыденных и безразличных предметах даже и тогда, когда Евреинову приходилось отлучаться на кухню, чтобы взглянуть на стряпню, а его дочь, чтобы занять важного гостя, оставалась одна у стола, накрытого для него. Граф и наедине с нею сохранял свою спокойную гордость, только в обращении его проглядывала поразительная вежливость, точно дочь трактирщика, дед которой был ещё крепостным предков Шувалова, была одной из знатнейших и высокородных дам. Однако, несмотря на эту сдержанность Шувалова, настоящая причина его частых посещений не укрылась от проницательного Евреинова. Он ловил взоры, которые властный вельможа, словно повинуясь неодолимой магической силе, устремлял на красавицу Анну; они достаточно ясно и понятно выражали всё то, что сановный гость старался скрыть под своей холодной важностью.
Девушка, со своей стороны, не замечала этих взоров. Евреинов избегал посвящать свою дочь в сделанное им открытие, но тем не менее оно наполняло его мучительной тревогой. Относительно Ревентлова он мог только опасаться, что будет поставлен в необходимость огорчить Анну, принудив суровыми мерами к повиновению своей воле, потому что, если бы даже молодой голштинец, так же мало скрывавший свои чувства, как и она, серьёзно задумал жениться, то брак его дочери с басурманом без всяких средств, заехавшим в Россию, представлялся Евреинову страшной бедою, с которой он был готов всеми силами бороться. Гораздо хуже явная любовь Шувалова. Опасность, грозившая девушке с этой стороны, была бы, пожалуй, не устранима. Вдобавок Евреинову, как и всем, была известна страстная привязанность императрицы к своему любимцу, который уже давно упрочил своё положение и победоносно сокрушал всякое соперничество. Для Евреинова не было тайной и то, с какой неумолимой строгостью поступала императрица, когда в ней поднималась ревность. Какому же наказанию обрекла бы она соперницу, похитившую у неё сердце возлюбленного и подвергшую её терзаниям настоящей ревности? С содроганием думал несчастный отец о той судьбе, которая угрожала его дочери и являлась почти неизбежной, потому что при тысячах подстерегающих аргусовых глаз, находящихся в распоряжении государыни, зоркость которых была ещё изощрена ненавистью и завистью к высокомерному обер-камергеру, было немыслимо, чтобы его увлечение могло долгое время оставаться тайной для государыни.
Наконец, в тревожном томлении сердца он решил прибегнуть за советом к отцу Филарету, практический, глубокий ум которого был ему хорошо известен, причём он твёрдо верил, что совершенно особое божественное откровение осеняет благочестивого, праведного монаха и что молитвы того имеют силу отвращать всякую беду. Едва только успело созреть в нём это намерение, как он приступил к его исполнению.
На следующее же утро он уложил самые лакомые блюда со своей кухни и бутылки самого старого, превосходнейшего вина из своего погреба в большую корзину, приказал поставить её себе в сани и покатил в Невскую лавру.
Глава тридцать первая
Не успел Евреинов отъехать от дома, как встретил блестящие, украшенные позолотой императорские сани, запряжённые шестью лошадьми в богатой сбруе; впереди ехали императорские егеря, а конюхи и пажи замыкали поезд. Он несколько свернул в сторону и низко поклонился, узнав сквозь зеркальные стёкла кареты высокопреосвященного архиепископа Феофана, ехавшего с такою пышностью к её императорскому величеству государыне, пригласившей его к себе. Архиепископ заметил стоявшие на краю дороги сани и осенил крестным знамением почтительно приветствовавшего его Евреинова.
«Это благословение преподобного принесёт мне счастье», – подумал Евреинов и, полный радости и надежды, продолжал с этой мыслью свой путь к Александро-Невской лавре.
Архиепископ вскоре остановился у главного подъезда Зимнего дворца; там его почтительно встретила толпа камергеров и проводила по анфиладе блестящих залов до собственных покоев императрицы.
На пороге уборной появилась Елизавета Петровна в простом, совершенно закрытом чёрном шёлковом платье; её волосы были гладко причёсаны и только слегка напудрены; на ней не было никаких украшений и единственным знаком светской суетности в этом почти монашеском образе был живой румянец, о котором она и сегодня не забыла и который при дневном свете придавал её уже поблекшему лицу сходство с маской.
Архиепископ, высокий, стройный, только слегка согбенный старостью, в простой монашеской рясе, поднял руку и сделал крестное знамение над склонившеюся почти до полу императрицею, произнося в то же время звучным и вместе с тем мягким и ласкающим голосом:
– Бог Отец, Сын и Святой Дух и все святые апостолы и мученики да ниспошлют своё благословение на главу ныне царствующей императрицы Елизаветы Петровны, матери русского народа и послушной и смиренной дщери святой православной Церкви.
Императрица склонилась ещё ниже перед архиепископом, трижды повторившим над нею крестное знамение, затем, выпрямившись, гордым, повелительным кивком головы отпустила придворных, сопровождавших преосвященного; они тотчас же бесшумно удалились из комнаты.
После этого государыня почтительно, но в то же время с царственным достоинством взяла руку священнослужителя и подвела его к стоявшему среди комнаты широкому дивану, на который опустилась только после того, как сел он. Двери в пройденные архиепископом комнаты оставались широко открытыми, так же, как и дверь в спальню императрицы.
– Я принимаю вас здесь, ваше высокопреосвященство, – начала Елизавета Петровна, убедившись быстрым взглядом в том, что обе соседние комнаты были пусты, – потому что чувствую непреодолимую потребность излить все заботы моего измученного сердца перед вами, служителем Церкви, и услышать из ваших уст утешение и наставление, которое Бог посылает в скорбях всем верным Его детям и в котором особенно нуждаюсь я, императрица, для того, чтобы исполнять свой тяжёлый и важный долг.
– Ваше величество, вы знаете, – ответил архиепископ, – что мой труд, мои силы и вся мудрость, которую дают мне мой возраст и долгий жизненный опыт, посвящены служению вам и благу русского народа, судьба которого находится в ваших руках. Ваше величество, вы знаете также и верите, как истинная дщерь Церкви, что Господь постоянно поддерживает мои силы и подкрепляет мой ум, когда дело идёт о том, чтобы поддержать вас в вашем трудном деле управления и направить ваши решения ко благу.
– Я знаю это и верю в это, и именно в этом убеждении и уверенности решаюсь сообщить вам об одной заботе, которая уже давно волнует и удручает меня. Вы лучше всех поймёте, имеет ли она основание, и если имеет, то лучше всех укажете мне путь, как направить всё ко благу моего государства и народа. Вы знаете, что я по закону моего в Бозе почившего отца, великого императора Петра Алексеевича, имею право передать право наследования моего престола по собственному выбору тому, кого я признаю наиболее достойным и способным занять это высокое положение.
Взор преосвященного на мгновение остановился на императрице так пристально, точно он желал проникнуть в самые тайники её души, но его лицо оставалось спокойно и неподвижно.
– Я знаю это, – сказал он, – закон вашего отца известен всем в России.
– Вы знаете также, – продолжала императрица, – что я выбрала своим наследником герцога Петра Ульриха Голштинского, принятого под именем Петра Фёдоровича в лоно святой православной Церкви и объявленного великим князем российским. – Императрица со вздохом закрыла глаза и продолжала: – Мною руководило в этом выборе то соображение, что, хотя закон и даёт мне полную свободу решения в вопросе о моём наследнике, тем не менее мне следует постараться, если только это возможно, возвести на русский трон человека, в жилах которого течёт кровь моего отца, силою своего духа поставившего Россию в ряды первейших государств Европы.
Архиепископ наклонил голову, ничего не возражая.
– Эти мои соображения были одобрены высокопреосвященным, занимавшим раньше вас эту высокую и священную должность. Он подтвердил мой выбор и думал, как и я, что он направлен ко благу России.
– Он предполагал, – заметил архиепископ, – что герцог Пётр Ульрих, находившийся тогда ещё в очень юном и доступном для воспитания возрасте, проникнется ясным сознанием святости своего долга, который он примет на себя в качестве великого князя и наследника престола России по отношению к государству и народу своего деда и к православной Церкви, молитвы которой и дали великому императору Петру Алексеевичу власть так могущественно править. Одна только Церковь может дать и его наследникам возможность получить и утвердить свою власть.
– Это предположение было и у меня, и оное казалось таким вероятным, что ни одна посторонняя мысль не могла возникнуть в моём ограниченном человеческом разуме. С тем более тяжёлою скорбью я чувствовала зародившееся во мне подозрение, что это предположение было ошибочно. Я долго отстраняла от себя это подозрение, старалась подавить его, но оно возрождалось всё с новой силой; я не могла скрыть от себя то, что видела ежедневно, и теперь подозрение превратилось почти в полную уверенность и неопровержимое убеждение.
Преосвященный ничего не возразил, но поднял к небу печальный взгляд, и глубокий вздох, вырвавшийся из его груди, выразил его сожаление о том, что он принуждён согласиться с императрицей.
А Елизавета Петровна между тем продолжала:
– Вы не можете себе представить то горе, которое терзает моё сердце с тех пор, как я окончательно и несомненно убедилась в том, чего боялась и что отвергала как ошибку и заблуждение. Я убедилась в том, что мой племянник не стал действительным членом и участником благодати единой спасающей православной Церкви, в которую был принят с торжественной церемонией. Душою он чужд нашей Церкви; священные обряды исполняет лишь постольку, поскольку то требуется его положением, причём ясно показывает, что относится к ним как к внешней формальности, которой принуждён подчиняться очень неохотно.
Архиепископ снова вздохнул, как бы молча соглашаясь со словами императрицы.
– Следовательно, мне приходится опасаться, что благодать не коснулась великого князя и что вера в единую святую православную Церковь, несмотря на столь продолжительное время, не нашла доступа в его душу, по той ли причине, что лютеранская вера, в которой он воспитан, крепко укоренилась в нём, или же потому, что он вообще глумится над всем святым и презирает всякую религию. Дьявол искушает его к подражанию тому преступному и безбожному королю, которого он во всём берёт себе за образец и ради чьего одобрительного слова он готов был бы пожертвовать благом своего народа и достоинством Российского государства.
Гневом и ненавистью сверкнули глаза императрицы при последних словах, что случалось всегда, когда она говорила о ненавистном ей прусском короле или когда о нём говорилось в её присутствии.
Архиепископ строго покачал головой и произнёс убеждённым тоном:
– Я не могу согласиться с вами, ваше величество, что последнее предположение было бы худшее. Душа, впавшая в неверие, порабощённая духом отрицания всего святого, увлечённая идеями того Вольтера – друга прусского короля, который яркими лучами своего лжеучения старается перед взором толпы затемнить чистое солнце вечной правды, такая душа подобна бесплодной почве, по которой носится изменчивый ветер, крутя и вздымая песок. Но заботливый сеятель, прилежный работник и пастырь Церкви в состоянии вспахать эту почву, как бы ни была она суха. Божественным словом и живительной влагой истинной веры он может размягчить почву и сделать её восприимчивой к ученью правды. Неверие – злой недуг, но всё же поддаётся врачеванию; отрицая веру, неверующий не стремится вести борьбу для её искоренения. Но еретическое лжеучение есть болезнь, от которой можно исцелиться лишь непосредственным чудом Божьим. Человек, одержимый еретическим безверием, – вредный член общества, про которого сказано в Священном Писании, что его нужно вырвать и бросить в огонь, так как лучше потерять одну часть, нежели заразить всё тело и обречь его на вечное осуждение. Тем более опасна эта болезнь и тем больше зло, причиняемое ею, если она поражает дух человека власть имущего, который имеет возможность влить этот разрушительный яд в жилы целого народа. Таково моё мнение, – заключил преосвященный решительным тоном.
Императрица, как бы сражённая словами архиепископа, опустила голову на грудь; однако этот строгий приговор не вызвал на её лице выражения неудовольствия; напротив, она казалась внутренне удовлетворённою. Слегка проводя рукою по глазам, как бы желая стереть слезу, которой не было на её ресницах, она сказала:
– А что, по вашему мнению, кроется в бедной, больной душе великого князя? Меньший, излечимый недуг или большое, неотразимое зло? Насмешливое ли неверие Вольтера или еретическое суеверие Лютера?
– К сожалению, последнее, – ответил архиепископ без колебания. – Хотя мне и не надлежит простирать руку и касаться вопросов мирской, светской жизни, но моя обязанность зорко следить за течением жизни, в особенности если она касается лиц, призванных руководить и править; это я обязан делать, чтобы вовремя предвидеть будущее, насколько то позволит Бог, и своевременно подготовить Церковь к той борьбе, которую ей предстоит вести. Следуя этому своего долгу, я наблюдал за великим князем, которому суждено со временем держать в своей руке светоч и править земными судьбами русского народа. Великий князь слаб, несамостоятелен и несостоятелен; такой дух не может возвыситься до дерзкого отрицания, всегда заставляющего предполагать самостоятельное суждение и известную силу воли. Великий князь слабоволен; он как в серьёзных делах, так и в мелочах ищет поддержки извне и не способен на упорное отрицание веры, которое, в конце концов придя к сознанию своей несостоятельности, может снова вернуться к признанию веры. Несчастная судьба послала этой слабой душе кажущуюся опору в виде еретического учения Лютера, и он с упорством, свойственным всем слабым натурам, неспособным к самостоятельному мышлению и желанию, цепляется за эту опору и презирает, ненавидит всякую другую веру, особливо нашу святую единую православную Церковь. А презирая нашу веру, он презирает и наш народ, и, как только власть перейдёт в его руки, он употребит её на то, чтобы внедрить в государстве чужеземные нравы и чужеземную веру.
– В таком случае, – воскликнула Елизавета Петровна, – это будет тяжкое несчастье для благочестивого и верноподданного народа, который находится под моим скипетром, о судьбах которого я должна заботиться; это не может быть угодно Богу!
– Пути Господни неисповедимы, – возразил архиепископ торжественным тоном. – Как отдельным людям посылаются страдания с целью испытать их преданность и искушения, чтобы закалить их крепость, так посылаются испытания и целым народам, чтобы дать им погибнуть, если они слабы, или же чтобы сделать их орудием предвечной воли, направляющей судьбы мировой истории, если они будут победоносны. Во время таких испытаний святой долг Церкви быть врачующим бальзамом и подкрепительным вином для скорбящих и удручённых. И вы, ваше величество, можете быть уверены, что я в лоне Церкви приготовлю всё, чтобы она щедрою рукою могла дать благословенному и милости Божьей достойному народу русскому утешение и поддержку в годину надвигающихся, как я со страхом предвижу, народных бедствий.
Пальцы императрицы беспокойно зашевелились; казалось, она искала слов, которыми могла бы выразить свою мысль.
– Однако, – сказала она наконец, пристально глядя на преосвященного, – если вы, один из высших иерархов Церкви, изыскиваете средства побороть грядущее бедствие, то разве не более настоятельный долг светской власти, императрицы, покорной дщери и слуги Церкви, позаботиться о том, чтобы предотвратить грозящую беду?
– Власть царицы, – ответил архиепископ, – не простирается так далеко, чтобы спасти душу человека от губительной еретической веры там, где даже сама Церковь отчаивается в успехе, если не свершится чуда Божьего; ждать же такого чуда человек не вправе.
– А если, – быстро заговорила Елизавета Петровна, – душа того, кому суждено держать в своих руках скипетр России, погрязла в ереси и мы не можем иметь надежду, что Господь сотворит чудо обращения, то разве не лежит на царице обязанность воспрепятствовать тому, чтобы скипетра когда-либо коснулась рука такого несчастного заблудшего?
Архиепископ испытующе посмотрел на императрицу и сказал:
– Для этого вы, ваше величество, должны были бы изменить порядок престолонаследия, а такое решение подлежит строгому, тщательному обсуждению.
– Разве я не имею права на это? – спросила Елизавета Петровна.
– Завет Петра Великого определяет, что каждый правитель русского государства имеет свободное право избрать себе престолонаследника, руководствуясь исключительно благом своего народа. Это право неотъемлемо принадлежит каждому русскому государю до того момента, когда он отдаст Богу свою душу; это же право принадлежит и вам, ваше величество, неоспоримо, независимо от каких бы то ни было обстоятельств, даже того, – прибавил он с ударением, – что было раньше предрешено. Ваше величество, вы имеете право отменить ранее установленный порядок престолонаследия, буде он несовместим с благом вашего государства, и установить новый порядок; и последний будет единственно законным, если не будет отменен до момента прекращения вашего земного существования.