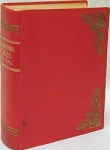Текст книги "При дворе императрицы Елизаветы Петровны"
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 52 страниц)
Глава двадцать первая
Тем временем сани Ивана Шувалова подъехали к французскому флигелю гостиницы Евреинова. При виде хорошо известных ливрей лакеев могущественного вельможи слуги гостиницы быстро выбежали на улицу, а во всех окнах показались головы любопытных, жадно устремивших свои взоры на улицу.
– Итак, – сказал Александр Шувалов Ревентлову, – мы доставили вас на вашу квартиру, и я надеюсь, что вы останетесь довольны таким удовлетворением. Её величество государыня императрица разрешила вам явиться к его императорскому высочеству великому князю, вашему герцогу, и желает, чтобы вы заняли при нём подобающее вам место. Государыня будет очень рада лично выразить вам своё сожаление по поводу постигшей вас неприятности и поручила мне пригласить вас на^маскарад сегодня вечером... Поторопитесь поскорей одеться; я убеждён, что вы доставите большое удовольствие великому князю, дав ему возможность принять одного из своих подданных.
Совершенно ошеломлённый таким неслыханным отличием и обилием свалившихся на него милостей, Ревентлов оставил Шуваловых, поблагодарив их несколькими почти бессвязными словами.
– А где Евреинов? – спросил Александр Иванович почтительно стоявших вокруг саней слуг, между тем как Иван Иванович ищущим взором окинул выглядывавших из окон зрителей.
– Михаил Петрович в другом доме, – ответил один из слуг, – там, где он бывает всегда, когда дело не требует его присутствия здесь. Прикажете позвать его?
– Нет, не надо, – живо воскликнул Иван Шувалов, – мы сами проедем к нему. Я хочу воспользоваться случаем взглянуть на его русскую гостиницу. Санкт-Петербург настолько проникся европейской культурой, что наши старые обычаи исчезают совершенно, и едва-едва есть возможность увидеть какой-нибудь дом, где всё ведётся по-старинному. Поезжай туда! – приказал он кучеру, который повернул сани и въехал в широко раскрытые ворота русской гостиницы.
В просторной буфетной в это утро было тихо: только рано утром зашли несколько человек закусить, но быстро удалились, так как все посетители, принадлежавшие преимущественно к простонародью, мещанам и крестьянам, торопились на водосвятие, происходившее пред Зимним дворцом.
Евреинов был в кухне. Анна сидела на скамейке пред стойкой, откинув голову на подушку; полузакрытые длинными ресницами глаза глядели недоумевающе и вопросительно на то место, где за день пред тем сидел молодой человек, которого она видела всего единственный раз, с которым она едва успела перемолвиться несколькими словами и который тем не менее заполонил все её мысли и наполнил сердце страхом и беспокойством за него. Казалось, она пыталась разрешить загадку, которую ей задала жизнь и которая так редко находит своё удачное разрешение в мятущемся и беспокойном человечестве.
Внезапно в комнату стремительно вбежали слуги, разыскивавшие Евреинова, чтобы предупредить его о высоком посещении, между тем как скороходы одновременно принялись стучать палками в дверь.
Анна, испуганная и бледная, поднялась навстречу. Ошеломлённый Евреинов сломя голову прибежал из кухни и едва успел открыть своим гостям дверь, как сам Иван Иванович уже стоял на пороге и быстрыми шагами вошёл в комнату, между тем как Александр Шувалов медленно следовал за ним.
– Боже мой, какая честь выпала моему дому! – воскликнул Евреинов.
Несмотря на выражение искренней радости, написанной на его лице, голос его дрожал, так как появление начальника Тайной канцелярии вызывало в те времена повсюду в Петербурге страх и трепет, и Евреинов, несмотря на свои отношения к дому Александра Ивановича Шувалова, не был свободен от этого страха.
Но его испуг быстро прошёл от слов Ивана Ивановича Шувалова:
– Брат пожелал лично явиться сюда, чтобы поведать сыну верного слуги своего дома, что его просьба исполнена: дело вашего немецкого гостя мы расследовали; он невиновен, и мы сами привезли его сюда из крепости. Он сейчас уже у себя дома. А я хотел воспользоваться случаем посмотреть на ваш дом, который мне расхваливали как образец старого русского гостеприимства.
Вельможа произнёс эти слова громким, ясным голосом, с оттенком сердечности, как будто его больше, чем брата, касалось дело Евреинова, но взгляд его во всё время речи не отрывался от Анны.
Девушка дрожала от волнения и страха, однако, услышав, что постоялец свободен, что ему не угрожает больше никакой опасности, она покраснела, направилась к вельможе и, с чувством поцеловав ему руку, воскликнула:
– Благодарю вас, ваше высокопревосходительство, что вы приняли такое участие в судьбе этого горемыки. Я ужасно мучилась при мысли, что он сидит в тюрьме, тем более, – здесь она запнулась, – что он вмешался в спор из-за меня. Я так боялась, что от этой истории будут ещё неприятности и моему бедному отцу.
Евреинов рассыпался в благодарностях своим высоким покровителям, с которых скороходы быстро сняли шубы. Иван Иванович удержал руку раскрасневшейся Анны в своей руке; казалось, он хотел даже поднести её к губам, да вспомнил, насколько неуместна была бы здесь его любезность.
– Позвольте мне что-нибудь предложить вам, ваше высокопревосходительство, – промолвил Евреинов, – я не могу поверить, что вы уйдёте отсюда, не приняв от меня никакого угощения!
– На улице мороз, и мы прозябли, – ответил Александр Шувалов, – дай нам аллашу!
Евреинов бегом пустился к стойке, Анна поставила на серебряный поднос два стакана, отец наполнил их ароматным вином, и девушка поднесла их знатным гостям.
Александр Шувалов залпом выпил, а Иван, принимая стакан, сказал Анне:
– Я не могу принять угощение, если хозяйка дома не пригубит его!
Он передал девушке свой стакан, и она слегка пригубила его; вельможа медленно, с наслаждением выпил.
Александр Иванович, пристально наблюдавший со стороны, нахмурился и сказал:
– Пора идти, у меня много дела. Молодого человека мы освободили, а славного Михаила Петровича избавили от тяжкой заботы. Может быть, хоть раз в жизни поблагодарят ненавистного начальника Тайной канцелярии.
Он кивнул скороходам, те расторопно подали им шубы, он взял под руку брата и, сопровождаемый рассыпавшимся в благодарностях Евреиновым, пошёл к выходу. Иван Шувалов, казалось, неохотно следовал за ним; по дороге он оглянулся ещё раз и хотя ничего не сказал, но взор его был красноречивее всяких слов. Однако Анна не заметила его, так как в это мгновение низко поклонилась.
– Чёрт возьми, Иван! – воскликнул Александр Шувалов, когда сани, скрипя по морозному снегу, отъезжали от дома Евреинова. – Если ты ещё раз станешь кидать такие взоры на молоденькую дочку Евреинова, то вскоре весь Петербург будет говорить о том, что холодный камергер, из-за которого прекраснейшие придворные дамы изощряются в тонком искусстве кокетства, вздыхает по маленькой трактирщице! Берегись! – прибавил он серьёзно. – Императрица тоже может услышать эту интересную историю, – тысячи языков поторопятся передать ей все мельчайшие подробности, и, кто знает, глупая эта история может разрушить всё, что нами построено, и похоронит нас под развалинами... Правда, государыня, перестав любить, сохраняет дружбу, но я не думаю, чтобы, любя, она согласилась делиться с другой!
– Что за чепуха! – возразил фаворит. – Разве мне не следовало быть приветливым к дочери твоего протеже, который явился ко мне, чтобы хлопотать об освобождении своего гостя?
Сказав это, он поднял выше воротник шубы, чтобы скрыть в нём своё пылающее лицо.
Сани въехали в главные ворота Зимнего дворца, куда незадолго пред тем через боковой вход Завулон Хитрый провёл Брокдорфа к великому князю Петру Фёдоровичу.
Евреинов только что вернулся в зал гостиницы, проводив своих высоких посетителей до самых саней, и, гордый и счастливый выпавшей на его долю честью, приказал слугам спрятать оба стакана, из которых пили высокие гости, чтобы сохранить их навсегда на память... В это время из коридора, соединяющего обе половины дома, открылась дверь, и в комнату вошёл барон Ревентлов. На нём был придворный костюм из синего бархата, богато вышитый золотом, но лицо бледно и носило следы утомления, счастливая улыбка блуждала на его устах, и он, никого и ничего не замечая, поспешил к Анне, которая, зардевшись, поднялась ему навстречу. Евреинов направился к своему гостю и с чувством пожал руку.
– Я свободен! – воскликнул Ревентлов. – Всё так счастливо изменилось – сам начальник Тайной канцелярии освободил меня из крепости и привёз мне приглашение ко двору. Не знаю, чем всё это объяснить, но не всё ли равно? Насколько твёрдо я переносил несчастье, настолько просто принимаю и избавление! А у моей милой, радушной хозяйки нет ни одного ласкового слова для меня? – с лёгким упрёком спросил он, протягивая руку стоявшей против него Анне.
Девушка медленно подняла на него свой взор, протянула руку и едва слышно промолвила:
– От души желаю вам счастья и благодарю Бога, Создателя моего, что Он спас вас. Я знала, что Пресвятая Богородица услышит мою горячую молитву...
– Вы молились за меня? Вы думали обо мне? – спросил Ревентлов, с чувством пожимая её маленькую ручку.
– Разве я не обязана была сделать это? – тихо отозвалась она, но в нежном взоре её Ревентлов ясно мог прочитать, что её мольбы и заботы относились к нему не только как к гостю, и его лицо озарилось восторгом.
– Да, – вмешался Евреинов, – гость священен в русском доме, и ваше счастье, что его превосходительство Александр Иванович Шувалов – мой защитник и покровитель и многое готов сделать для меня. Чуть свет я уже явился к нему; Анна пошла вместе со мною, смело заступилась за вас пред ним, и, вы видите, – гордо заключил он, – меня уважают и чтут даже высокие особы! Я, ни на минуту не задумаясь, вступился за своего гостя!
– Так, значит, вам я обязан своим освобождением, и вы, Анна Михайловна, вы пошли вместе с вашим батюшкой, чтобы хлопотать за меня? О, это делает меня ещё счастливее, тысячу раз счастливее! – с чувством произнёс Ревентлов, быстро поднося к устам руку девушки.
Анна испуганно отдёрнула руку, Евреинов же, ничего не замечая, отправился в кухню, чтобы принести какой-нибудь закуски.
Ревентлов чуть слышно, понятно только ей, промолвил:
– Так, значит, вы действительно беспокоились обо мне, Анна Михайловна? Вы думали об узнике, который чувствовал себя таким одиноким, таким покинутым в мрачной темнице чужой страны?
Анна по-детски доверчиво взглянула на него:
– Вы не чужой для меня: мне кажется, что я вас знаю очень, очень давно, хотя увидала вас впервые только третьего дня. У меня разорвалось бы сердце от тоски и горя, если бы с вами приключилось несчастье; и мне кажется, – не то с упрёком, не то с вопросом добавила она, – что и вы должны чувствовать то же самое.
– Так оно и есть на самом деле! – восторженно воскликнул Ревентлов. – Так и есть, моя ненаглядная Анна!
Достаточно одного мига, чтобы сердца почувствовали близость, влечение друг к другу, подобно тому, как ясный, тёплый солнечный луч в один миг будит дремлющую почку и под его живительным влиянием она распускается в роскошный цветок.
Ревентлов хотел привлечь девушку к себе на грудь, но его взгляд упал на сидевших за стойкой слуг, не понимавших, правда, того, что они говорили по-немецки, но имевших возможность по их красноречивым взорам легко догадаться, о чём они вели речь, и он вовремя удержался.
В эту минуту вернулся Евреинов, неся поднос с закусками и горячий пунш.
– Вот, сударь, – добродушно сказал он, – закусите, пожалуйста. После стольких забот и волнений много есть не годится, но выходить вам голодному от меня к нашему всемилостивейшему князю тоже не следует.
Молодой человек наскоро проглотил несколько кусков, выпил стакан пунша и быстрыми шагами вышел из комнаты; не будучи в силах совладать со своим волнением, он только молча крепко пожал руки Евреинову и Анне.
– Прекрасный, славный человек! – сказал Евреинов, глядя ему вслед. – Он сделает карьеру при дворе. Жаль только, что чужестранец и еретик.
С этими словами он тоже вышел из комнаты, чтобы снова вернуться к обычным занятиям.
Анна побледнела и, тихо склонив голову, опустилась на скамью.
– Чужестранец!.. Еретик! – чуть слышно пролепетала она. – Он сделает карьеру при дворе, станет большим вельможей!..
Какая страшная пропасть разверзлась пред нею при этих словах, словно острым ножом разрывавших ей сердце, как отдаляли они её от новоявленного друга.
Глава двадцать вторая
Барон фон Пехлин, голштинский министр великого князя, отличался поразительной наружностью. Он был невероятно мал ростом и так необычайно тучен, что ушедшая в плечи голова его, большая, толстая и казавшаяся ещё больше благодаря покрывавшему её громадному парику с напудренными локонами, составляла треть всей фигуры. Одутловатое и красное лицо барона, вечно улыбающееся, и бегающие глазки обличали в нём весёлого жуира, при этом, однако, взгляд его светился умом и проницательностью. Действительно, у голштинского министра не было недостатка в природных дарованиях, как и в обширных, глубоких познаниях. Он с одинаковым умением и неисчерпаемой находчивостью оживлял непринуждённую беседу за весёлым ужином и завязывал и распутывал дипломатические нити и трудные вопросы государственного права, за что пользовался особым благоволением канцлера Бестужева-Рюмина, и оказывал значительное влияние на дела русского государства, выходя за пределы своего служебного положения, чего, однако, никогда не выставлял на вид с благоразумием тактичного человека.
Пехлин, войдя к великому князю, бросил удивлённый взор на большой стол, занятый моделью крепости и миниатюрными солдатиками, не без труда протискался при своей тучности в довольно узкий проход между этим столом и стеною и подошёл к великому князю с поклоном, которому безуспешно старался придать грацию и лёгкость, немыслимые при его фигуре.
– Не усердствуйте понапрасну, Пехлин! – весело воскликнул по-немецки великий князь. – Вам ни за что не раскланяться как следует. Со стороны природы прямо безрассудно, что она употребила такую массу материала на одного человека. Скажите-ка мне, – продолжал он с громким смехом, – встречаетесь ли вы взглядом с собственными коленями? Я убеждён, что если бы его британское величество пожаловал вам орден Подвязки, то вы не могли бы любоваться без зеркала этим блистательным знаком отличия.
Пехлин с искренней весёлостью расхохотался над очередной шуткой своего повелителя, которые привык выслушивать от него по всякому поводу, и сказал:
– Моя тучность хотя лишена грации и тяжеловесна, но зато почтенна и внушительна. Могу сказать, что я заслужил её честным образом и никогда не упрекал себя в том, что питал дурными яствами своё тело, которое обязан чтить, как оболочку богоподобной души.
– Нет, нет, подобного упрёка вы не заслужили! – подхватил великий князь. – Ведь если бы собрать всё бургундское, выпитое вами, то составилось бы, я полагаю, порядочное море, где нашлось бы место всем устрицам, которые вы скушали.
– Устрицы – благородный продукт Голштинии, и если я люблю их, то лишь подражая вкусу моего всемилостивейшего герцога.
– Вы правы! Однако эта пища не идёт мне впрок; видите, я всё худею... Мне не дают покоя, меня то и дело раздражают... Вам следовало бы дать мне свой рецепт, Пехлин; кажется, вы никогда не сердитесь. Хотел бы я знать, как вам это удаётся?
– Кто сердится, тот угождает другим и вредит себе. Держитесь, ваше высочество, мудрого правила поступать как раз наоборот, и вы почувствуете себя здоровее, а, может быть, со временем достигнете и того, что распрощаетесь до конца жизни со своими августейшими коленями.
– Вы правы. Я буду подражать вам и перестану сердиться... Но почему вы смотрите с таким удивлением на мой стол?.. Это арена моего обучения... и моего труда. Вы пользуетесь библиотекой и архивами, а то, что вы видите здесь, заменяет мне книги. Кто хочет управлять государством, должен прежде всего быть хорошим солдатом, по примеру его величества короля Пруссии. Таким образом я обязан готовиться к военной карьере, а так как её величество, моя всемилостивейшая тётка, не даёт в моё распоряжение настоящих солдат, то я должен довольствоваться пока этими. Видите ли, тут, в уединении, я упражняюсь втихомолку, чтобы приобрести уменье командовать собственной армией, когда я стану императором и объявлю войну датскому королю, который причинил столько зла моей стране и мне лично и которому я поклялся отомстить, как немецкий государь и голштинский герцог.
Пехлин слегка откашлялся и вынул из кармана жилета золотую табакерку, осыпанную бриллиантами, чтобы взять щепотку табака, как он делывал всегда, если что-нибудь неприятно задевало его или приводило в минутное затруднение.
– С чем же вы пришли ко мне, однако? – спросил великий князь. – Присядемте-ка да займёмтесь немного администрацией нашего маленького герцогства, правда незначительного в сравнении с обширным русским государством, но между тем прекрасного – со своими шумящими лесами и белым песчаным берегом моря!.. Итак, что вы желали сообщить мне? Я уже знаю... в Голштинии нет денег... в мою кассу оттуда не может поступить ничего... ещё с меня же требуют какой-нибудь денежной поддержки! Ведь я – наследник богатой Российской империи и должен купаться в изобилии! Так думают там... Но, говорю вам, Пехлин, у меня нет ничего, ровным счётом ничего. Я даже недоумеваю, каким образом расплачусь с собственными долгами.
Министр, опускаясь на мягкую скамью по знаку великого князя, ответил:
– Я пришёл не с тем, чтобы говорить вам, ваше императорское высочество, о денежных расчётах или требовать денег. Господин Цейтц оставил у себя счётные книги и предъявит их в своё время. То, о чём я обязан доложить вам, гораздо важнее и касается иностранной политики.
– Иностранной политики? Да разве в Голштинии существует иностранная политика? Положим, со временем она возникнет, когда герцог голштинский сделается русским императором и объявит войну датскому королю.
– Тем не менее и теперь для Голштинии создалась уже иностранная политика, так как через несколько дней, пожалуй, даже сегодня, сюда прибудет граф Линар, которого датский король отправил в качестве чрезвычайного посла с особыми поручениями ко двору герцога голштинского.
– Как, датский король отправил ко мне посла?! – воскликнул великий князь, порывисто вскочив с места и принудив этим барона с пыхтеньем подняться в свою очередь. – Датский король?.. Что такое ему понадобилось?.. Опять какие-нибудь пограничные распри? Пожалуй, у меня снова собираются отторгнуть под тем или иным ничтожным предлогом полосу земли или деревню в пределах моих владений?
– Более того, ваше высочество, – подтвердил министр. – Чтобы покончить раз навсегда с пограничными спорами и нескончаемыми трениями, датский король поручил графу Линару предложить вам, ваше высочество, променять герцогство Голштинское на графство Ольденбург и Дельменгорст.
Сказав это, барон обречённо посмотрел на своего государя. Удар был нанесён, оставалось спокойно выждать его ответного действия.
Лицо великого князя побагровело – с такой силой ударила кровь в виски, глаза дико бегали, губы дрожали; он порывисто расстегнул мундир, словно задыхался, а его сердце готово было выскочить.
– Уступить? – воскликнул Пётр Фёдорович срывавшимся, хрипло вылетавшим из его слабой груди голосом. – Уступить моё герцогство, землю моих предков, моё наследие, которое мне совсем не следовало покидать ради жалкого рабства, ожидавшего меня здесь?.. Продать мои владения и моих подданных? Право, на такое преступное предложение способен только датский король! Но никогда, никогда не бывать этому, – слышите, Пехлин? – никогда! Моя страна не приносит мне никаких доходов, однако я – её повелитель и герцог; я принадлежу моим подданным, как они принадлежат мне, и ни за что не расстанусь с ними. Когда прибудет этот граф Линар, то скажите ему, что я вовсе не намерен принимать его, как и вообще всякого посла датского короля, и что я охотнее откажусь от всего русского государства, чем от одной квадратной мили моего герцогства.
Великий князь принялся ходить торопливыми шагами взад и вперёд по кабинету.
– Ваше императорское высочество, – промолвил барон Пехлин, когда Пётр Фёдорович опустился наконец в полном изнеможении на стул, – вы не дали мне докончить мой доклад, а я как раз завершил бы его теми же словами, которые слышал сию минуту от вас, именно, что о предлагаемом графом Линаром обмене не может быть и речи.
И министр, пыхтя, снова уселся на мягкую скамью.
– Ах, Пехлин, – воскликнул великий князь, нагибаясь к своему министру и хватая его за руку, – вы славный человек! Спасибо вам!.. И сочувствуете мне! Так передайте же этому графу Линару, что я не дам ему аудиенции и что его миссия напрасна. Скажите этому господину в резкой форме ваше мнение и спровадьте его обратно, – вот и делу конец!.. Видите, – с горечью прибавил он, – как скоро я забываю мои добрые намерения: я опять повредил себе, и если бы датский король мог увидеть меня в данную минуту, то порадовался бы вспышке моего гнева. Ах, это всегда вызывает у меня боль вот тут, в сердце, как будто под напором крови готовы лопнуть все сосуды, когда во мне кипит гнев! – Великий князь прижал руки к сердцу, откинулся с побледневшим лицом на спинку стула и закрыл на мгновение глаза. – Итак, – повторил он слабым голосом, – вы спровадите этого Линара и избавите меня от необходимости высказать ему лично моё мнение. Я не сумел бы сделать это с соблюдением дипломатических тонкостей, как сделаете вы.
– Прошу всемилостивейшего прощения, ваше императорское высочество, – осторожно возразил барон фон Пехлин. – Я не могу посоветовать вам такое решение настоящего дела и буду настоятельно просить вас принять графа Линара, даже обойтись с ним приветливо...
– Как? – воскликнул Пётр Фёдорович, с удивлением обращая на министра свой утомлённый взор. – Я должен оказать приветливый приём тому, кто является ко мне с таким дерзким предложением?.. Даже выслушать его было бы для меня унизительно!
– Выслушать ещё не значит вступать в переговоры, – перебил барон, – а перехитрить противника, ловко провести его и, наконец, иметь возможность поднять его на смех – гораздо выгоднее, приятнее для собственного самолюбия, а потому и умнее, чем оттолкнуть его одним ударом, который может показаться посторонним лицам несправедливостью с нашей стороны.
– Правда, Пехлин, вы так полагаете? – спросил великий князь всё ещё слабым голосом, едва шевеля бледными, дрожавшими от изнеможения губами. – Да, да, вы, пожалуй, правы... так оно и есть. Что толку волноваться?.. Будем благоразумны... будем осторожны... будем дипломатами... Предоставим этому датскому королю выступить с его потешным планом. Разоблачим все его намерения, чтобы иметь в руках оружие против него.
Глаза великого князя снова оживились, он выпрямился, довольный мыслью, поданною ему Пехлином.
– Совет, который я осмелился подать вам, ваше императорское высочество, – продолжал министр, – тем необходимее и благоразумнее, что вы – не только голштинский герцог, но также будущий император России...
– То есть будущий союзник герцога голштинского против датского короля!
– Совершенно верно, ваше императорское высочество. Но будущее отстоит от нас далеко, а вам необходимо сообразоваться с теперешней Россией и её политикой. Россия же в данный момент нуждается в дружеских отношениях с Данией. Если бы вы, ваше императорское высочество, в качестве герцога голштинского, отказались принять графа Линара, то этим поступком русский великий князь оскорбил бы короля Дании и навлёк бы на себя, как я полагаю, гнев её величества государыни императрицы.
– Хорошо, хорошо... я понимаю: исполнив свой долг пред родимой страной, герцог голштинский подверг бы русского великого князя немилости его августейшей тётки, – с горьким смехом сказал Пётр Фёдорович.
– Но если, ваше императорское высочество, вам будет благоугодно следовать добрым намерениям и обуздывать порывы своего гнева, то вы не повредите себе и тем вернее восторжествуете над датским королём и его предложениями, да ещё вдобавок будете вознаграждены благосклонностью государыни императрицы, угодив ей.
– Да, да, вы правы, Пехлин, – воскликнул на этот раз совершенно повеселевший великий князь, – я приму этого Линара, я буду дипломатом, а потом отошлю его к вам, но зато вы должны отделать его хорошенько! – воскликнул он, хлопая в ладоши почти с детской радостью. – Пускай весь свет посмеётся над ним, когда увидит, что на голштинском дворе не потерпят чужого петуха!
– Итак, ваше императорское высочество, – спросил барон Пехлин, – вы поручаете мне, по прибытии графа Линара, вступить с ним в переговоры относительно обмена герцогства Голштинского на графство Ольденбург?
– Ну да, конечно, Пехлин, – подхватил великий князь, – я даю вам поручение при том условии, однако, чтобы оно не было исполнено!
Тут голштинский министр вынул из кармана своего сюртука сложенный лист пергамента и сказал:
– В таком случае, ваше императорское высочество, соизвольте подписать вот это полномочие.
Он развернул пергамент и подал его великому князю.
– А тут сказано, – осведомился Пётр Фёдорович, – что о предложенном обмене не может быть и речи?
– Ваше императорское высочество, это – лишь полномочие к вступлению в переговоры, то есть к выслушиванию предложений. Мне известны воля и мнение вашего высочества, и я обязуюсь сообщать вам о каждой мелочи в ходе переговоров.
Пётр Фёдорович дёрнул за ручку звонка. Сержант Бурке принёс письменный прибор, и так как единственный стол в комнате был загромождён крепостью с солдатиками, то великий князь подписал документ у себя на коленах, после чего отдал его обратно барону.
– Только смотрите, Пехлин, отделайте хорошенько датского посла, прежде чем спровадить его назад, – вставая, воскликнул он таким тоном, который ясно давал понять, что повелитель Голштинии считает это дело поконченным раз навсегда и не расположен больше заниматься внешней политикой своего герцогства.
Пехлин поднялся, смахнул несколько крупинок нюхательного табака с своего батистового жабо и сказал:
– Само собой разумеется, всемилостивейший государь, что всё это дело должно оставаться в строжайшей тайне, потому что, если бы датский король заранее узнал как-нибудь стороной о ваших истинных намерениях, то моё служебное положение было бы скомпрометировано.
– Конечно, Пехлин! Так уж вы держите всю эту историю в секрете и не говорите о ней ни с кем.
– Понятно, ваше императорское высочество, – промолвил министр, несколько озадаченный таким поворотом разговора. – Осмеливаюсь только убедительнейше просить вас, чтобы вы, со своей стороны, соблюдали безусловное молчание о настоящем деле. Важнее всего, чтобы о нём не проведали дамы.
– Дамы? – переспросил немного удивлённый великий князь. – Вы подразумеваете, вероятно, великую княгиню? Будьте покойны, моя жена не узнает о том ничего.
– Теперь, – продолжал Пехлин, – мне остаётся ещё доложить вам относительно внутренних дел Голштинии. Сегодня утром я получил оттуда уведомление о посылке в Петербург превосходных отборных устриц. В теперешнее холодное время года они должны прибыть совершенно свежими и в лучшем виде. Я ожидаю их с часу на час и немедленно препровожу к вам, как только посылка будет получена.
– Вы перл, а не министр, Пехлин! – воскликнул великий князь, так сильно хлопнув толстяка по плечу, что тот едва не потерял равновесия. – Постарайтесь же убедить графа Линара, что голштинская устрица никогда не попадёт в рот датскому королю.
Барон Пехлин снова сделал безуспешную попытку отвесить грациозный поклон, после чего, осторожно протискавшись между стеной и столом, вышел из комнаты.