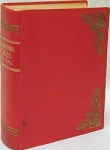Текст книги "При дворе императрицы Елизаветы Петровны"
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 52 страниц)
Глаза императрицы наполнились слезами, она как бы в молчаливом согласии кивала головой.
– Его супруга, – продолжал Разумовский, – иностранка, немка; если у неё и есть ум, то всё-таки муж не даст, никогда не позволит ей править страной, и она сама никогда не будет в состоянии приобрести прочное расположение в народе... Повсюду вижу я только несчастье, горе и распад.
Императрица молчала.
– Ещё есть время все спасти, – продолжал Разумовский. – Благодаря воле своего великого отца ты имеешь право передавать трон по своему собственному желанию тому, кто более подходит для этой великой миссии. Тебе даже не надо прибегать к тем жестоким и крайним мерам, которые употреблял твой отец, чтобы обеспечить будущее благосостояние государства. Если ты отправишь великого князя в его наследственную страну, то всё-таки он будет владетельным герцогом, что вполне достойно его царственного происхождения.
Елизавета Петровна лёгким наклоном головы показала, что вполне разделяет мысль собеседника.
– Итак, Елизавета, – закончил свою речь Разумовский, – если ты всенародно заявишь, какими милостями осчастливлен я, то, во-первых, во мне ты найдёшь преданного, отважного и верного помощника, а твой сын Алексей будет под твоим личным руководством учиться, как нужно управлять обширным государством и как вести его к славе и могуществу.
Императрица откинула назад голову и произнесла:
– Да, я имею права назначить себе наследника, но кровь Романовых прежде всего имеет право на наследование трона Петра Великого.
– А разве в жилах твоего сына Алексея не течёт кровь Романовых? – задал ей вопрос Разумовский.
Елизавета с невыразимым высокомерием взглянула на него, и у неё уже готово было сорваться обидное слово, что её сын рождён от украинского мужика, одного из её бесчисленных подданных.
Разумовский понял этот взгляд и, прежде чем она раскрыла рот, произнёс:
– Разве в жилах мальчика не течёт кровь Романовых, кровь Петра и его супруги, которую он поднял до себя и которая потом столь славно и блестяще управляла государством?
Елизавета Петровна потупилась.
Некоторое время она сидела молча, в то время как Разумовский испытующе смотрел на неё, а затем сказала:
– Подобного рода вещи нельзя решать в одну минуту! Я очень благодарна тебе, Алексей Григорьевич, за твой совет; будь спокоен, что я не забуду его и позабочусь о моих детях. Я подумаю, и, надеюсь, Бог просветит меня, как поступить, чтобы устроить всё ко благу России.
Она протянула графу руку; он поцеловал, не произнеся ни слова, так как понимал, что теперь не имело смысла продолжать разговор.
– Ты назначила этого молодого голштинца, камергера великого князя, в учителя к князю Алексею? – сказал он после некоторого молчания.
– Ребёнок полюбил его, – ответила государыня с мгновенным смущением на лице.
– И ты хочешь приблизить его к себе? – спросил опять Разумовский. – Он понравился тебе?
– Он красив, – ответила императрица, – красив и ловок; может быть, он доставит мне некоторое развлечение; необходимо время от времени менять лица приближённых; я это узнала со времени Панина, – прибавила она с лёгкой улыбкой.
– Будь осторожна, Елизавета! – сказал Разумовский. – Этот барон не произвёл на меня впечатления человека, который удовлетворится ролью развлекателя.
– А если он окажется достойным быть чем-нибудь и больше? – спросила Елизавета. – Разве я не имею права выбирать себе друзей?
– Само собой разумеется, ты имеешь право, но нужно, чтобы эти друзья были преданы и верны тебе. И мне меньше всего хотелось бы, чтобы в число этих друзей входили иностранцы. Но я буду наблюдать...
– И можешь быть спокоен, – сказала Елизавета Петровна, протягивая Разумовскому руку, – что я приму твой совет, так как из всех моих друзей ты – самый надёжный и самый старый мой друг. – Она склонилась к графу и почти нежно поцеловала его в обе щеки, а затем, встав, сказала: – Теперь мне пора во дворец. Будь спокоен, я не забуду нашей беседы.
– А я пойду к детям, – ответил Разумовский, – мне приятно вспоминать под их весёлую болтовню счастливые годы моей молодости. Я буду молить Бога, чтобы Он даровал им счастливое будущее.
Он подал государыне руку и повёл с лестницы к дверям, у которых её ожидали маленькие санки, запряжённые четвёркой нетерпеливых и быстрых коней.
Граф накинул на плечи императрицы широкий плащ голубого бархата, опушённый соболем, на руках усадил её в сани и заботливо укрыл её ноги громадной медвежьей полостью. Она ещё раз милостиво ему кивнула, и сани стрелой полетели к Зимнему дворцу.
Глава сорок четвёртая
Пока Ревентлов давал князю Тараканову первый урок фехтования, сэр Чарлз Генбэри Уильямс явился к Чоглоковой с запиской от Репнина. На нём был скромный серый мещанский костюм, в руках он держал папку, палитру и ящик с красками.
Прочтя поданную ей записку, Чоглокова, улыбаясь, вскинула на посла глаза и промолвила:
– Вам ни к чему, сэр Чарлз, скрываться предо мною; хотя, нужно вам отдать справедливость, маску вы носите с неподражаемым искусством. Если я, во всяком случае, и представлю вас её императорскому высочеству как художника Чарлза Смита, которого рекомендовал мне Николай Васильевич Репнин, то для меня всё-таки не тайна что эта папка, содержащая сегодня, может быть, только несколько эскизов, предназначена скрывать дипломатические депеши, и до порога покоев её высочества я не должна забывать, что имею честь видеть у себя представителя его величества короля великобританского.
Чоглокова указала Уильямсу на кресло. Посол с лёгким, непринуждённым поклоном опустился и, положив папку на колени, сказал:
– Я ни минуты не сомневался, что дама, ум и очарование которой в таких горячих выражениях описывал мне господин Репнин, легко догадается, кто я, хотя, конечно, – прибавил он, – несмотря на живое описание господина Репнина, я никогда не подозревал, что такая красота соединяется с таким умом!
Сделан ли был этот довольно-таки грубый комплимент по внушению Репнина или по собственному побуждению Уильямса, однако действие его не замедлило сказаться, – Чоглокова зарделась от удовольствия; затем, скромно опустив взор, она сказала:
– Вы поймёте меня, раз вы так хорошо знаете свет и людей, что я подвергаюсь немалой опасности, вводя вас к её высочеству до вашего представления ко двору; поэтому рассчитываю на вашу безусловную скромность. Я играю в опасную игру, чтобы сделать приятное другу, который, по его словам, также и ваш друг, и вполне полагаюсь на вас.
– Я предполагаю, – сказал Уильямс, – что доверие к нашему общему другу было полное, прежде чем я имел честь явиться к вам, и я уверен, что не стану тем подводным камнем, о который может разбиться такая твёрдая уверенность. Я дипломат с самой ранней юности, а там, где надо слушать, дипломат обязан быть подобен губке, всё впитывающей в себя; там же, где дело касается разговора, он должен обладать твёрдостью камня, который можно раздробить, но из которого никакая сила в мире не может выжать ни одной капли. Дипломат должен быть подобен вот этому камню, – продолжал он, вынимая из кармана футляр, в котором сверкал великолепный бриллиант. – Вы видите, он переливается всеми цветами радуги, но никто не может проникнуть в него, не превратив его в пыль. Прошу вас, – сказал он, наполовину доверительным, наполовину почтительным движением кладя футляр на колени Чоглоковой, – принять этот камень, как прообраз истинного дипломата, в воспоминание о том часе, когда мне удалось убедиться, что приятельница господина Репнина в несколько раз превосходит его описание.
Чоглокова, восхищенным взором следя за прекрасной игрой бриллианта, произнесла:
– Вы действительно умеете говорить убедительно и ещё более вселить уверенность в вашей скромности. Я надеюсь, что мне удастся сейчас же провести вас к её высочеству, только, – смотря в сторону, прибавила она, – я принуждена буду, во избежание подозрений, остаться при вашем разговоре с великой княгиней и не сомневаюсь, что вы не откажете и мне в том доверии, которое вы внушили мне.
– Я могу только желать того, чтобы приятельница господина Репнина присутствовала при моей беседе с великой княгиней, – ответил Уильямс, нисколько не меняя выражение своего улыбающегося лица. – Таким образом будут устранены все нелепые предположения, и тем вернее я сойду перед светом за бедного и незначительного художника, просящего чести представить её высочеству свою работу. Чтобы вы могли убедиться, – продолжал он, – что я безопасно могу носить эту маску, я прошу у вас позволения представить вам маленькое доказательство моего умения в этой области, приобретённого мною в часы досуга.
Он открыл папку, вынул оттуда листы бумаги и карандаш и в короткое время штрихами набросал портрет Чоглоковой. Эскиз был настолько похож на оригинал и при этом настолько приукрашен и идеализирован, что Чоглокова много дала бы за то, чтобы вполне походить на портрет, который Уильямс почтительно передал ей.
– Едва ли я в состоянии судить, похож ли портрет, – ответила она с довольной улыбкой, глядя на рисунок, – потому что мы по наружности так же мало знаем себя. Впрочем, как и внутренне.
– Искусство никогда не может угнаться за природой, – сказал Уильямс, – но я сделал всё возможное, чтобы в приблизительных чертах набросать прелестный образ, который служит мне моделью. Покажите мой рисунок человеку беспристрастному, и я убеждён, что моё искусство, которым я горжусь, выдержит любую критику.
– Это прекрасная мысль, – воскликнула Чоглокова, – таким образом ваше появление у великой княгини будет вполне естественным. Подождите одну минутку, может быть, вам сейчас же удастся получить аудиенцию у её высочества.
С этими словами она опустила кольцо в карман и с лёгким поклоном исчезла из комнаты.
«Поразительно, как управляются судьбы народов! – размышлял между тем Уильямс, с улыбкой смотря ей вслед. – Государственные люди в напряжении ума придумывают различные комбинации... И все эти комбинации могли бы рухнуть, если бы какой-то бриллиантик да несколько комплиментов не помогли мне сделать первый шаг на моём нелёгком пути! И люди смеют утверждать, что разум управляет миром! – насмешливо пожал он плечами. – Хотя, конечно, здесь есть тоже доля правды, – с гордым самодовольством прибавил он, – так как золото, бриллианты и лесть были бы бесполезны, если бы ими не управлял разум. Итак, подождём...»
Он уселся поудобнее и задумчиво принялся чертить что-то на листе бумаги.
Чоглокова застала великокняжескую чету со всей свитой, среди которой только не хватало Ревентлова, ещё в столовой за завтраком. Великий князь находился в самом благодушном настроении – лицо заливала яркая краска, которая могла, с одной стороны, явиться признаком внутреннего возбуждения, а с другой – следствием немалого количества выпитой им старой мадеры. Он неумолкаемо хохотал над остротами, которыми так и сыпал Нарышкин, занимая общество. Ядвига Бирон не отрывала взора от тарелки, словно боясь взглянуть. Салтыков также был оживлённее обыкновенного, и только один Чоглоков был мрачен и задумчив, что придавало его грубоватому лицу слегка комичное выражение.
– Прошу вас, ваше императорское высочество, – сказала Чоглокова, подавая великой княгине рисунок, – взглянуть на этот портрет и сказать мне, узнаете ли?.. Это будет лучшей оценкой таланта художника.
Взглянув мельком на портрет, великая княгиня воскликнула:
– Великолепно, превосходно! Сходство поразительное!
Великий князь взял рисунок из рук жены и сказал:
– Действительно, нельзя не сознаться, это вы, только... – с этими словами он передал рисунок Чоглокову и продолжал: – Взгляни-ка сам, Константин Васильевич, это – твоя жена!
– Она далеко не так молода и никогда не была так красива, как на портрете, – ответил Чоглоков.
– А я, наоборот, нахожу, – нагибаясь к нему, чтобы взглянуть на портрет, воскликнул Нарышкин, – что художник лет на десять состарил свою модель. Я охотно дал бы нарисовать мой портрет, чтобы получить представление, как я буду казаться почтенным стариком.
– Да, да, ты прав, – с громким хохотом воскликнул великий князь, – пусть он нарисует нас всех, если его карандаш имеет силу вызывать на бумагу образы грядущего. – Недобрый огонёк сверкнул в его глазах, а затем он равнодушно прибавил: – А кто этот художник, нарисовавший этот замечательный портрет, который вызвал у Чоглокова такое негалантное замечание и за которое, я надеюсь, он не избегнет должного наказания?
Чоглокова мельком взглянула на мужа, и в этом взгляде ясно можно было видеть, что желание великого князя будет исполнено. После этого она ответила:
– Молодой англичанин, сэр Чарлз Смит, прекрасно говорящий, между прочим, по-французски, так что, даже не зная варварского языка этих островитян, с ним можно легко объясняться. Его рекомендовал мне Репнин, и этот рисунок он набросал мне в несколько минут. Он был бы счастлив, если бы ему разрешили попытаться перенести на полотно черты лица великой княгини.
Екатерина Алексеевна на секунду испытующе взглянула на Чоглокову, думая найти в её взоре какой-нибудь знак, и затем произнесла:
– Я с удовольствием готова предоставить ему эту возможность и надеюсь, – добавила она улыбаясь, – что мой супруг не будет так невежлив, как Константин Васильевич.
– Конечно, нет, – воскликнул великий князь, также сверкнув глазами, – я буду постоянно находить свою жену прекрасной, как весь свет, – прибавил он резким тоном, от которого Екатерина Алексеевна удивлённо вскинула на него взгляд, между тем как Ядвига Бирон, с чуть заметной улыбкой, ещё ниже склонилась над тарелкой. – Пусть он сейчас же покажет нам своё искусство! – воскликнул великий князь. – Пригласите вашего протеже, он нарисует портрет великой княгини, а мы все будем судьями!
– Нет, не здесь, – возразила Екатерина Алексеевна, пристально глядя на Чоглокову, – в большом обществе художник будет смущён. Пусть госпожа Чоглокова проведёт его в мою комнату, там он набросает рисунок, а я представлю его потом на суд всего общества.
– Да, это лучше, – поднимаясь из-за стола, согласился великий князь, – кроме того, у меня немало работы. Идёмте, мой милый Брокдорф! В последнее время, благодаря этим театральным представлениям, мы многое запустили, нам всё нужно нагнать.
– Надеюсь, – заметил Нарышкин, когда всё общество встало, – что во время отсутствия господина коменданта в крепости не вспыхнул мятеж.
Брокдорф, с важным видом выступавший рядом с великим князем, кинул на Нарышкина свирепый взгляд, а Пётр Фёдорович круто повернулся и, грозно нахмурив брови, запальчиво воскликнул:
– Я запрещаю тебе, Лев Александрович, насмехаться над серьёзными вещами, касающимися моей службы!
Нарышкин скрестил руки на груди и поклонился с таким комическим видом глубокого почтения, что никто не мог удержаться от хохота, и даже сам великий князь, несмотря на всё своё недовольство, не мог скрыть улыбку, причём промолвил:
– Ты дурак, Лев Александрович, а с дураками не стоит говорить о серьёзных вещах. Пойдёмте, Брокдорф.
С этими словами он исчез за дверью.
Екатерина Алексеевна, приветливо кивнув всему обществу и мельком бросив взгляд на Салтыкова, вместе с Чоглоковой удалилась к себе и отпустила своих дам.
– Что это за художник? – спросила она, оставшись наедине с обер-гофмейстериной. – Мне кажется, тут скрывается какая-нибудь тайна под этим простым именем Чарлза Смита?
– Прошу вас, ваше высочество, не спрашивать меня, – ответила Чоглокова, – вы увидите сами, я же прошу об одной лишь милости – подтвердить, если это будет нужно, что я представила не кого-либо другого, как только художника Чарлза Смита.
Она поспешно вышла и через несколько минут возвратилась с сэром Уильямсом.
Екатерина Алексеевна проницательным взором окинула вошедшего, Чоглокова же почтительно отошла в сторону.
– Кто вы такой, – спросила великая княгиня по-французски, – и ради каких причин пожаловали ко мне? Говорите откровенно, так как я не люблю загадок.
– Я явился к вам, ваше высочество, не для того, чтобы задавать загадки, – возразил Уильямс спокойным тоном человека, привыкшего беседовать с сильными мира сего, – я пришёл нарисовать ваш портрет, ваше высочество, и высказать вам одну просьбу, если вы останетесь довольны моим произведением. Сидя в комнате госпожи Чоглоковой, – продолжал он, – я отдался мечтам о будущем, что всегда позволительно человеку, в особенности когда он готовится предстать перед особой, в руках которой находятся вся будущность и все надежды. И вот, в то время, когда я мечтал, моя рука выводила различные арабески, которые я и позволяю себе показать вам, как образчик моего искусства.
Он вынул из папки лист и протянул его великой княгине, в то время как Чоглокова продолжала стоять и слушать, не вполне ясно понимая, что он хочет сказать.
Великая княгиня бросила быстрый взгляд на рисунок и увидела, что там, среди орнаментов, завитушек и арабесок, было начертано её имя, увенчанное сверху большою императорскою короною. Яркая краска покрыла её лицо, и, отведя взор от рисунка, она быстро взглянула на своего собеседника, который несколькими штрихами сумел выразить её самые сокровенные мысли.
Чоглокова приблизилась было с намерением взглянуть на рисунок, но Уильямс уже успел спрятать его обратно в папку.
– Действительно, – притворяясь равнодушною, сказала великая княгиня, – ваш рисунок говорит о богатстве пашей фантазии, и я охотно соглашаюсь на ваше желание нарисовать мой портрет. – Она села в кресло и кивком головы пригласила Чоглокову занять место рядом с нею, после чего продолжала: – Объясните же теперь, в чём состоит ваше желание; я не всемогуща, но, если будет возможно, с удовольствием окажу содействие человеку, у которого столь верный взгляд и такая ловкая рука.
Уильямс, расположившись на табурете против великой княгини, положил на колени папку и, приготовившись рисовать, произнёс:
– Моя просьба состоит в том, чтобы вы, ваше высочество, помогли мне в возможно скорейшее время быть представленным её императорскому величеству.
– Вы хотите иметь доступ к императрице? – почти испуганно воскликнула Екатерина Алексеевна. – Но если вы обладаете приблизительно такою же наблюдательностью, как и талантом, то вы могли уже заметить, что моё положение при дворе как раз в этом отношении не может оказать вам услугу. Если же вы хотите нарисовать портрет императрицы, то вот госпожа Чоглокова может, пожалуй, обратить внимание императрицы на ваш талант.
– Не то, ваше высочество, – возразил Уильямс, – я хочу предстать пред императрицей не в качестве рисовальщика; моё желание выше: мне хочется видеть её императорское величество в таком месте и при таких обстоятельствах, чтобы весь двор видел это и чтобы никто не мог сказать, будто я не беседовал с императрицей.
– Не понимаю этого! – возразила Екатерина Алексеевна. – Ведь я уже сказала вам, что не люблю отгадывать загадки.
– Ваше высочество, вы сейчас всё поймёте, – ответил Уильямс, набрасывая контур головы великой княгини. – Вам известно, что уже в древних мифах, сказках и метаморфозах древние боги, распалённые любовью, принимали разные образы, а злые волшебники превращали своих врагов в диких зверей или же, делая невидимыми, уводили их в плен. Такие превращения всегда влияли в положительную или отрицательную сторону, и, я думаю, эти превращения могут оказаться полезными и теперь для уничтожения антипатии, которую какое-нибудь лицо чувствует к другому. В данном случае мне необходимо побороть антипатию императрицы, которую она чувствует к некоторым лицам.
– Прошу вас, – сказала Екатерина Алексеевна, – покинуть сказочный мир и перейти на почву действительности. К кому питает антипатию её величество и каким способом хотите вы уничтожить эту антипатию?
– Известно, – ответил Уильямс, – что её величество императрица питает особое отвращение к политическим вопросам и ко всякого рода политическим соглашениям, вследствие чего она всего менее склонна принимать дипломатов, которые, как ей это уже заранее известно, станут беседовать с ней о политике. Но когда представитель иностранной державы имеет крайнюю и настоятельную нужду, даже в собственных интересах императрицы, принудить её к принятию какого-нибудь решения, то вполне естественно, что для того, чтобы найти доступ к императрице, он должен прибегнуть к одной из тех метаморфоз, которые так существенно помогали в древние времена.
– Мне кажется, это дело великого канцлера, – возразила Екатерина Алексеевна. – Насколько мне известно, чужестранные послы имеют право ходатайствовать об аудиенции у её величества, а, кроме того, могут беседовать с ней на придворных балах.
– Конечно, ваше высочество, – промолвил Уильямс, – вы совершенно правы, но бывают случаи, когда это право совершенно игнорируется. Если вам, ваше императорское высочество, будет угодно обсудить, то вы поймёте, что представитель иностранной державы может вести деловые переговоры не ранее того, как им будут вручены монарху верительные грамоты. Когда же её величество откладывает со дня на день аудиенцию для принятия этой грамоты, то бедный дипломат осуждён на бездеятельность и дорогое время теряется даром.
– В таком положении, – смеясь, заметила Екатерина Алексеевна, – находится, как говорят, новый посол его величества короля великобританского сэр Чарлз Генбэри Уильямс. Он должен быть здесь...
В эту минуту Уильямс встал и, сделав низкий церемонный поклон, произнёс:
– И будь он здесь, то он, подобно мне, выразил бы вам, ваше высочество, ту же самую просьбу – оказать ему поддержку. Ваше высочество, вы понимаете, что если бы сэр Чарлз Генбэри Уильямс явился к императрице в качестве художника, подобно тому, как я проник к вам, то он был бы тем же образом и отпущен и не был бы в состоянии предпринять какие-либо шаги в качестве английского посла. Ему необходимо предстать перед глазами её величества при полном сборе придворных, в присутствии сэра Гью Диккенса, чтобы уже невозможно было игнорировать его присутствие.
Великая княгиня кивком головы показала, что вполне понимает Уильямса, но тем не менее её лицо сохраняло серьёзное, почти мрачное выражение, и она холодным тоном ответила:
– Я вполне понимаю затруднение сэра Чарлза Генбэри Уильямса; мне понятно также, что этот дипломат, о ловкости которого мне столько рассказывали, может принять любой образ; только не понимаю я: как он, зная так хорошо здешнюю придворную жизнь, пришёл к мысли, что только я могу помочь ему в достижении его цели? И потом, почему он думает, что я склонна быть полезною ему?
Уильямс не выказал при этих словах никакого удивления и тем же обычно спокойным тоном возразил:
– Я уже имел честь выразить свою просьбу, и мне ничего не остаётся прибавить к ней. Если портрет, нарисованный мною, будет удачен и понравится вам, то, может быть, в виде награды, вы найдёте возможным исполнить мою просьбу.
Великая княгиня, улыбнувшись, покачала головой. Но Уильямс с тем же невозмутимым спокойствием продолжал:
– А чтобы портрет вышел удачнее и был как можно ближе к прелестному оригиналу, я должен просить у вас, ваше высочество, позволения оставить политический разговор и заняться более приятной беседой, которая оживила бы черты вашего лица и придала бы им непринуждённую естественность.
– Болтайте о чём угодно, – ответила Екатерина Алексеевна, – всякий разговор заинтересует меня гораздо больше политики, которой я чужда и должна остаться чуждой.
– Так оставим язык дипломатов, – сказал Уильямс. – Каждое лицо становится естественным и прекрасным, когда человек начинает думать и говорить на своём родном языке. Мне кажется, я вполне свободно владею немецким языком и прошу вас, ваше высочество, разрешить мне при помощи звука родных вам слов пробудить в вашей душе воспоминания о родине. Я прошу вас, ваше высочество, – сказал он на чистом немецком языке, – спокойно выслушать меня. Присутствующая здесь дама не понимает этого языка, как мне известно, а то, что я хочу сказать вам, предназначается только вам и для остальных должно остаться тайной.
Чоглокова при первых же звуках немецкой речи сделала движение, как будто хотела остановить Уильямса, но затем постаралась прогнать выражение недоверия со своего лица и сделала вид, как будто понимает по-немецки, в силу чего на её лице появилось несколько комическое выражение. Последнее было немедленно замечено великой княгиней, и это придало всей сцене особую пикантность.
– Ваше высочество, – продолжал тем временем Уильямс, – вы задали мне вопрос, как пришло мне в голову просить вас о содействии; я откровенно отвечу вам, что это посоветовал мне человек, отлично знающий здешнюю придворную жизнь и имеющий верное суждение о всех; это – великий канцлер.
– Я не знала, – смущённо сказала Екатерина Алексеевна, – что великий канцлер имеет такое мнение о моём могуществе и влиянии, и вообще не понимаю, почему он так думает.
– Он знает ваш ум, ваше высочество, – возразил Уильямс, – и уверен, что для этого ума препятствий не существует. При воспоминании об этом разговоре моя рука невольно начертила те арабески, которые я уже имел честь показывать вам, ваше высочество.
Екатерина Алексеевна вспыхнула и прикрыла длинными ресницами внезапно вспыхнувший взор, а затем сказала:
– Но если бы я действительно нашла способ исполнить вашу просьбу, то всё-таки остаётся вопрос, ради чего я стану делать это. Буду откровенна с вами, – продолжала она, – так как, пожалуй, с таким проницательным дипломатом, как вы, всякая скрытность будет излишня. Мне известно, что в Лондоне с большим нетерпением ожидают подписания договора о соглашении с Россией, и не сомневаюсь, что вам это поставлено в главную задачу.
– Ваше высочество, – произнёс Уильямс, – вы выясняете политическое положение с тою присущею вам широтою взгляда, которую канцлер, как он мне говорил, уже не раз имел честь замечать в вас.
– Несмотря на опасность показаться в ваших глазах не столь умной, – возразила Екатерина Алексеевна, – я всё же должна сказать вам, что, по моему глубокому убеждению, Россия сделает большую ошибку, если своего непосредственного соседа, прусского короля, имеющего в своём распоряжении сильную армию, обратит в своего врага, как это непременно будет, если осуществится соглашение с Англией. Мы создадим себе могучего врага на нашей границе, приобретя взамен весьма сомнительную дружбу Австрии. Не сомневаюсь, что вы достигнете вашей цели, как только войдёте в общение с государыней и сумеете повлиять на неё силою своего красноречия. Но вы вполне понимаете, что я нисколько не склонна оказывать вам свою поддержку в деле, которое ничего, кроме невыгоды и опасности, не принесёт России.
– Я отлично помню второй вопрос, поставленный вашим высочеством, и теперь детально разъяснённый, – сказал Уильямс. – Я был приготовлен к нему, и у меня есть на него, как мне кажется, вполне удовлетворительный ответ.
– Скажите же мне его, – промолвила Екатерина Алексеевна.
– Я думаю, мне не нужно говорить, – начал посол, – что главная политика Англии направлена против Франции. Соперничество, существующее между версальским и сент-джемским дворами, в скором времени приведёт к вооружённому конфликту, и нам необходимо заблаговременно запастись союзниками.
– К числу их в первую голову принадлежит Австрия, которая ни о чём другом не мечтает, как только об уничтожении прусского короля и подрыве престижа России в Польше.
– Здесь я не могу согласиться с вами, – возразил посол. – Мне известно, и я могу это по секрету передать вам, что в последнее время между Веной и Версалем ведутся тайные переговоры, и, может быть, недалёк тот момент, когда между Францией и Австрией будет заключён союз.
– Вы уверены в этом? – спросила Екатерина Алексеевна.
– Вполне, – ответил Уильямс. – Маркиза Помпадур и императрица Мария-Терезия – обе ненавидят прусского короля, а князь Кауниц и герцог Шуазель мечтают, что путём союза между Габсбургами и Бурбонами им удастся господствовать над всей Европой.
– Это мечта, – горячо воскликнула Екатерина Алексеевна, гордо вскинув голову, – никогда не осуществится, пока в России существуют хоть один штык и одна пушка!
Уильямс несколькими штрихами перенёс на портрет гордое и смелое выражение, блеснувшее на лице великой княгини при последних словах, и продолжил:
– Я был убеждён, что вы, ваше высочество, держитесь именно такого мнения. Вы, конечно, понимаете, что с того момента, когда между дворами Вены и Версаля будет заключён союз, Австрия уже перестанет быть нашей союзницей. Даже более: она станет нашим врагом, потому что друзья Франции, естественно, должны быть нашими врагами. С другой стороны, вы, ваше высочество, должны согласиться со мной, что с момента заключения австро-французского соглашения прусский король, несмотря на всё своё преклонение пред литературой Вольтера, должен будет стать врагом Франции, так как друзья Франции должны стать его врагами.
– Понимаю, – задумчиво сказала Екатерина Алексеевна.
– Ну, так вот, – продолжал Уильямс, – раз мы заранее знаем, что в определённый момент Австрия и Франция станут нашими врагами, тогда как естественной логикой вещей прусский король будет вынужден искать нашей дружбы, то прежде всего мы должны подумать о том, чтобы заключить с Россией прочный союз, потому что только одна Россия была бы в состоянии поддержать прусского короля против коалиционных сил Австрии и Франции. Столь проницательный ум, каким обладаете вы, ваше высочество, должен в дальнейшем усмотреть, что в случае, если Австрия и Франция раздавят Пруссию, они, таким образом, станут господами положения во всей Западной и Северной Европе и не подумают церемониться с Россией. Ну, а её императорское величество, – продолжал он затем, – не особенно-то любит прусского короля. Может быть, она и права в этом отношении, но политика не считается с личными симпатиями и антипатиями. Поэтому союз, которого мы так страстно домогаемся, должен быть заключён, пока императрица Елизавета Петровна считает Англию врагом прусского короля. Когда мы подпишем союзный договор с имперским правительством, то впоследствии – даже тогда, когда в международных союзных отношениях произойдёт полная перемена, императрица не будет в силах воспрепятствовать прусскому королю, которого ныне считает нашим общим врагом, войти в наш союз, и отношения России к Англии не позволят императрице встать на погибель России на сторону Франции и Австрии.