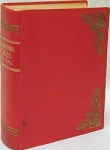Текст книги "При дворе императрицы Елизаветы Петровны"
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 52 страниц)
Глава тридцать восьмая
В маленьком домике в Холмогорах, где до сих пор слышались только слова военной команды майора Варягина и повторявшееся через известные промежутки времени неистовство заключённого, перемежаемое тихими разговорами, которые вёл Иоанн Антонович с дочерью Варягина Надеждой, началась другая жизнь.
По-прежнему их времяпрепровождение большей частью заключалось в том, что Надежда сидела около вытянувшегося на постели узника, держала его руку в своей и смотрела ему в глаза; они беспокойно сверкали, и их дикий, то полный отчаяния и вопроса, то упрямо угрожающий взгляд становился всё спокойнее и мягче под влиянием тех таинственных чар, которым было наполнено её присутствие. Иногда она рассказывала ему о древних русских царях, которые смело бросались во главе дружин к границам государства, чтобы отразить врагов и вернуться со славой и богатой добычей. Тогда узник вскакивал, настораживался, простирал кверху руку, словно его пальцы стискивали рукоять меча, словно его ухо слышало бряцанье вражеского оружия, словно его воспалённый взгляд видел перед собою послушные и жаждущие боя дружины. Но вскоре он снова падал на постель, стонал и плакал или бросался на окно и в диком порыве принимался трясти решётку. Поэтому Надежда предпочитала рассказывать ему поэтичные кроткие сказки и предания. Узник тихо и ласково внимал её словам – такие рассказы, казалось, успокаивали его. Радостная надежда загоралась в его взоре, когда девушка мягким, чистым голосом рассказывала ему о чудесах святых. Дослушав сказание до конца, Иоанн Антонович скорбно и боязливо спрашивал, почему же ни один из этих добрых и могущественных святых не снизойдёт к нему в темницу, чтобы разломать перекладины решёток и вывести его на свежий воздух и солнечный свет, достигавший его глаз только в виде робкого луча. Когда же Надежда утешала его, говоря, что святые вспомнят и о нём, что их взоры видят его мучения, но всякому страдальцу надо пройти положенный ему искус, а нетерпение может только рассердить их, и необходимо в благочестивой покорности ожидать их милости, то Иоанн Антонович взглядывал на нежную фигуру и озарённое детской, наивной верой лицо своей подруги, погружался в глубокую задумчивость и наконец говорил:
– Да, да, я верю этому... Они придут!.. Ведь ты из их числа, ты снизошла на землю для того, чтобы подвергнуть меня испытанию, а потом ты выведешь меня в лес... А в лесу я хотел бы поселиться с тобой, Надежда... Я стал бы молиться и делать всё, что ты прикажешь мне, если только ты снова примешь свой небесный облик... За это я не потребовал бы ничего, кроме возможности жить и дышать в тени деревьев, вдали от людей, которые сделали мне так много зла и заперли меня в этом каземате.
При этих словах Надежда вспыхивала от смущенья и запрещала ему так богохульствовать, убеждая, что она далеко не святая, а самое обыкновенное земное существо. Но Иоанн Антонович только качал головой в ответ, и его взгляды и улыбки ясно доказывали, что все эти уверения не способны разрушить его спасительную надежду.
Тем не менее круг благочестивых сказаний и сказок был ограничен, потому что бедная Надежда провела всю свою жизнь с самого раннего детства в полном одиночестве и могла для утешения и одобрения своего друга пересказать только то, что когда-то слышала сама от старой няньки, на руках которой выросла – по старорусскому обычаю майор Варягин не требовал от воспитания девушки ничего, кроме беглого чтения молитв. Таким образом, богатый, изощрённый одинокими думами полёт её фантазии должен был оперировать скудным материалом детских воспоминаний, который, однако, ей удавалось приукрасить поэтическим вымыслом, и в её передаче подвиги героев и деяния святых получали новую, своеобразную красоту и великолепие.
С появлением отца Филарета и Потёмкина спокойное однообразие дома преобразилось. Отец Филарет вскоре справился с тем потрясающим впечатлением, которое произвела на него первая встреча с узником, и к нему снова вернулась обычная твёрдость духа. В глазах Варягина, солдат и прочих обитателей дома он был удостоен особенного уважения и почтения, как ввиду своего духовного сана, так и ввиду императорского указа, доставившего ему доступ сюда и облекавшего такими полномочиями, которых до сих пор не давалось ещё никому и никогда. Но к почтению, которым он был обязан своему одеянию и благоволению, проявленному к нему императрицей, прибавлялась ещё и сила личного очарования, внушаемая решительно всем. За столом он вёл возвышенные, благочестивые, но неизменно пересыпанные шутками и весёлыми остротами речи. Это доставляло большое удовольствие майору Варягину, так как заставляло застывшего в однообразии повседневности служаку переживать минуты давно забытого застольного веселья. И часы обеда были ему тем приятнее, что он проводил их в обществе благочестивого и взысканного доверием самой императрицы священнослужителя, причём он был избавлен от всяких укоров совести и боязни упущений по службе, если засиживался за столом лишний часочек.
Колоссальный аппетит, обнаруживаемый отцом Филаретом снискал ему благоволение и благоговейное уважение старой служанки Варягиных; она была просто счастлива, когда полные блюда яств возвращались в кухню опустошёнными, служа полным доказательством того, какую честь отдали её поварскому искусству.
Любовь солдат отец Филарет завоевал ещё более убедительными проповедями и ещё более грубоватыми шутками, чем те, которыми уснащал застольные речи у их командира. Кроме того, он доказал им, что, несмотря на своё монашеское одеяние, он отлично понимал и их ремесло: отец Филарет заставлял их проделывать во дворе разные сложные упражнения и эволюции, и когда был доволен их усердием, то просил майора Варягина выдать им лишний рацион водки. Таким образом, и у этих грубых и добродушных детей народа, которые ради охраны узника жили здесь сами настоящими узниками, отец Филарет также завоевал искреннюю любовь и симпатию.
Но счастливее всех от присутствия отца Филарета был сам узник, который уже через несколько дней совершенно избавился от первоначального чувства недоверия. Приказ императрицы обеспечивал монаху неограниченный доступ в любое время к узнику и предписывал майору Варягину в отношении доверенного его охране юноши следовать указаниям монаха и оказывать всякие послабления и льготы, какие отец Филарет признал бы полезными.
В силу этих полномочий, которым майор повиновался с тем большим удовольствием, что сам сочувствовал печальной судьбе привязавшегося к его дочери юноши, отец Филарет не только сам ходил без помехи в комнату узника, но и настоятельно потребовал, чтобы ради восстановления пошатнувшегося здоровья юношу ежедневно выводили гулять на свежий воздух. Поэтому был назначен определённый час, когда Иоанн Антонович мог гулять в лучах полуденного солнца по замкнутому со всех сторон двору.
Даже больше – отец Филарет настоял на том, чтобы узник принимал участие в военных упражнениях солдат, и собственноручно сделал из дерева два деревянных палаша, на которых Иоанн Антонович регулярно стал обучаться фехтованию. Во время этих упражнений отец Филарет являлся столь же неутомимым, как и знающим учителем, а Потёмкин должен был, по его приказанию, фигурировать в качестве противника узника.
Полная своеобразной прелести картина представлялась, когда в потоках полуденного солнца на чисто выметенном дворе оба красивых и в то же время совершенно непохожих друг на друга молодых человека становились в позиции друг против друга и принимались фехтовать, тогда как отец Филарет, стоя около, внимательно следил за наносимыми и отражаемыми ударами и то хвалил, то порицал тот или иной выпад или вольт. Вдали тесным кольцом толпились солдаты, жадно следившие за поединком. Несчастный император стоял с пылающими щеками и дерзостным взором; в эти моменты он становился похож на молодого степного коня, не ведающего поводьев и удил: он бурно нападал на противника и зачастую вызывал порицание отца Филарета неправильными выпадами. Потёмкин, одетый в чёрный подрясник послушника, подвёрнутый им до колен, весь как-то подбирался. Его гибкая, кошачья фигура и ещё более бледневшее лицо тоже говорили о наслаждении боем. Он следил за каждым движением своего противника и ловким поворотом кисти парировал самые страшные удары, не моргнув глазом и не отступая ни на шаг с позиции. С мужеством и неутомимостью юности оба они вели свой бой на безопасном оружии, словно это было сражение не на жизнь, а на смерть; в обоих горел равный воинственный пыл, сдерживаемый у одного – теснотой тюремной камеры, у другого – ритуалом скучной монастырской жизни.
До сих пор солдаты, расквартированные в соседних с домом казармах, никогда ещё не видали узника и, судя по дикому рычанию и воплям, доносившимся из его комнаты, считали его одичавшим и опасным человеком. Но, видя, как он красив, ловок и покорен, они полюбили его; когда он выходил на двор, солдаты приветствовали его радостными возгласами, а он отвечал на эти приветствия таким гордым, снисходительным, царственным мановением руки.
И в такие моменты майор Варягин озабоченно задумывался над послаблениями и вольностями, допущенными по требованию отца Филарета, и со страхом поглядывал на бородатых солдат, которые с восторженными взглядами впивались в лицо красивого юноши. Варягин боялся, что с уст Иоанна Антоновича сорвётся какое-нибудь неосторожное слово, и старый вояка хватался за меч, чтобы с оружием в руках, предупредить всякую опасность.
В долгие вечера отец Филарет приказывал ярко освещать камеру узника, часами просиживал наедине с молодым человеком и старался определить, насколько велики благоприобретенные познания и прирождённые способности Иоанна Антоновича; ему не трудно было убедиться, что первые настолько же ограничены, насколько вторые блестящи.
У молодого человека были самые примитивные понятия о религии; мир и жизнь людей за стенами его тюрьмы были совершенно чужды ему; это была душа шестилетнего мальчика в теле юноши, потрясаемом всеми дикими страстями пробуждающейся половой зрелости, которая вызывала в нём самые страшные припадки и взрывы ярости, тем более сильной, чем уже и ограниченнее было его миропонимание.
Отец Филарет, отличавшийся острым и ясным умом, ревностно и с полным успехом посвятил несчастного узника в две области, которые прежде были совершенно чужды ему. Прежде всего он занялся с ним учением православной Церкви, а затем – русской историей.
Иоанн Антонович был столь же вдумчивым и внимательным, как и легко схватывающим учеником, и от него не ускользало ничего из того, что отец Филарет рассказывал ему с увлекательным красноречием то в виде эпических повествований, то в форме вопросов и ответов.
Как сверкали глаза, как пылали щёки, когда Иоанн Антонович внимал рассказам монаха! Зачастую при каком-нибудь выдающемся эпизоде русской старины юноша вскакивал с места и принимался бурно ходить взад и вперёд по комнате, умоляя монаха не прерывать рассказа. Нередко он подходил вплотную к отцу Филарету и смотрел на него не отрываясь, причём его губы дрожали, словно собираясь выразить какую-то затаённую мысль или вопрос, глубоко запавший ему в душу, но затем он снова боязливо потуплял взор и садился на место, молчаливо внимая рассказу.
Когда кончались часы уроков, отец Филарет звал в комнату Потёмкина и Надежду. Он отыскал где-то в доме шахматную доску, сам вырезал грубые шахматные фигуры, и нетребовательный, радостно встречавший каждое удовольствие и развлечение узник углублялся в эту игру, с различными фигурами которой монах связывал картинные примеры из человеческой жизни. Кроме того, отец Филарет умел постоянно поддерживать интересный разговор, во время которого частью рассказами, частью ответами на вопросы обоих выросших в одиночестве детей искусно затрагивал и объяснял всевозможные стороны жизни, оставшиеся до сих пор чуждыми и неизвестными им. Таким образом, Иоанн Антонович, жадно впитывавший в себя все эти новые мысли и восприятия, вскоре без всякого регулярного учения получил ясное и живое представление о житейской суете, о жизни больших городов, о столице Петербурге, о дворе императрицы, о море и кораблях, о церквах с их возжжёнными свечами и облаками ладана, о блестящем параде гвардейских полков. Комната, которая прежде была крайне мрачной и печальной, теперь превратилась в средоточие дружеских разговоров и веселья, так что и сам майор Варягин охотно присоединялся к маленькому кружку слушателей, радостно собиравшемуся вокруг монаха; хотя он и был неограниченным повелителем в том узеньком царстве, в котором он жил много лет, сторожа узника, но по отношению к внешнему миру он и сам был не более чем узником; и когда отец Филарет заставлял оживать в его душе красочные воспоминания, жившие до того бледными, тусклыми тенями, то Варягину начинало казаться, будто и его овевает горячее дыхание быстро бегущей жизни.
В одном только пункте старый солдат оказывался непоколебимым: он не соглашался, чтобы узник принимал участие в его трапезах, а непосредственно перед тем, как сесть с отцом Филаретом за стол, собственноручно запирал бедного Иоанна Антоновича тяжёлым замком.
– Я отвечаю за него своей головой, – сказал майор на просьбы монаха и дочери не делать этого, – и, пока сижу за столом и наслаждаюсь как едой и питьём, так и вашим умным и весёлым разговором, хочу быть избавленным от тяжёлой ответственности и не следить за узником, от которого зависит моя жизнь; только ключ от его камеры, который я могу нащупать в своём кармане, может дать мне покой и уверенность и обеспечить спокойное наслаждение трапезой.
Отец Филарет, уже добившийся многого для облегчения участи узника, не настаивал на этом пункте и удовольствовался тем, что присутствовал при обеде узника, составляя ему компанию (обед у майора происходил несколько позже).
Все эти перемены в режиме произвели на узника глубокое и благоприятное впечатление. Он с неограниченным доверием и почти с обожествлением смотрел на монаха, который уже с первого момента встречи дал ему почувствовать колоссальный перевес в физической силе, но был тем не менее столь добрым и мягким, что оказал ему массу благодеяний и превратил его существование, по сравнению с прежним, в какой-то земной рай. Поэтому он не только слепо повиновался малейшему слову или намёку монаха, но относился к нему с большим доверием, чем к кому-либо из окружающих; взрывы дикой ярости теперь исчезли совершенно, а если иногда в нём и вспыхивал огонь гнева, то достаточно было единственного взгляда отца Филарета, чтобы Иоанн Антонович снова становился тихим и покорным.
Надежда с глубокой радостью наблюдала за благодетельной переменой в своём друге и тоже всё более и более проникалась глубоким, искренним обожанием к монаху, который вскоре стал самой центральной фигурой во всём доме. По его указаниям делалось всё, и его слова находили повиновение решительно во всех и в каждом.
Казалось, что и Потёмкин тоже чувствовал себя счастливым; хотя иногда его взгляды склонялись долу в мрачном раздумье или мечтательно-скорбном вздымались горе, но его бледные щеки порозовели, и он шагал с ещё более гордым видом в своём послушническом одеянии, которому придал почти воинственный вид.
Среди унтер-офицеров охранной роты – согласно специальному приказу императрицы, в этой роте вообще не было офицеров, кроме майора Варягина, – Потёмкин встретил старого ветерана, участвовавшего в петровских походах и битвах под Нарвой и Полтавой. Этот старый солдат, которого звали Вячеславом Михайловичем Полозковым, рассказывал юному послушнику различные истории о великом императоре, о переходах и лагерях, о кровавых боях против закованных в сталь латников Карла XII и против стремительно, словно адские духи, нёсшихся турецких полчищ.
Почти всё свободное время Потёмкин проводил в казарменной комнатке ветерана. Он с таким же напряжением, с такими же пламенными взглядами, с такою же вздымавшейся от волнения грудью слушал рассказы старого солдата, как Иоанн Антонович внимал словам отца Филарета, и отдельные чёрточки и моменты, всплывавшие иногда без всякой последовательности в памяти старика из самых отдалённых переживаний, в пламенно работавшем мозгу послушника складывались в блестящие, яркие картины. И он чувствовал в себе то же мужество, ту же силу, которыми обладал великий Пётр и которые дали тому возможность склонить к своим ногам необузданную Россию и, поучившись на собственных поражениях, победить шведов и турок.
Глава тридцать девятая
Прошли недели две-три. Отец Филарет сидел как-то в ярко освещённой комнате узника и рассказывал Иоанну Антоновичу, слушавшему его, как и всегда, с глубоким вниманием, о великом императоре Петре Первом и его богатом деяниями и блестящем царствовании.
– Вот видишь, сын мой, – сказал он юноше, – этот великий император побил исконных врагов России – шведов и турок, смирил диких стрельцов, наступил ногой на морские волны, так что им пришлось смириться перед ним и покорно понести к далёким берегам его корабли, хотя в юности, казалось, не был предназначен Провидением к тому, чтобы возложить на его главу священную корону Русского царства: он был младшим сводным братом царя Фёдора Алексеевича, и наследником престола был родной брат последнего – Иоанн Алексеевич. Но ввиду того, что этот Иоанн, которого, как ты видишь, звали так же, как и тебя, сын мой, не обладал способностями, необходимыми для твёрдого правления страной, для победоносного руководства армиями и для защиты нашей Церкви в её правах и владениях, то власть перешла к юному Петру, а он, который в колыбели не был предназначен для короны, дал ей такой блеск, что теперь все иноземные народы с удивлением взирают на Россию.
– Да! – воскликнул несчастный узник, протягивая руку вперёд. – Должно быть, прекрасно иметь возможность посвятить все свои силы тому, чтобы сделать счастливым свой народ – смирять неправду, сгибать непокорных, поддерживать слабых и освобождать узников!
– Прежде всего, – перебил его отец Филарет, – надо почитать святую Церковь и её слуг, так как только по их предстательству и молитве государи получают свыше помощь и благословение своим трудам!
Грудь Иоанна Антоновича бурно колыхалась, его взгляды не отрывались от монаха, произнёсшего последние слова с особенным выражением, его губы дрогнули, и снова казалось, что он хочет задать вопрос, уже не раз готовый слететь с его уст.
А отец Филарет продолжал:
– Ныне царствующая всемогущая императрица Елизавета Петровна, дочь великого Петра, позволившая мне явиться к тебе, чтобы утешить и ободрить тебя в твоём заточении, является новым примером того, какими неисповедимыми и чудесными путями Божественный Промысел печётся о судьбе избранных. Она смиренная слуга Церкви, и потому небо извлекло её из пучины несчастья, в которую она была ввергнута, и возвысила до трона, чтобы она могла с проникновенной мудростью и твёрдой силой править святою Русью.
Он впился взглядом в юношу. Щёки Иоанна Антоновича запылали густым румянцем, он вскочил с места с дико блещущим взглядом и обеими руками схватился за грудь и закусил губы, как бы изо всех сил стараясь подавить крик, который со страшной силой хотел вырваться из него.
– Что с тобой, сын мой? – спросил отец Филарет спокойным голосом. – Что так волнует тебя?
Иоанн Антонович вплотную подошёл к монаху и посмотрел на него долгим, испытующим взглядом, а затем схватил его за руку, наклонился к уху и, боязливо оглядываясь на дверь, чтобы сейчас же заметить, как только кто-нибудь войдёт в комнату, шепнул:
– Ты в самом деле искренний друг мне, достопочтенный батюшка? Могу я довериться тебе? Ты не предашь меня?
– Кто же тебе тогда друг, – отечески-любовным тоном ответил ему монах, – если не я? Разве не кинулся я к тебе через снега и льды, чтобы принести утешение и облегчение? Разве не походатайствовал я тебе свободу, какая только возможна в этом положении? И разве не о том только и думаю я, как бы приятнее и легче стала тебе жизнь? Так кому же, как не мне, доверять тебе?
– Да, да, это истинная правда, – ответил несчастный император. – Ты хорошо относишься ко мне. Ты мой друг, первый друг. У меня есть ещё друг, Надежда... Она тоже любит меня... Мне делается так легко и хорошо на душе, когда она смотрит на меня и говорит со мной? Но ведь ей приходится говорить так, как приказывает ей отец, и она постоянно твердит, что я не смею выговорить ни звука из того, что сжигает мне сердце, потому что иначе меня запрут ещё строже и увезут ещё дальше...
– А что это такое, что ты не смеешь произнести даже твоему другу Надежде? – спросил отец Филарет. – Скажи мне!.. В твоей собственной груди эта тайна не может быть сохранена вернее, чем у меня, явившегося к тебе во имя Бога и императрицы!
– Императрицы! – с силой вскрикнул Иоанн, снова пугливо озираясь на дверь. – Скажи, не императрица ли та женщина, которой я хотя и никогда не видал, но боюсь больше всех тёмных сил ада? Та, именем которой пользуются все, кто делают мне зло? По приказанию которой меня заперли за семью замками и волочат из темницы в темницу?
– Она императрица, – серьёзно и строго ответил отец Филарет. – Господь помазал её главу и возложил на неё корону. Тот Самый Господь, Который, как я уже говорил тебе, сын мой, унижает гордых и возвышает смиренных. Который всемогущ и может вывести человека из тюрьмы прямо к царскому трону!
– Но скажи, батюшка, – сказал Иоанн Антонович глухим голосом, дрожа, положив руки на широкие плечи монаха и вплотную прикладывая губы к его уху, – мне говорили, будто она вовсе не императрица. Мне говорили, что я сам – император, что только я один имею право носить на челе корону и с мечом в руках вершить судьбы России. Мне говорили, что она только потому и заключила меня в темницу, что император – я, что я ещё никогда никому не сделал зла и потому не заслуживаю наказания!
– А кто сказал это тебе, сын мой? – спросил отец Филарет всё тем же спокойным, серьёзным тоном.
– Мой отец и моя мать, – воскликнул Иоанн Антонович, – с которыми меня разлучили, чтобы в одиночестве после долгой, долгой дороги похоронить в этом мрачном застенке. Это они сказали мне, а они постоянно говорили правду, потому что любили меня: они были со мной постоянно так нежны, так ласковы... Они сказали мне правду, и я чувствую, что моя рука создана держать скипетр и меч власти, я чувствую, что моя глава создана для короны и что все люди, которые окружают меня, сторожат и запирают, созданы для того, чтобы ползать во прахе по мановению моей руки. Да и они все – и майор Варягин, и солдаты – отлично чувствуют это, потому что я прекрасно вижу, что они не способны выдержать мой взгляд: они потупляют взоры при встречах со мной, а когда я говорил им, что я их царь и что они обязаны вполне повиноваться мне, то они только и могли сделать, что заложить железными решётками мои двери и окна, чтобы не видеть моего взгляда и не слышать моего голоса! Я знаю, – продолжал он, ещё ниже склонившись к уху отца Филарета, – что кровь того императора Петра, о котором ты рассказывал мне так много, течёт и в моих жилах тоже, и клянусь, что я точно так же сумел бы повергнуть в прах врагов России, если бы меня хитростью и силой не держали в заключении, тогда как та женщина противозаконно украшает голову свою короной, принадлежащей мне!
– Выслушай меня спокойно, сын мой! – сказал отец Филарет, когда Иоанн Антонович упал в изнеможении головой на его плечо. – Ныне наступил момент, когда я могу заговорить с тобой о твоём прошлом. Я ждал, чтобы ты из собственных побуждений доверчиво открыл мне своё сердце, и от души радуюсь, что Господь вложил в твоё сердце это доверие ко мне, служителю святой Церкви. Выслушай меня, так как то, что я собираюсь сказать тебе, сама истина... Да, выслушай меня и поверь мне, потому что – как знать? – быть может, именно меня Господь избрал тем оружием, которое неисповедимыми путями поведёт тебя к намеченной Им цели.
Иоанн Антонович опустился на пол, сложил молитвенно руки и смотрел на него широко открытыми, блестевшими лихорадочным возбуждением глазами.
– В том, что ты только что сказал, сын мой, много и правды и неправды, – продолжал отец Филарет, поглаживая своей рукой кудрявые волосы юноши. – Истинная правда, что в твоих жилах течёт кровь великого Петра.
На глазах несчастного юноши выступили слёзы, и горло перехватило от порывистого дыхания.
– Правда и то, – продолжал отец Филарет, – что ты ещё в колыбели был наречён императором.
– Я знал это, я знал это! – воскликнул сдавленно Иоанн Антонович. – Я знал, что отец и мать говорили мне сущую правду!
– Но, – продолжал далее отец Филарет, – ты был наречён императором не по праву. Волю Петра Великого извратили и, быть может, ввели в заблуждение этим и твоих родителей. Елизавета Петровна была любимой дочерью Петра: она была более близка ему по крови, и он готов был назначить её наследницей престола. В конце концов русский народ разыскал дочь своего обожаемого императора в том мраке, куда её загнали утеснения врагов, и с помощью Бога и Его благословением возвёл на принадлежащий ей по праву трон. Ты же исчез в тюрьме, потому что боялись, как бы твои родители не восстали против воли народа и Бога, а Бог допустил это во искупление той несправедливости, которая была совершена возложением короны на твою младенческую главу!
– Но если Бог справедлив, то как же Он мог допустить совершиться этому? – спросил Иоанн Антонович страдающим голосом.
– Бог справедлив, – ответил отец Филарет. – Он справедлив и тогда, когда посылает человеку несчастье, ибо претерпевшего до конца Он снова возвышает... Святой апостол Пётр был посажен в тюрьму, не менее крепкую, чем твоя, и было тело его сковано цепями, но Господь послал Своего ангела, и цепи спали прочь, ворота распахнулись, и апостол безбоязненно и невредимо прошёл через цепь стражей и вышел на свободу. То, что Господь сотворил тогда, Он может совершить и опять, и, как тогда Он послал ангела, так может и меня, Его смиренного слугу, сделать орудием Своей воли.
Иоанн Антонович поднял голову и посмотрел на монаха с сомнением и надеждой, затем он высоко поднял руки, словно вознося Господу моление, и тихо прошептал:
– Неужели это возможно? Как это может случиться?
– Сын мой, – ответил отец Филарет, – государыня добра и справедлива. Если она увидит тебя покорным и смиренным, но в то же время духовно сильным и достойным править великим народом и охранять святую Церковь, то может случиться, что она отдаст тебе корону, несправедливо положенную в твою колыбель, и приблизит тебя к трону, чтобы впоследствии, когда Господь призовёт её в Свои обители, передать в твои руки господство над Россией.
Иоанн Антонович вскочил. Он широко раскинул руки и смотрел на низкий потолок своей комнаты, словно стараясь разглядеть необъятные небеса, неожиданно открывшиеся перед ним, и возблагодарить Господа за ниспосланную ему надежду. Его лицо светилось неземным откровением. Но вскоре он снова стал печальным, и его взор затуманился.
– Но почему же, в таком случае, – спросил он, – императрица не прикажет, чтобы двери моей тюрьмы распахнулись? Почему она оставляет меня в руках этих разбойников, сторожащих меня?
– Сын мой, – ответил отец Филарет, – государыня считает тебя слишком строптивым, непокорным, диким.
– Так я буду кроток и послушен, я буду любить её всеми силами своей души! – воскликнул юноша.
– Если бы она увидела тебя, – продолжал Отец Филарет, – то она поверила бы тебе. Но твои враги не допускают её до тебя: только Один Бог может открыть двери твоей темницы и довести тебя до её величества. И Он так и сделает. Он воспользуется для этого моими руками, если только ты будешь достаточно умён и послушен и последуешь всему тому, что я скажу тебе.
– А что, батюшка, должен я сделать? – спросил Иоанн Антонович, прижимая обе руки монаха к своей груди.
– Прежде всего быть кротким и ласковым, – сказал отец Филарет, – затем терпеливо ждать, пока настанет час воли Божией, а главное – не говорить никому на свете ни словечка из того, что я только что сказал тебе. Никто не должен догадываться, что в твоих жилах течёт кровь русских царей. Никто не должен заподозрить, что твоя душа с надеждой стережёт момент, когда падут стены этой тюрьмы.
– Я буду молчалив, как могила, – сказал юноша, – но если многомилостивый Господь Бог воззрит на меня и даст Своим святым силу помочь вам и укрепить ваши руки для моего спасения, словом, если я когда-нибудь стану императором, тогда и моя подруга должна отправиться вместе со мной во дворец. Тогда Надежда должна стать императрицей!
Отец Филарет растроганно посмотрел на юношу: за своё краткое существование видя от людей только зло, в тот момент, когда перед ним радостной надеждой засверкало всё доступное человечеству земное могущество, так любовно и преданно вспомнил о единственном существе, своим ласковым участием оказавшем ему благодеяние. В этом сердце жило тёплое чувство благодарности, часто пропадающее из сердец тех, которые в бурно кипящем потоке жизни видят лишь счастье и наслаждение.
– Предоставим будущее воле неба, – серьёзно сказал отец Филарет, – теперь же нам нужны вся сила и всё внимание, чтобы преодолеть все те опасности, которыми богато настоящее. Сердце государыни принадлежит её народу и охране святой Церкви – вот её первая задача! Она не имеет права сосредоточивать свои помыслы на одной только личности. Ну, а если Господь пожелает моей рукой извести тебя из тюрьмы и возвести на трон, то ты станешь императором, тогда как Надежда останется дочерью человека, который явится твоим подданным и слугой.
Иоанн Антонович мрачно потупил свой взор и твёрдо и решительно сказал:
– Если государь хочет жить и бороться за благо своего народа, то он должен иметь возле себя истинных друзей, а до тех пор, пока Господь привёл вас сюда, Надежда была моим единственным другом. Затем, – продолжал он, пытливо всматриваясь в монаха, – государь должен служить Церкви, как вы говорите. Значит, он должен извлекать из её учения примеры для своей жизни. Ну, а святые, как вы мне сами рассказывали, награждали тех, кто оказывал им благодеяние в те времена, когда они безвестными странниками ходили по земле. А ведь Надежда внесла столько света в моё грустное заключение, что, следуя примеру святых, я должен вознести её до себя, если когда-нибудь достигну вершин власти и могущества. Так пусть, – всё горячее продолжал он, – тогда её отец станет верноподданным слугой моим, как теперь является верноподданным слугой императрицы... Разве не рассказывали вы мне сами, что и великий император Пётр возвысил до своего трона простую женщину? Говорю вам, – крикнул юноша, положив руку на грудь, – что я не выйду из этой темницы, если и Надежда не пойдёт со мною вместе. А если мне когда-нибудь суждено будет взойти на трон, то первым моим императорским деянием будет вознести Надежду до себя!