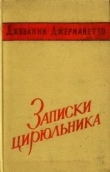Текст книги "La Storia. История. Скандал, который длится уже десять тысяч лет"
Автор книги: Эльза Моранте
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 48 страниц)
Падем в борьбе, себя покрывши славой,
открыв потомкам путь надежды сладкой.
Над кровью воспарит сверкающей державой
анархия, начальница порядка!
…Мы – парии, в наших рядах миллионы,
на каторге вечной трудиться нам надо!
Но знамя подняв, развернем мы колонны
и светлое завтра нам станет наградой!
Но кульминацией этих их собраний бывал заветный момент, когда гости, убедившись, что снаружи их никто не подслушивает, негромко пели хором:
Мы с революцией пойдем,
наш черный флаг мы развернем,
жизнь за анархию положим!..
Эти горемыки были анархистами воскресного дня, и вся их подрывная деятельность развертывалась здесь. И все же кончилось тем, что в Козенцу стали поступать доносы. Хозяина в один прекрасный день выслали из города, харчевня закрылась. Джузеппе, без всяких прямых объяснений и, более того, в выражениях скорее лестных, был отправлен на пенсию в возрасте пятидесяти четырех лет.
Дома, разговаривая с женой, он сделал вид, что верит всем этим надуманным предлогам, введя ее в заблуждение собственными соображениями, совсем как ребенок, который убаюкивает себя сказками. И он, разумеется, никогда не рассказывал ей ни о секретной харчевне, ни о судьбе ее хозяина, о котором он думал непрестанно и даже чувствовал за собою вину, по крайней мере частично. Но в силу того, что у него, кроме Норы, не было никаких близких друзей, он обо всем этом не мог ни с кем поговорить.
В случившемся с ним несчастье самым горьким была вовсе не потеря источника дохода, и даже не вынужденное безделье (для него преподавание было великим удовольствием). Ведь все эти напасти, и угроза высылки и тюрьмы – все исходило от фашистов, его изначальных врагов. Но подозрение, что среди приятелей, сидевших с ним в харчевне за одним столом, мог затесаться стукач, доносчик, вот что более всего остального повергало его в меланхолию. Теперь он целые часы напролет развлекался тем, что мастерил всякие деревянные игрушки в подарок внучонку Ниннуццо, когда тот приедет летом. Кроме того, заботясь прежде всего о Норе, он купил радиоприемник, так что теперь по вечерам они вместе могли слушать оперы; а они оба их беззаветно любили, еще с тех пор как хаживали на концерты заезжих артистов. Но он заставлял ее, порой даже довольно грубо, выключать приемник, как только начинали передавать последние известия – они приводили его почти в ярость.
Со своей стороны, и Нора, до крайности истрепав нервы, сделалась раздражительной, обидчивой и даже тираничной. Когда на нее накатывало, она доходила до того, что кричала ему: его, мол, выгнали с работы за профессиональную непригодность! Но он, в ответ на подобные оскорбления, принимался лишь над нею подтрунивать (и она в конце концов начинала ему улыбаться), не придавая ее словам особого значения.
Нередко, видя, как она взвинчена и опечалена, он предлагал ей поехать вместе навестить его родственников в далеком Аспромонте. Он подавал этот проект как путешествие фантастическое, тоном супруга-богача, который приглашает жену объехать с ним вокруг света. Но в действительности он чувствовал себя слишком безвольным, у него, чтобы собраться и поехать, не хватало физических сил. В последнее время он побагровел лицом и потолстел до тучности совершенно нездоровой.
Он больше не посещал никаких таверн, и даже дома старался не пить слишком много, уважая Нору; но он завел потайные местечки, помогавшие ему утолять жажду выпивки, которая теперь была у него болезненной. Каждый день кто-нибудь из обитателей Козенцы встречал его на улице; хромая, он ковылял куда-то, завернувшись в свой изношенный плащ – вечно один, глядя перед собою пьяным взором и иногда хватаясь за стену. Цирроз печени убил его в 1936 году.
Прошло совсем немного лет, и в Риме Альфио, еще совсем молодой, последовал за своим другом в объятия смерти. Он поехал в Эфиопию – недавно завоеванную Италией – с какими-то весьма грандиозными деловыми планами – распространить сбыт своих товаров на всю империю. Но через три недели вновь появился в Риме; он похудел до неузнаваемости, его мучила постоянная изматывающая тошнота, из-за которой он не мог притронуться к еде, и высокая температура. Сначала подумали, что это какая-то африканская хвороба, но обследование показало, что это рак, который, по-видимому, давно уже в нем развивался, так что он об этом и не подозревал, а потом разом на него набросился поспешно и алчно, как это бывает, если человек крепок и молод.
Ему так и не сказали, что он приговорен; его уверили, что он оперирован по поводу язвы желудка, и ему остается ждать выздоровления. На самом деле ему вскрыли живот, чтобы попытаться сделать операцию, но тут же зашили, потому что сделать уже ничего было нельзя. К последним своим дням он превратился в скелет, и когда на минутку поднимался с больничной койки, то выглядел таким длинным и худым, что казался совсем молодым, почти юношей.
Однажды Ида застала его рыдающим, он кричал: «Нет! Не-е-т! Я не хочу умирать!» В этом крике слышалась чудовищная сила, совершенно невероятная при его ослабленности. Там, вроде бы, работала одна монахиня, она, чтобы подготовить его к христианской смерти, дала ему понять, как обстоят дела. Но было совсем не трудно снова его обмануть ободряющей ложью – так велико было в нем желание жить.
В другой раз (а это было ближе к концу, и он уже дышал через кислородную подушку) он лежал, приведенный в бессознательное состояние вводимыми ему наркотиками, и Ида услышала, как он повторяет, словно разговаривает сам с собой: «Мамочка, милая моя, она же такая узкая, эта смерть. Как же я в нее пролезу, я ведь такой большой…»
Напоследок было утро, когда он немножко пришел в себя, и тихим, очень мелодичным голосом, в котором слышалась грусть и капризная воля, он сказал, что хочет быть похороненным в Мессине. Таким вот образом те скудные суммы, что он оставил в наследство, были все потрачены на то, чтобы исполнить это его последнее желание.
Агония продолжалась чуть меньше двух месяцев, инъекциями морфина удалось ее смягчить.
Из своей африканской экспедиции он привез для Нино несколько серебряных талеров и черную эфиопскую маску, на которую Ида избегала смотреть, и которую Нино надевал на лицо, чтобы произвести впечатление на враждебные ватаги мальчишек, властвовавших в районе; при этом он, наступая на них, горланил:
Мордашка чернощекая,
Мордашка абиссинская!
Марамба, бурумба, бамбути мбу!
Впрочем, позже он обменял маску на водяной пистолет.
Ида никогда не осмеливалась произносить слово «рак», оно у нее связывалось с чем-то фантастическим, сакральным и неназываемым, вроде тех демонов, в которых верят дикари. Вместо этого слова она употребляла выражение «болезнь века», которое слышала от других. Если кто-то спрашивал, отчего умер муж, она отвечала: «От болезни века», голосом тихим и дрожащим, чувствуя, что этот миниатюрный акт изгнания нечистых сил недостаточен для того, чтобы изжить испуг, запечатлевшийся в ее памяти.
После кончины Джузеппе, за которой последовала кончина Альфио, она оказалась беззащитной против страха. Она уже была женщиной, но в сущности навсегда осталась девочкой и при этом лишилась всех своих опекунов. Тем не менее она совестливо и пунктуально занималась преподавательскими обязанностями и обязанностями главы семьи. И только непрестанное дрожание рук выдавало ее внутреннее напряжение. Руки были коротенькими, некрасивыми и всегда плохо отмытыми.
Вторжение в Абиссинию, которое возводило Италию в степень империи, осталось для Иды, носящей траур, событием таким же далеким, как Пунические войны. Абиссиния для нее означала некую территорию, на которой Альфио, повези ему больше, мог бы, по-видимому, разбогатеть, распродавая особые масла, лаки и даже сапожные кремы (правда, ей казалось, на основании читаного в школе, что африканцы из-за климата разгуливают босыми). В аудитории, где она вела уроки, как раз над учительской кафедрой, в центре стены висели, рядом с Распятием, увеличенные и оправленные в рамку фотографии великого Основателя Империи, а также и Короля-Императора. Первый имел на голове феску с густой, ниспадающей на лоб бахромой; спереди на ней красовался царственный орел. А под этим головным убором его лицо, воспринимаемое как наивное – до того оно было нахальным, – явно силилось принять выражение, которое мы видим у классической статуи Кондотьера. Но в действительности из-за неестественно выпяченного подбородка, натужного напряжения челюстей и работы мышц, расширяющих глазницы и зрачки, получалось, что это скорей лицо комика из варьете, который изображает капрала, нагоняющего страх на новобранцев. А что касается Короля-Императора, то его невзрачные черты выражали только умственную ограниченность, свойственную провинциальному мещанину, который родился уже пожилым и с солидной рентой в банке. Но в глазах Идуццы образы обоих этих персонажей, наряду с Распятием, которое для нее олицетворяло лишь мощь церкви, представляли исключительно символ власти, то есть той таинственной и абстрактной инстанции, которая творит законы и внушает безраздельное почтение. В эти самые дни она, выполняя спущенные этой властью инструкции, выводила крупными буквами на доске текст упражнения по письму для своих третьеклассников: «Переписать три раза в чистовую тетрадь следующие слова дуче:
„Вознесите ввысь, о легионеры, ваши штандарты, мечи и сердца, дабы приветствовать, по прошествии пятнадцати веков, возвращение Империи на судьбоносные холмы Рима!
Муссолини“».
Между тем недавний Основатель империи, совершив этот шаг, в сущности, сунул ногу в ту самую западню, которая должна была довести его до последнего скандала, крушения и смерти. Именно тут его подстерегал другой основатель, основатель Великого Рейха, сообщник в настоящем и предопределенный хозяин в будущем.
Между этими двумя злополучными жуликами, разными по своей сущности, имелось и неизбежное сходство. Из моментов сходства самым органичным и прискорбным был их одинаковый сущностный изъян – внутри оба они являлись неудачниками и лизоблюдами, оба хворали роковым комплексом неполноценности.
Известно, что подобное чувство, поселившись в избранных жертвах, работает в них с яростной неотвратимостью грызуна, частенько вознаграждая их соответствующими сновидениями и мечтами. И Муссолини, и Гитлер были мечтателями, каждый на свой лад, но вот тут-то и обнаруживается их изначальное несходство. Поток мечтаний итальянского дуче, соответствовавший его чисто материальной воле к жизни, состоял из набора театрализованных сцен, в которых, среди знамен и триумфальных шествий, он, убогий вассалишка и статист, исполнял партии античных монархов, осененных благодатью – всевозможных цезарей и августов, возносясь при этом над толпой, униженной до роли марионетки. В то время как другой, зараженный нудной некрофилией и преследуемый кошмарами, был полубессознательным исполнителем некоего наваждения, не принимавшего четкой формы, в которой любое живущее на земле создание, включая и его самого, становилось объектом истязаний и деградации, доходившей до полного разложения. В его плане Великого финала – все народности Земли (включая и германскую) растворялись в беспорядочном нагромождении мертвых тел.
Известно, что фабрика сновидений часто прикрывает свои основы трухой реальности и прошлого. Но в случае с Муссолини изначальный материал был достаточно обнажен, все лежало на поверхности. В случае же Гитлера мы имеем дело с потаенным бурлением нечистот, совершавшимся в бог знает каких уголках его извращенной памяти. Порывшись в его биографии завистливого филистеришки, было бы нетрудно докопаться до соответственных уголков… Но не будем этого делать. Возможно, фашист Муссолини не отдавал себе отчета в том, что, предпринимая под покровительством Гитлера завоевание Эфиопии (после чего тут же началось другое их совместное предприятие, война в Испании), он накрепко привязывает свою карнавальную колесницу к похоронной колымаге другого. Одним из первых результатов его рабского подчинения явилось то, что вскорости национальную этикетку, состряпанную на родной итальянской почве, этикетку римскости,ему пришлось заменить на этикетку иностранную, пришедшую из чужих краев, этикетку расы.Так вот и получилось, что в первые же месяцы 1938 года в Италии, через все газеты, низовые партийные ячейки и радио началась предварительная кампания, направленная против евреев.
Джузеппе Рамундо в момент кончины было 58 лет, и Нора, которой было шестьдесят шесть, уже пребывала на пенсии, когда осталась вдовой. Она никогда не навещала могилу мужа, ей мешал священный страх перед кладбищами; но ясно также, что самая крепкая связь, не дававшая ей покидать город Козенцу, держалась на близости Джузеппе, который продолжал существовать у нее под боком, на кладбище.
Она так и не захотела оставить свой старый дом, ставший теперь ее логовом. Она почти всегда выходила из него только ранним утром, чтобы закупить провизии; а если и покидала его днем, то только чтобы отослать перевод стареньким родителям Джузеппе. Им, как и Иде, она писала длинные письма, которые старикам, бывшим неграмотными, читал кто-то другой. Но в письмах она крепко остерегалась намекать, пусть даже косвенно и мягко, на собственный неотвязный страх перед будущим, поскольку подозревала, что теперь везде есть цензура и доносчики. И в этих своих посланиях, частых и многословных, она на все лады повторяла одну и ту же мысль:
«Вот какая странная штука, эта судьба, и неестественная. Я вышла замуж за человека, который был на восемь лет моложе меня, и по закону природы мне следовало умереть первой, и Он бы меня напутствовал. А вместо этого пришлось мне присутствовать при Его смерти».
Заводя речь о своем Джузеппе, она всегда писала «Он» с большой буквы. Стиль у нее был пространный, с массой повторений, но в нем было некое школьное благородство; почерк был удлиненный, тонкий, и в общем элегантный. Но когда дело пошло к закату, письма ее становились все короче и короче. Стиль стал куцым и невнятным, а буквы кривились и дрожали, толпясь на листке и словно не зная, в каком направлении им двинуться.
Кроме этой переписки, которая для нее была своего рода графоманией, единственным ее развлечением было чтение иллюстрированных журналов и любовных романов, а также слушание радио. Уже некоторое время сообщения о расовых преследованиях в Германии тревожили ее, это был недвусмысленный сигнал, подтверждающий ее прежние предчувствия. Но когда к весне 1938 года Италия в свой черед присоединилась к официальному хору антисемитской пропаганды, она увидела, что судьба неотвратимой орущей глыбой придвигается к ее дверям, день ото дня вырастая. Сводки последних известий по радио, читаемые рокочущими и грозными голосами, уже чуть ли не физически заполняли ее маленькие комнатки, оставляя в них осадок паники, но от этого она лишь усерднее принуждала себя слушать их, чтобы, не дай Бог, не оказаться неподготовленной. Она целые дни и вечера проводила настороже, она знала расписание всех радиовыпусков и следила за ними, словно подраненная лиса, затаившаяся в норе и внимательно прислушивающаяся к тявканью приближающейся собачьей стаи.
Какие-то мелкие фашистские чины, пожаловавшие к ним из Катандзаро, в один прекрасный день распространили предварительное коммюнике о скорой переписи всех евреев, живущих в Италии, с обязательной самоличной явкой. И с этого дня Нора перестала включать радио – она боялась слушать официальные объявления о правительственном декрете с конкретными сроками явки.
Было начало лета. Уже со времен минувшей зимы Нора, которой теперь было шестьдесят восемь, страдала из-за обострения одного из своих недугов – атеросклероза, который подтачивал ее уже давно. Раньше ее манера общения с людьми, пусть и уклончивая, была отмечена все же внутренней мягкостью; теперь в ней появилась какая-то едкость, почти яростность. Здоровавшимся с нею она теперь не отвечала, не отвечала даже своим прежним, ныне подросшим ученицам, хотя они до сих пор были ей дороги. Бывали ночи, когда ею овладевали кошмары, и тогда она ногтями разрывала на себе рубашку. Как-то ночью случилось ей во сне упасть с кровати, она очнулась на полу, голова у нее гудела. Часто на улице ей приходилось оборачиваться, с выражением мрачным и раздраженным, по совершенно ничтожным поводам – ей чудилось, что люди отказывают ей в учтивости, и самые невинные словечки заставляли ее ощетиниваться.
Из всех мыслимых мер, грозивших евреям, одна пугала ее конкретно и непосредственно – предстоящая обязанность лично явиться и зарегистрироваться для переписи. Все остальные формы сегодняшних и завтрашних преследований, даже самые безобразные и зловещие, отпечатывались у нее в мозгу как менявшие форму призраки, но среди них светил ужасный, ослепляющий маяк этого единственного декрета, и он пригвождал ее к месту! При мысли, что она сама должна публично объявить всем свой роковой секрет, охраняемый ею как величайший позор, она, конечно же, сказала себе: это невозможно. Поскольку она не читала больше газет и перестала слушать радио, то подозревала, что пресловутый декрет уже давно опубликован и действует (в то время, как никаких распоряжений расового свойства не было еще выработано). И даже ей удалось убедить себя, в своем домашнем заточении, что сроки для регистрации уже все вышли. Тем не менее Нора поостереглась наводить справки или, хуже того, явиться в Городскую управу. Утром каждого нового дня говорила себе: это невозможно, и потом проводила целый день в полнейшей растерянности, до самого часа закрытия муниципальных учреждений, чтобы назавтра очутиться перед лицом все той же неотвязной проблемы. В убеждении, что уже опоздала и теперь подлежит бог знает каким неизвестным санкциям, начала бояться календаря, смены дней и ежедневного восхода солнца. И хотя дни проходили без каких-либо подозрительных признаков, она каждый миг жизни проживала теперь в ожидании какого-то очень близкого и ужасного события. Несчастная женщина ожидала, что ее вот-вот позовут в присутствие и потребуют отчета за нарушение законодательства, и разоблачат при всех, обвинив в обмане. Или что придет посыльный из муниципалитета, а то и из полиции, или ее просто арестуют.
Она перестала выходить из дома, даже за продуктами, препоручив это привратнице; однако же в одно прекрасное утро, когда эта женщина постучала в дверь, чтобы взять заказ, она прогнала ее прочь нечеловеческими воплями и запустила ей вслед чашку, которую держала в руке. Но люди, ни о чем не подозревавшие и всегда относившиеся к ней с уважением, прощали эти странные настроения, приписывая их горю, которое она испытывала после потери мужа.
У нее начались фантомные ощущения. Кровь, с трудом поднимавшаяся в мозг по отвердевшим артериям, стучала в висках, а ей казалось, что с улицы доносятся повелительные удары в дверь подъезда; явственно она слышала на лестнице чьи-то шаги и тяжелое дыхание. По вечерам, когда зажигалось электричество, ее ослабевшее зрение преображало предметы обстановки и тени от них в недвижимые фигуры шпионов или полицейских агентов, явившихся, чтобы ее арестовать. И однажды ночью, когда во второй уже раз свалилась во сне с постели, она вообразила, что на пол ее швырнул один из них, войдя тихонько в дом, и что теперь он бродит по комнатам.
Ей приходила мысль оставить Козенцу, переселиться в другие места. Но куда, к кому? В Падую, к своим далеким родственникам-евреям? Увы, это было невозможно. В Рим, к дочери, или в деревню под Реджо, к родителям мужа? Там ее внезапное появление сразу будет замечено, зарегистрировано, оно всех скомпрометирует. Да и потом, как воспримут вторжение старухи с больными нервами, одержимой кошмарами, люди, у которых и так по горло собственных забот и собственных горестей? Она ведь никогда ничего ни у кого не просила, всегда жила независимо с самых юных лет? Она постоянно помнила два стиха, слышанные ею когда-то в гетто от пожилого раввина:
Несчастен тот человек, что нуждается в других людях!
Блажен тот человек, который нуждается только в Боге!
Что же, в таком случае не переехать ли ей в какой-нибудь другой город, в какое-нибудь безвестное селение, где ее никто не будет знать? Но ведь повсюду нужно было отметиться, показать документы. Она даже подумала бежать в другую страну, где нет никаких расовых законов. Но она никогда не бывала за границей, у нее не было заграничного паспорта. Доставать паспорт – означало подвергаться расследованию генерального адресного бюро, полиции, пограничной службы, а все это были места и кабинеты, которые ей представлялись полными угроз, словно она – бандит.
Нора вовсе не была бедна, как, возможно, многие думали. За минувшие годы, как раз для того, чтобы гарантировать себе возможность в будущем, на случай болезни или еще чего-нибудь, она мало-помалу отложила, следуя своей старой привычке, около трех тысяч лир. Эта сумма, в виде трех тысячных билетов, была зашита в косынку, и ночью она держала ее под подушкой, а в остальное время постоянно носила на теле, прикалывая шпильками под одним из чулков.
В ее неопытном уме, который иногда подвергался уже затмениям, гнездилось убеждение, что с такой суммой она сумеет заплатить за поездку в любую страну, даже самую экзотическую! Были минуты, когда она, словно маленькая девочка, принималась мечтать о больших городах, которые до замужества, в своих грезах, сделавших бы честь любой мадам Бовари, представляла себе как высшие и заветные цели – Лондон, Париж… Но опомнившись, вспоминала, что теперь она одна – а как же сможет старая и одинокая женщина ориентироваться среди этих шумных разноязыких толп? Вот если бы рядом был ее Джузеппе, вот тогда можно и путешествовать! Однако же Джузеппе теперь не было на свете, его нельзя было разыскать здесь, и в других местах он тоже отсутствовал. Вероятно, и тело его, такое большое и массивное, теперь давно уже растворилось в земле. Не осталось на свете никого, кто мог бы утешить ее в ее страхах, как когда-то делал он, говоря: «Да ну, брось-ка, дуреха ты этакая!».
Хотя она и продолжала делать самой себе разнообразные предложения, перебирая все континенты и страны, для нее не находилось места на всем земном шаре. А между тем, по мере того, как проходили дни, необходимость побыстрее спасаться бегством все назойливее мелькала в ее воспаленном мозгу.
В последние месяцы она слышала разговоры – возможно, по радио – о том, что евреи всей Европы съезжаются в Палестину. О сионистском движении она не знала абсолютно ничего, хотя само слово было ей знакомо. А о Палестине она знала только то, что это библейское отечество евреев, и что столица ее называется Иерусалим.
И в дни, когда на пороге уже стояла летняя жара, она как-то вечером неожиданно решила, что нужно бежать прямо сейчас, пусть даже и без паспорта. Она перейдет через границу нелегально или же спрячется в трюме какого-нибудь парохода – она слышала такие истории про нелегальных эмигрантов.
Она не взяла с собою никакого багажа, не взяла даже смены белья. Три тысячи лир были на своем месте, под чулком. В последний момент, заметив, что на вешалке у входа висит один из трех поношенных калабрийских плащей, которые Джузеппе надевал зимой, она захватила его с собой, перекинув через локоть – у нее мелькнула мысль, что нужно бы подстраховаться, ведь она может попасть в какую-нибудь страну с холодным климатом.
Разумеется, она уже бредила. Но тем не менее, конечно же, рассчитала, что попасть из Козенцы в Иерусалим по суше ей вряд ли удастся, раз пошла по дороге к морю. Она решила, что сядет на корабль, это было единственно правильным решением. Кто-то потом припоминал, что видел ее в летнем платьишке из черного искусственного шелка с голубенькими цветочками, она села на последний вечерний фуникулер, который шел к пристани Паола. И действительно, в окрестностях пристани ее и нашли. Должно быть, она долго шла вдоль побережья, где нет ни одного порта, и искала какой-нибудь корабль под азиатским флагом, более потерявшаяся и заблудившаяся, чем какой-нибудь пятилетний мальчонка, который бежит из дома, мечтая куда-нибудь завербоваться юнгой.
Как бы там ни было, хоть подобная выносливость и покажется диковинной при ее-то здоровье, следует полагать, что от конечной станции фуникулера она прошла пешком длиннейший путь. В самом деле, тот участок пляжа, где ее обнаружили, находится на изрядном расстоянии от пристани Паола, в направлении на Фускальдо. Вдоль этого участка береговой полосы, если пересечь железную дорогу, простираются поля кукурузы, перемежаемые холмами, и они ее блуждающему взору, да еще и в темноте, могли показаться волнующей морской гладью.
Стояла чудесная безлунная ночь, тихая и звездная. Возможно, ей на ум пришла в голову та единственная песенка ее родных краев, которую она умела петь:
Ты посмотри на небо со звезд а ми…
Но и окутанная этим воздухом, недвижным и теплым, в конце утомительного перехода она озябла. Тогда она завернулась в мужской плащ, который захватила с собой, не забыв застегнуть пряжку на шее. Это был старый и изношенный плащ из домотканной шерстяной материи темно-коричневого цвета, который Джузеппе был как раз по росту. Но ей он был чересчур длинен – он доставал ей до пят и даже волочился по земле. Если бы кто-то из местных жителей видел, как она идет откуда-то издалека, закутанная в этот плащ, он вполне мог принять ее за монашка,маленького разбойника-домового, который переодевается монахом и, говорят, бродит по ночам и бесчинствует в домах, проникая в них через печную трубу. Однако же не доказано, что кто-нибудь ее повстречал, да оно и неудивительно – берег этот уединенный, народу на нем мало, а в особенности ночью.
Первыми ее обнаружили лодочники, возвращавшиеся на заре после ночной ловли; сначала ее приняли за безвестного самоубийцу, тело которого выбросили на берег морские течения. Но тут была загвоздка – поза утопленницы и состояние ее тела никак не согласовывались с этим скороспелым заключением.
Она лежала в полосе прибоя, омытая водами недавнего прилива, в свободной и естественной позе, как человек, которого смерть застигает во сне или забытье. Голова ее покоилась на песке, и легкий отлив обозначил ее чисто и отчетливо – возле нее не было ни водорослей, ни морского мусора; тело удобно лежало на просторном мужском плаще, плащ, прихваченный у шеи пряжкой, был свободно распахнут по бокам, и в нем плескались лужицы задержавшейся там воды. Платьишко из ацетатного шелка, мокрое и разглаженное водой, вплотную облепляло ее худое тело, на котором вроде бы не было никаких повреждений – оно не распухло, на нем не было пятен, какие бывают обычно на телах, выбрасываемых водой. И маленькие голубые гвоздики, напечатанные на шелке, промытые морской водой, выглядели совсем свеженькими, особенно рядом с коричневой тканью плаща.
Единственное, что позволило себе море – это сорвать с нее туфли и распустить ей волосы, которые, несмотря на возраст, оставались длинными и пышными и лишь частично поседели. Теперь, пропитавшись водой, они как бы опять почернели и сбились на сторону, что выглядело почти изящно. Движение морских струй даже не сорвало с ее похудевшей руки обручального кольца, которое скромно поблескивало в свете наступающего дня.
Это была ее единственная золотая вещица. И она, в отличие от своей боязливой дочки Иды, несмотря на весь свой патриотический конформизм, не захотела с колечком расставаться, даже когда правительство пригласило население «отдать золото отечеству», чтобы помочь операциям в Абиссинии.
На запястье у нее были часики из простого металла, еще не тронутые ржавчиной и остановившиеся на четырех часах.
Осмотр тела подтвердил, что она, без всякого сомнения, утонула; при этом не было обнаружено никакого признака, никакого прощального письма, которое наводило бы на мысль о самоубийстве. Но на ней обнаружили, припрятанное в обычном месте, под чулком, ее сокровище – банковские билеты, – еще вполне узнаваемые, хотя и превращенные водою в кашу, не имевшую никакой цены. Зная характер Норы, можно с уверенностью сказать, что, вознамерься она лишить себя жизни, она прежде всего поместила бы в надежное место этот громадный для нее капитал, накопленный с таким трудом.
Кроме того, если бы и в самом деле, добровольно желая смерти, она бросилась в море, то, по-видимому, вес намокшего плаща увлек бы ее на дно.
Дело было сдано в архив под заголовком «Случайная смерть в воде». И это, по-моему, самая справедливая формулировка. Я полагаю, что смерть застигла ее в бессознательном состоянии; возможно, она свалилась на берег в одном из тех припадков, которые уже некоторое время ее посещали.
В этой части побережья и в эту пору года приливы бывают совсем слабыми, в особенности на новолуние. Плутая по этим местам, одержимая видениями и почти незрячая в темноте ночи, она, вероятно, потеряла не только ориентировку, но и способность что-либо ощущать. Не понимая, что делает, она, наверное, слишком резко свернула на полосу, омываемую морем, спутав бескрайнее море кукурузных стеблей с водной гладью. А может, ей привиделся силуэт корабля. Она упала, и морской прилив покрыл ее – ровно настолько, чтобы отнять у нее жизнь, но не причиняя ей вреда, не нанося ударов и не издавая никакого шума, кроме легкого шипения, разносившегося в безветренном воздухе. И при этом плащ, отяжелевший от воды, присыпанный на краях валиками песка, не давал ее телу съехать в глубину, удерживая ее, уже мертвую, на полосе прибоя до самого рассвета.
Я знаю Нору только по одной фотографии, снятой в те времена, когда она была невестой. Она стоит, прислонившись к картонному заднику, изображающему некий пейзаж, с раскрытым веером, который закрывает ей перед блузки, и ее поза, собранная, но явно обдуманная, говорит об ее характере – серьезном, и все же скорее сентиментальном. У нее тоненькая ладная фигурка, на ней шерстяная юбка почти прямого покроя, вытаченная и прилегающая у талии, и блузка из белого муслина с отглаженными манжетами, застегнутая до самого горла. Рукою, свободной от веера, она опирается на колоннообразную тумбочку в самозабвении почти актерском. Челка закрывает лоб, а середину головы волосы обрамляют мягким кругом, как принято у гейш. Во взгляде – неистовая пылкость под некоей вуалью грусти. Остальная часть лица – фактуры тонкой, но заурядной.
На белой пожелтевшей полоске у нижнего обреза фотографии, наклеенной на крепкий картон, как было принято в те годы, кроме узорчатых указаний, бывших тогда обязательными (формат, фотомастерская и т. д.), еще можно прочесть посвящение, выведенное почерком изящным, старательным и тонким: