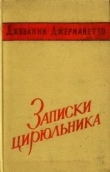Текст книги "La Storia. История. Скандал, который длится уже десять тысяч лет"
Автор книги: Эльза Моранте
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 48 страниц)
4
Таким образом, становится понятным, почему эта несчастная женщина в январский день 1941 года, встретив немецкого солдатика в квартале Сан Лоренцо, приняла его за некое кошмарное наваждение. Страхи, ее осаждавшие, не давали ей заметить в нем ничего, кроме немецкого военного мундира. И натолкнувшись на этот мундир как раз у подъезда своего дома, мундир, обладатель которого специально поджидал ее, она решила, что эта ужасающая встреча была ей предначертана еще при сотворении мира.
Этот человек скорее всего был посланцем каких-нибудь комитетов по расовой чистоте, то ли капралом, то ли капитаном войск СС, явившимся проверить, кто она такая. На ее взгляд у него не было собственного лица. Он был просто одной из копий тысяч одинаковых фигур, которые умножали до бесконечности образ самой главной и непонятной фигуры, той, что неумолимо ее преследовала.
Солдат воспринял как вопиющую несправедливость то совершенно очевидное и необычное отвращение, которое проявила к нему незнакомая женщина. Он не привык возбуждать в женщинах отвращение, кроме того, он знал, вопреки мелким предшествующим разочарованиям, что находится в союзной, а вовсе не во враждебной стране. Однако же после подобной обиды он не отступился, он проявил упорство. Ведь когда домашний кот, будучи не в настроении, забирается в какой-нибудь потайной уголок, мальчишки с удвоенной настойчивостью стараются его оттуда выкурить.
Она, впрочем, ничего не предприняла, чтобы уклониться. Единственное ее движение имело целью спрятать в одной из кошелок школьные тетрадки, которые она несла в руках – словно это были грозные свидетельства ее неведомой вины. Его она не очень-то и видела; скорее, отделившись от самой себя, она видела самое себя, стоящую перед ним – беззащитную, без всякого прикрытия, просто несчастную полуевреечку с бьющимся сердцем.
Если бы она могла его рассмотреть, то, возможно, заметила бы, что он стоит перед нею скорее в позе просителя, нежели представителя власти. Он играл роль изнемогающего пилигрима, он хотел ее разжалобить, опирался щекой на ладонь, умолял ее, весело и настойчиво, повторял своим вполне определившимся уже баском, звучащим непривычно для него самого, с каким-то петушиным призвуком: «Schlafen! Schlafen!». [2]2
Schlafen! – Спать! (нем.).
[Закрыть]
Для нее, не знавшей ни одного немецкого слова, это непонятное бормотание, сопровождаемое таинственной мимикой, прозвучало как некая казенная формула – ее допрашивали или даже обвиняли. Она попыталась ответить по-итальянски, у нее вышло что-то невразумительное, вылившееся просто в плаксивую гримасу. Но из-за выпитого вина земной вавилон для этого солдатика вдруг обернулся цирком. Решительно, жестом галантного бандита, он отобрал у нее кульки и сумки и в порыве, похожем на рывок циркового гимнаста, забежал вперед и двинулся по лестнице. На каждой площадке он приостанавливался, дожидаясь ее – точь-в-точь как сын, который возвращается домой вместе с припозднившейся матерью. И она шла за ним, спотыкаясь на каждом шагу, словно библейский разбойник, который тащит крест, на котором его распнут.
Ее наихудшим опасением в лихорадке этого подъема по лестнице было подозрение, что Нино как раз сегодня пришел домой пораньше, и они столкнутся. В первый раз с тех пор, как она стала матерью, она желала, чтобы ее шпанистый недоросль, обожающий улицу, отсутствовал весь этот день и всю последующую ночь. И она отчаянно клялась себе: если только немец спросит ее о сыне, она будет отрицать не только его присутствие, но и само его существование.
Вот и седьмая площадка, они пришли. И поскольку она, обливаясь ледяным потом, никак не могла сладить с замком, немец поставил на площадку сумки и тут же пришел ей на помощь – с заправским видом человека, который возвращается к себе домой. И в первый раз с тех пор, как она стала матерью, она испытала облегчение, обнаружив, что Ниннарьедду нет дома.
Квартира состояла всего из двух комнат, кухни и уборной; в ней, кроме беспорядка, царило еще и двойное запустение: бедности и мещанского уклада. Но на молодого солдата квартира мгновенно навеяла какую-то первобытную меланхолию и желание плакать, и причиной было немалое сходство с родным баварским домом. Его желание поиграть растаяло, как дым бенгальского огня, а еще не выветрившиеся алкогольные пары наполнили сердце горечью. Им овладело безмолвие, он принялся расхаживать среди вещей, загромождавших комнату, с агрессивностью волка, который, попав в чужое логово, ищет, чем бы поживиться.
В глазах Иды это полностью соответствовало его полицейской миссии. Готовясь к повальному обыску, она постоянно помнила о листке с генеалогическим древом Нино, который положила в ящичек вместе с другими важными документами, и теперь она спрашивала себя, не явятся ли все эти загадочные кружочки с буквами вопиющими доказательствами ее вины.
Он перестал расхаживать по комнате, остановившись перед увеличенной фотографией, которая занимала почетное место в центре стены, и была заключена в рамку, словно авторская картина величайшей ценности. Она изображала подростка лет пятнадцати-шестнадцати, облаченного в роскошное пальто из верблюжьей шерсти, которое он носил, словно некое знамя. В пальцах его правой руки можно было разглядеть белое пятнышко сигареты; левая нога покоилась на бампере заказной гоночной машины (случайно припаркованной на их улице каким-то безвестным автомобилистом) – этакий хозяйский жест, типичный для охотников, заваливших тигра в тропических джунглях.
На заднем плане виднелась вереница городских домов; можно было различить магазинные вывески. Но из-за чрезмерного увеличения снимка, который изначально являлся обыкновенной поделкой бродячего фотографа, вся эта сцена оказывалась довольно бледной и расфокусированной.
Солдат, рассмотрев всю картину в целом, предположил, что она связана с фамильным почитанием усопших. И указывая пальцем на фотографию парня, он спросил у Иды с серьезностью человека, ведущего расследование: «Tot?» [3]3
Tot? – Он умер? ( нем.).
[Закрыть]
Этого вопроса, она, естественно, не поняла. Однако же единственная защита, которую теперь ей подсказывал страх, – это отвечать «нет» на любой вопрос, – так делают неграмотные, попав в полицию. Она не знала, что таким образом, сама того не желая, поставляет врагу некую информацию.
«Нет! Нет!» – отвечала она тонким, каким-то кукольным голоском, неистово выкатив глаза. И на самом деле, это вовсе не было воспоминанием о покойнике, это была совсем недавняя фотография ее сына Ниннуццо, которую он лично отдал увеличить и вставить в рамку. Более того, она сама, осыпая его горькими упреками, все еще платила рассрочку за пальто, которое Нино самовольно заказал себе еще осенью.
Впрочем, и сам этот дом возвещал весьма определенно и громким голосом о присутствии находившегося в бегах жильца, которого она так хотела спрятать от посторонних взоров. Комната, в которую немец решительно вошел из прихожей, была гостиной и своего рода студией в одно и то же время, а ночью она служила еще и спальней, о чем свидетельствовал диван-кровать со скомканным постельным бельем и на самом деле состоящий из металлической сетки без ножек и придавленного матраца. Вокруг этого дивана, смахивающего на тюфяк (с грязной, измазанной бриллиантином подушкой, брошенной поперек, и свалявшимися простынями) лежали сброшенные на пол еще прошлым вечером покрывало из искусственного шелка и несколько диванных валиков, которые днем должны были придавать этому лежбищу приличный вид; среди валиков можно было видеть спортивный журнальчик, пижамную куртку, небесно-голубую, размера еще довольно миниатюрного, и носок средней величины, дырявый и грязный, в яркую шотландскую клетку…
У спинки этой кровати, в том месте, где полагается быть святым изображениям, были прикноплены несколько фотографий, вырезанных из журналов, – кинозвезды в купальных костюмах или вечерних платьях, причем самые соблазнительные были жирно обведены красным карандашом столь решительно, что они казались прямо-таки трубными призывами, зовущими на абордаж, или кличем кота, выходящего сражаться за кошку. У той же самой спинки, только в стороне, был также экземпляр листовки, изображающей римского орла, который сжимает в когтях Британские острова.
На одном из стульев лежал футбольный мяч. А на столике, среди стопок школьных учебников (истрепанных и невероятно общипанных, точно их глодали мыши), были горой навалены спортивные бюллетени, цветастые массовые журналы, сборники приключений в картинках, какой-то роман-триллер с красующейся на обложке женщиной, орущей и уклоняющейся от протянутой к ней обезьяньей лапищи; был там и альбом с разнообразными изображениями краснокожих, феска фашиста-авангардиста, патефон с ручкой, несколько пластинок и некий механизм структуры сложной и неопределенной, в котором, помимо всего прочего, угадывались части электромотора.
Сбоку от дивана, на расхлябанном кресле, прислоненном к стенке, поверх эстампа с пейзажем и надписью «Гранд Отель на Борромеевых островах» громоздились велосипедные детали – определенно узнавалась пустая камера, счетчик километров и руль. На подлокотнике кресла висела майка с эмблемой какой-то команды. А в углу, опираясь на приклад, стоял мушкет – совсем как настоящий.
Среди столь красноречивой выставки всевозможных вещей странные жесты солдатика превращались для Иды в выверенные движения какой-то неотвратимой машины, которая и ее сына тоже, помимо ее самой, затягивала в черный список евреев и еврейских отпрысков. Ее собственное недопонимание постепенно, по мере того, как проходили минуты, приобрело над нею гипотетическую власть, вызвало в ней наивный первородный страх, опережающий всякое рассуждение. Стоя на ногах, еще не снявшая ни пальто, ни своей шляпки с траурной вуалеткой, она больше не была синьорой из квартала Сан Лоренцо, она была заблудившейся азиатской птицей, коричневоперой, с черной головкой, застигнутой в кустах своего временного убежища ужасным всемирным потопом.
Между тем, пьяные рассуждения немца касались вовсе не рас, религий или наций, их предметом были возрасты. Он ошалел от зависти и в душе его вертелись всевозможные «за» и «против»: «Черт подери, ве-зет же тем, кто не вы-шел еще возра-стом… Им не при-зы-вать-ся… и они могут дома вер-теть всякие… свои шту-ки вместе с ма-те-ря-ми! У них мячи… и трахать они могут кого угодно, и все прочее! Все прочее! А война для них – словно на Луне. Или на Марсе! Несчастье в том, что мы вырастаем! В том, что мы вырастаем! И где это я? Почему я тут, а?! Как я сюда попал?» Вот тут, сообразив, что он еще не успел представиться хозяйке дома, он решительно встал напротив нее и, глядя в сторону, коснеющим ртом выговорил: «Mein Name ist Gunter!» [4]4
Mein Name ist Gunter! – Меня зовут Гюнтер! (нем.).
[Закрыть]Потом остался стоять как был, в недовольной позе, ожидая от этого своего благодушного представления некоего результата – которого с самого начала просто не могло быть. Расширенные глаза синьоры смотрели враждебно и изумленно, они подозрительно моргнули, когда в комнате раздались незнакомые немецкие слова, для нее не имевшие никакого смысла, но звучавшие грозно и таинственно. Тогда солдат, взгляд которого все больше теплел, вдруг допустил на свое лицо некую краску нежности – дала знать о себе неистребимая привязанность к дому. Он присел на край заваленного вещами столика, всем своим видом показывая, что поступает наперекор собственной воле, вынужденной уступить порыву доверительности – и вытащив из кармана кусочек картона, положил его перед Идой.
Она бросила на эту вещицу косой оледеневший взгляд – она думала, что это карточка представителя гестапо, украшенная свастикой, или розыскное фото Ниннуццо Манкузо на бланке с желтой звездой. Но нет, это была семейная фотография, групповое фото, на котором она смутно увидела на фоне домов и камышовых зарослей толстую жизнерадостную немку среднего возраста, окруженную пятью или шестью мальчуганами, порядком уже подросшими. Солдат, скривив губы в улыбке, указал на одного из них, самого рослого, одетого в теплую куртку и шапочку с козырьком, – это был он сам. Потом, поскольку зрачки синьоры блуждали по этой безымянной компании вполне равнодушно, он провел пальцем по пейзажу и небу дальнего плана и сообщил ей: «Дахау».
Тон его при произнесении этого названия был тот, что бывает у трехмесячного котенка, требующего положить его в теплую корзинку. Но слово «Дахау» ровно ничего не означало для Иды, она никогда еще его не слышала, разве что случайно, не фиксируя в памяти… Однако же при звуке этого географического названия, такого невинного и безразличного, тот стихийный и вечно находящийся в пути эмигрант, что теперь жил в ее сердце, шевельнулся и затрепетал. Потом, в панике перепархивая через темное пространство комнаты, он заголосил и принялся хаотически биться о стены в напрасной надежде вырваться.
Тело Иды оставалось безучастным, как, впрочем, и ее сознание, у нее просто слегка дрожали все мышцы, а в беззащитном взгляде застыло выражение категорического отвращения, словно перед нею было некое чудовище. А в то же самое время глаза солдата, темно-синие с фиолетовым оттенком, словом, цвета моря (с континента вы этого цвета не увидите, его можно наблюдать только переселившись на какой-нибудь средиземноморский островок) – глаза эти наполнились непорочностью, которая почти ужасала, ибо была древней, как само время, еще помнившей земной рай. И выражение взгляда хозяйки этим глазам показалось совершенно явным оскорблением. Их тут же затемнила буря, поднятая бешенством. Но сквозь темную пелену гнева просвечивал и некий детский вопрос, на который не ожидалось ответа, все же получить его так хотелось!
Именно в этот момент Ида, сама не зная, почему, принялась орать: «Нет! Нет! Нет!» – голосом истерическим, каким кричат совсем юные девы. В действительности это слово «нет!» она адресовала не ему, и не тому, что было за окнами, а той совсем иной, тайной угрозе, которую она ощущала каким-то внутренним нервом, которая в ней поднялась, всплыв из детских лет, и которую она считала изжитой. Словно вернувшись назад в детство, скользя вдоль времени, которое все сокращалось, пустившись вспять, она вдруг узнала то тяжелое головокружение, те странные отзвуки голосов и падающей воды, которые возвещали ей о приближении ее недуга, когда она была маленькой. И криком своим она теперь протестовала против подобного коварства, которое лишало ее возможности охранять свой дом и своего Нино!
Однако же ее новый и необъяснимый протест (а ведь ничего, кроме «нет», он от нее еще не слышал) подействовал на смутное недовольство, поднимавшееся в солдате, как сигнал к бунту, нарушению любых запретов. Неожиданно та горькая нежность, которая мучительно унижала его с самого утра, прорвалась в виде яростного желания: «Хочу женщину! Хочу женщину!» – закричал он, все повторяя в мальчишеском порыве еще два из тех четырех итальянских слов, которые он предусмотрительно потрудился заучить, пересекая границу. И даже не сняв ремня с френча, не обращая внимания на то, что имеет дело с женщиной немолодой, он набросился на нее, опрокинул на продавленный диван и стал насиловать с такой свирепостью, точно желал ее убить.
Он почувствовал, как она бьется под ним, но не зная о ее болезни, он счел, что она отталкивает его, и от этого еще более входил в раж, как всегда и бывает с пьяной солдатней. Она же в это время была в полусознании, она отключилась на какое-то время и от него, и от всего окружающего, но он этого так и не заметил. И так в нем набрякло суровое и подавленное напряжение, что в момент оргазма он испустил громкий протяжный вопль. Потом, несколькими секундами позже, он искоса взглянул на нее – как раз вовремя: он увидел ее лицо, полное удивления, на нем рождалась и все шире расходилась улыбка, несказанно кроткая и мягкая.
«Милая, милая», – повторял он ей (это было четвертое и последнее из выученных им итальянских слов). Он стал целовать ее – легкими, полными нежности поцелуями прошелся по ее лицу. Она как будто бы рассматривала его, продолжая улыбаться ему – вроде бы с благодарностью. Она медленно приходила в себя, все еще лежа под ним. И в этом состоянии расслабленности и покоя, которое всегда охватывало ее между концом приступа и полным возвратом сознания, она почувствовала, что он снова проникает в нее, но на этот раз медленно, движениями настойчивыми и убедительными, точно он и она были мужем и женой, и их тела уже привыкли друг к другу. Она снова обретала то чувство внутренней полноты и отдыха, которое испытывала девочкой по окончании приступов, когда добрая и уютная комната отца и матери вновь принимала ее в себя; вот только эти детские переживания сегодня расширились через испытанное ею состояние полусна-полубодрствования, к ним добавилось блаженное ощущение полного воцарения в собственном теле. То, другое тело, алчное, резкое и горячее, которое сейчас проникало в самое средоточие нежного материнского естества, несло в себе все сто тысяч лихорадок и свежестей выздоровления, и приступов молодого голода, которые стекались к ней издалека и давали возможность ощутить себя девушкой, которую желает мужчина. Он был для нее сразу ста тысячами зверей-юношей, земных и уязвимых, сошедшихся, чтобы танцевать безумный и веселый танец, отзывавшийся во всем ее теле вплоть до самой глубины легких, вплоть до корешков волос, взывающий к ней на всех языках мира. Потом он надломился, снова стал сгустком молящей плоти, чтобы растаять внутри ее живота с нежностью, теплотой и простодушием, и это вызывало у нее растроганную улыбку – ведь это было как подарок бедняка или ребенка!
Однако же, она и теперь не получала настоящего эротического наслаждения. Это было невероятное ощущение счастья, но без всякого оргазма, – так бывает иногда во сне перед наступлением половой зрелости.
Солдат, насытившись, издал тихий стон, затерявшийся среди поцелуев, потом, обмякнув на ней всем телом, заснул. Она полностью обрела сознание и теперь ощущала его вес – ее голому животу было больно – скребло шершавое сукно армейской куртки, царапала пряжка ремня. Она обнаружила, что лежит, все еще разведя ноги, а его мужское достоинство, съежившееся, беззащитное, словно урезанное, тихо лежит на ее розе. Парень спал, безмятежно похрапывая, но когда она сделала движение, чтобы освободиться, он инстинктивно прижал ее к себе, и его лицо во сне приобрело выражение собственническое и ревнивое, словно она и вправду была его любовницей.
Она так ослабела, что усилия, предпринятые ею чтобы выбраться из-под него, показались ей какими-то запредельными. Но в конце концов ей удалось высвободиться, она повалилась коленями на пол, среди подушек, разбросанных перед диваном. Кое-как поправила на себе одежду, но усилия эти вызвали у нее приступ тошноты, от которой чуть не остановилось сердце, поэтому она осталась там, где была. Она не подымалась с колен, и перед ней был диван, на котором спал немец. Как и всегда, когда приходила в себя от приступа, у нее осталось только смутное воспоминание, ничего, кроме изначального ощущения кражи, которая совершилась во мгновение ока. На самом деле в ее памяти образовался полный провал – от того момента, когда этот молодой человек кинулся целовать ее лицо, шепча ей «Милая, милая», до того, более раннего момента, когда он стал показывать ей фотографию.
Однако же и все предыдущие события, а не только те полные страха минуты, которые предшествовали появлению в ее квартире немца, все прошлое целиком, если идти назад во времени, представлялось ей в воспоминаниях только еще наступающим, совершенно размытым за счет огромного от нее удаления. Она оторвалась от перенаселенного и горланящего континента своей памяти, отплыв на лодке, которая за этот краткий интервал успела обойти вокруг земного шара; а теперь, подплывая к точке отбытия, она обнаружила, что этот континент молчалив и спокоен. Там больше не вопили толпы, там никто никого не линчевал. Привычные предметы, освобожденные от ауры привязанностей, были уже не инструментами, а существами – они происходили из растительной или водной стихии – водоросли, кораллы, морские звезды – они просто дышали, погруженные в вечный покой моря, никому при этом не принадлежа.
И сон человека, на нее напавшего, распростертого теперь перед ней, казалось, покоился на чуме и проказе всеобщего жизненного опыта – на насилии и страхе; он был похож на выздоровление. Водя глазами по сторонам (они были промыты недавним приступом недуга, словно водой, даровавшей ей изумительную четкость зрения), она заметила на полу собственные стоптанные туфли, они свалились у нее с ног, так же, как и шляпка с головы, когда она, потеряв сознание, билась в объятиях немца. Но даже не подумав подобрать то и другое, потерянно сидя на собственных голых пятках, она вновь вперила в спящего широко раскрытые глаза, с глуповатой миной девочки из сказки, девочки, рассматривающей дракона, которого волшебное питье сделало совершенно безобидным.
Теперь, когда любовница выскользнула из его объятий, парень обнимал подушку, он крепко сжимал ее, упорствуя в своей ревности собственника, проявленной за несколько минут до этого. Правда, теперь его лицо приняло другое выражение, сосредоточенное и серьезное. Ида, почти не отдавая себе в этом отчета, тут же прочла, какой сюжет ему снится, и как он развивается, хотя точных деталей распознать не смогла. Сон был под стать мальчугану лет восьми. Речь в нем шла о делах сугубо важных: велись какие-то препирательства о покупке или продаже велосипедов или деталей к ним, и мальчику приходилось разговаривать с каким-то типом, не внушающим доверия, к тому же весьма эксцентричным – возможно, левантийским контрабандистом, или гангстером из Чикаго, или малазийским пиратом…
Он пытался надуть мальчишку, и вследствие этого губы спящего, бледно-розового оттенка, потрескавшиеся, выпячивались, выражая невысказанный упрек. Веки напрягались, и от этого подрагивали золотистые брови, такие коротенькие, что они казались просто пылью, насыпанной на кожу. Лоб его морщился, собираясь в складки под прядями волос, которые были темнее бровей и гладкими; в них чувствовалась влажная свежесть. Такой свежестью отдает от шкурки рыжего котенка, которого только что вылизала мамаша.
Так легко было бы сейчас убить этого парня, поступить, как библейская Юдифь; вот только Иде по самому складу ее натуры не могла прийти в голову подобная мысль, даже в виде фантазии. Ум ее, отвлекшийся было на чтение сна, был затем опечален мыслью, что вторгшийся к ней человек, возможно, проспит так до самого вечера, и Нино, вернувшись домой, чего доброго, застанет его. Правда, Нино, с его-то политическими идеями, будет, пожалуй, даже горд подобным визитом и примется пожимать руку этому немцу, изнасиловавшему его мать, словно близкому приятелю…
Но нет, прошла еще минута, и немец проснулся так же внезапно, как и заснул; проснулся, словно услышал властный зов казарменной трубы. Он тут же посмотрел на часы на запястье: он проспал всего несколько минут, однако же теперь у него оставалось не слишком много времени, чтобы прибыть на пункт сбора, не опоздав на перекличку. Он потянулся, но вовсе не с тем нахальным блаженством, с каким выныривают из освежающего сна мальчишки-подростки, а скорее с неудовольствием и озабоченностью человека, попавшего под проклятие, который, проснувшись, вспоминает, что его руки и ноги закованы в кандалы. Солнце уходило, в комнате начинали сгущаться сумерки. Ида, встав с пола, на своих босых и дрожащих ногах подошла к розетке, хотела воткнуть вилку настольной лампы. В вилке был плохой контакт, свет лампы мигал. Вот тут Гюнтер, который в Германии работал электромонтером, достав из кармана особый складной нож (предмет зависти всей роты, многофункциональный инструмент, в котором, кроме режущего лезвия, была еще бритва, напильник и отвертка), тут же блестяще починил вилку.
По его предупредительности и добросовестности было понятно, что эта операция важна ему в силу двух причин. Во-первых, она давала ему возможность, хотя и совсем маленькую, что-то сделать для жертвы своего преступления, каковое теперь, когда действие вина почти закончилось, начинало беспокоить его и даже терзать. А во-вторых, у него появлялся предлог, чтобы еще немножко побыть в этой маленькой комнатке, которая в этот день – пусть даже вопреки воле хозяйки – приняла его по-человечески. По выходе отсюда его ожидала только Африка. Она теперь была похожа на деформированный кратер посреди скучной и убогой пустыни.
Тем временем, притулившись в тени стены, Ида смотрела на немца, чинившего вилку, с молчаливым восхищением, потому что в ней (как и во многих дикарях) жило глухое невысказанное предубеждение против электричества и всего, что с ним связано.
Наладив лампу, немец все же остался сидеть на краю дивана и сочтя, что предлог для разговора теперь имеется, собирался уже похвастаться:
– Нах Африка, – сказал он, уставив палец в собственную грудь. Но тут же он сообразил, что это военная тайна, и поспешно закрыл рот.
Вероятно, с минуту он еще медлил, сидя на диване, ссутулившись, уронив руки на колени, словно эмигрант или каторжник, которого только что погрузили на пароход, и вот теперь звучит прощальный гудок. Он больше не смотрел ни на какие предметы, его глаза выражали одиночество, они были устремлены на лампу, которая теперь бросала ровный свет на изголовье дивана (эту самую лампу Ниннуццо зажигал по вечерам, читая в постели свои иллюстрированные журнальчики). Если взглянуть со стороны, в глазах его читалось некое любопытство, смешанное с озадаченностью, но в действительности они были совершенно пусты. При электрическом свете их синяя радужка выглядела почти черной, в то время как окружавшие ее белки теперь очистились – они больше не были замутнены вином, они были молочно-белыми с голубоватым даже оттенком.
Внезапно парень поднял глаза на Иду. Она поймала его взгляд – отчаянный взгляд, в котором сквозили бесконечное невежество и полное, совершенное знание всего на свете; то и другое, смешавшись вместе, потерянно умоляло о единственной милости, невозможной милости, неясной даже тому, кто о ней просил.
Когда он был готов уже идти, ему пришла мысль оставить ей что-нибудь на память – такая привычка выработалась у него при расставании с другими девушками. Однако он не знал, что бы такое ей дать, и стал рыться в карманах; ему попался его знаменитый ножик, и, хотя жертва была значительной, он вложил его в ладонь Иды, не пускаясь в объяснения.
Но и он тоже хотел унести что-нибудь на память. Он обводил комнату растерянным взглядом, не находя ничего достойного, как вдруг на глаза ему попался букетик цветов, вида затрапезного, чуть ли не измазанных в чем-то (это было подношение школяров); эти цветы никто с самого утра так и не удосужился поставить в воду, и они лежали на этажерке, успев уже наполовину увянуть. И вот он, вытащил из букета маленький красноватый цветочек, со всей серьезностью пристроил его в своем бумажнике среди каких-то документов и произнес: «Mein ganzes Leben lang!» [5]5
Mein ganzes Leben lang! – Это мне на всю жизнь! (нем.).
[Закрыть]
Для него, разумеется, это была всего лишь фраза. И он произнес ее с теми характерными интонациями, интонациями заправского фата и бабника, какие все парни мира пускают в ход, расставаясь со своими девушками. Это фраза ритуальная, ее произносят эффекта ради, а с точки зрения логики она ничего не стоит – ведь никто из жертв не полагает, что сохранит какое-то там воспоминание в течение всей той неописуемой вечности, которую представляет из себя наша жизнь! Вот только он не знал, что из всей этой вечности в его распоряжении остается всего несколько часов. Его пребывание в Риме закончилось в тот же вечер. А через какие-то три дня десантная эскадрилья, принявшая его на борт (она вылетела из Сицилии и направилась на юг или юго-восток) была атакована над Средиземным морем. Среди погибших оказался и он.