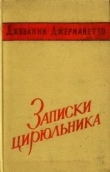Текст книги "La Storia. История. Скандал, который длится уже десять тысяч лет"
Автор книги: Эльза Моранте
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 48 страниц)
Кошелка была переполнена и не закрывалась. Из кучи мусора, лежавшей рядом, она добыла кусок газеты и укрыла им краденую муку. Теперь можно было и на трамвай.
В доме в это утро не было не только газа, но и света, и воды. Однако Филомена, благодарная за подарок в виде кулька муки, сделала ей домашней лапши и сварила ее вместе со своей, добавив в нее горсточку вареной уже фасоли.
Еще одну толику муки Ида захватила с собой, когда после полудня пошла по магазинам. Кроме магазинов, в этот день, как и каждый четверг после того, как перестали работать школы, ей предстояло пойти на частный урок в район Трастеверинского вокзала. А на обратном пути она рассчитывала зайти на виа Гарибальди – там она знала одного человека, который в обмен на муку мог дать ей мяса, и тогда она приготовит для Узеппе хороший ужин.
Этот план торчал у нее в голове, словно некий железный стержень. Было первое июня, и странным образом получалось, что как раз к этой дате вся усталость, накопившаяся за месяц, навалилась на нее непомерной тяжестью. После пережитой боязни умереть, овладевшей ею во время бегства, она теперь чувствовала себя хуже прежнего, потерянной и побитой, как бездомная собака, за которой гонятся живодеры. Двигаясь к виа Гарибальди, она почувствовала, что ноги под нею подгибаются, и присела отдохнуть на скамью в садике по ту сторону моста. Умом она витала бог знает где, и поэтому очень смутно воспринимала голоса людей, которые о чем-то говорили рядом с нею – в садике ли, на ближайшей ли трамвайной остановке. Темой разговоров было все то же самое: судачили о бомбежке, которая в этот самый день обрушилась на окраины Рима, один говорил, что убитых человек двадцать, другой – что двести. Она отчетливо осознала, что сидит в садике, но вместе с этим обнаружила, что бежит через квартал Сан Лоренцо. Она несла на руках что-то бесценное, и скорее всего это был Узеппе, но хотя вес тела она ощущала вполне явственно, то, что она несла, не имело ни формы, ни цвета. Да и квартал, который на глазах окутывался белесой пылью, вовсе уже не был Сан Лоренцо, это была чья-то чужая территория, без единого дома, и тоже почему-то бесформенная. Она вовсе не грезила, она вполне четко слышала гул трамвая, бегущего по рельсам, и голоса пассажиров на остановке. Но в то же самое время она знала, что ошибается, и что гул происходит вовсе не от трамвая, это совершенно другой звук. Разом опомнившись, она устыдилась того, что сидит, полуоткрыв рот, а по ее подбородку течет слюна. Она в нерешительности поднялась, и только дойдя до середины моста Гарибальди, осознала, что направляется в гетто. Она узнала зов, манивший ее туда, который на этот раз доносился до нее, как тихая, навевающая покой, колыбельная, только вот колыбельная эта поглощала и делала неслышными все внешние звуки. Ее неодолимые ритмы были похожи на те, какими матери баюкали своих чад, но ими же и целые племена сзывались когда-то на ночные сходки. Им никто никого не учил, они пребывают записанными в семени всех живущих, чей удел – в конце концов умереть.
Ида знала, что небольшой этот квартал уже несколько месяцев назад был повторно очищен от всего населения. Последние беглецы, увильнувшие от властей в прошлом октябре и тайком вернувшиеся в свои клетушки, были выкурены из них в феврале, один за другим. Об этом позаботилась фашистская полиция, которая стала работать вместе с гестапо; теперь от гетто держались подальше даже бездомные и бродяги… Однако же в голове Иды все эти сведения сегодня заслонялись более древними воспоминаниями и привычками. Хотя и весьма смутно, но она все еще ожидала, что, войдя в этот квартал, она встретит обычное скопище кудрявоволосых и черноглазых убогих семейств, которыми будут заполнены и улицы, и подворотни, и оконные проемы. На первом же маленьком перекрестке она озадаченно остановилась – она больше не узнавала ни улиц, ни подъездов. На самом-то деле Ида находилась на въезде в улицу, которую весьма часто посещала в прошлом: узкая на первом своем отрезке, и застроенная низенькими домами, она затем расширялась до подобия бульвара и стремилась вперед, давая на ходу разные мелкие ответвления вплоть до миниатюрной центральной площади. Называлась эта улица, если только я не ошибаюсь, виа СантʼАмброджо. Примерно в этом месте Ида бывала во время прошлых посещений гетто. Здесь вокруг располагались лавчонки и дворики, милые ее сердцу переулочки, здесь она сдавала на продажу и приобретала всякие пустяки; здесь она выслушивала от Вильмы, той, что «малость повредилась рассудком», радиосообщения, распространяемые синьорой и монахиней, здесь она впервые узнала от старушки в забавной шляпке официальную версию насчет полукровки и арийцев, здесь она когда-то повстречалась с повитухой Иезекиилью… Это был маленький круг общения, более миниатюрный, чем самая маленькая деревня, пусть внутри этих домов и теснились, в семьях по десять человек на комнату, тысячи иудеев. Но сегодня Ида тащилась в гетто, словно по огромному лабиринту, не имеющему ни начала, ни конца; и хотя она куда-то двигалась, она постоянно обнаруживала, что находится все в одном и том же месте.
Она смутно сознавала, что пришла сюда, чтобы что-то кому-то отдать. Более того, она знала фамилию – Эфрати, и тихонько повторяла ее про себя, чтобы лучше помнить. Она искала кого-нибудь, чтобы справиться. Но никто ей не попадался, на улицах не было ни одного прохожего. И ни одного человеческого голоса слышно не было.
В ушах Иды неумолчный рокот пушек на горизонте смешивался с громом ее собственных одиноких шагов. Кварталы гетто были в стороне от оживленного движения, свойственного набережной Тибра, и тишина этих залитых солнцем переулочков притупляла ее чувства, словно обезболивающий укол, заставляла ее забыть обо всех населенных территориях, имеющихся вокруг. Через стены домов она странным образом ощущала гулкий резонанс пустых квартир. И она продолжала бормотать: «Эфрати… Эфрати…», всецело доверившись этой ненадежной ниточке, чтобы не потеряться вовсе.
Вот она снова на маленькой площади с фонтаном. Фонтан был сухим. С лоджий и обшарпанных балконов, окаймляющих улочку, тихим дождем падали листья пересохших комнатных растений. На этажах больше не было обычной выставки выстиранных штанишек, пеленок и прочего добра; там и сям с внешних крюков свисали еще обрывки веревочек. В некоторых окнах были выбиты стекла. Через решетку подвального помещения виднелся зальчик бывшего магазина. Прилавка не было, на полках не было товаров, все было затянуто паутиной. Бросались в глаза там и сям запертые двери, но были и другие, взломанные во время грабежей – те были притворены или откровенно распахнуты. Ида толкнула одну такую взломанную дверь – небольшую, одностворчатую и тихо затворила ее у себя за спиной.
Вестибюльчик, размером чуть побольше собачьей конуры, был погружен в почти полную темноту, в нем было холодно. Но маленькая каменная лестница, просевшая и скользкая, была освещена – свет падал из окошка третьего этажа. На втором были две запертые двери, одна из них не имела никакой таблички. На другой – приклеен кусочек картона; на нем обыкновенной ручкой было написано: «Семья Астролого». А на стене, прямо над рукояткой колокольчика, были еще два имени, написанные карандашом: «Сара Ди Гаве» и «Семья Соннино».
На стенах лестничной клетки, выщербленных и покрытых пятнами сырости, можно было прочесть разные занимательные сообщения, выполненные рукой откровенно детской: «Арнальдо плюс Сара = любовь», «Ферруччо красивый» (ниже другая детская рука добавила: «говнюк»), «Коломба крутит любовь с Л.», «Ура команде „Рома“!».
Наморщив лоб, Ида вникала во все эти надписи, силясь отыскать в них не очень понятную причину своего присутствия здесь. В доме было всего три этажа, но лестница показалась ей непомерно длинной. Наконец на верхней площадке она нашла то, что искала. Правда, всевозможных Эфрати в римском гетто пруд пруди, и нет лестницы, на которой не жил бы хоть один носитель такой фамилии.
Дверей там было целых три. Одна, безо всяких надписей, сорванная с петель, вела в клетушку без окон, где на полу лежала кроватная сетка и тазик – то и другое порядком попорченное. Две другие двери были заперты. На одной была табличка с именем – «Ди Гаве», а выше, прямо на двери, были приписаны еще два имени: «Павончелло» и «Калб». А на второй была наклеена широкая бумажная полоска, возвещавшая: «Соннино. Эфрати. Делла Сета».
Ида чувствовала большую усталость и не смогла противиться искушению присесть на кроватную сетку. Через разбитое окно на лестничную клетку донеслось щебетание ласточки, и Ида очень удивилась. Эта пичужка не обращала внимания на бомбежки, треск и грохот в небе, маленькое ее тельце безошибочно ориентировалось в пространстве несмотря ни на что, и небо было для нее исхоженной тропой. А вот она, женщина сорока с лишним лет, чувствовала полную свою потерянность.
Ей пришлось сделать громадное усилие, чтобы не уступить искушению и не растянуться на сетке – чего доброго, она могла бы проспать на ней остаток дня и всю следующую ночь. И, конечно же, именно это усилие, при ее-то упадке сил, вызвало у нее слуховую галлюцинацию. Прежде всего ее удивила какая-то совершенно нереальная тишина, царившая в этом месте. Потом уши ее, в которых звенело от недоедания, начали различать какие-то голоса. По правде говоря, это была не совсем галлюцинация, потому что Ида прекрасно сознавала – источник этих голосов находился в ее собственном мозгу, более того – именно оттуда они до нее и доносились. Однако же было впечатление, что они попадают в ее слуховые каналы из какого-то неуточненного измерения, которое не принадлежит ни к внешнему пространству, ни к ее потаенным воспоминаниям. Это были чужие голоса, разные, по преимуществу женские; они звучали раздельно, но диалога не образовывали и друг с другом не общались. Они отчетливо произносили разные фразы, то восклицательные, то безразличные, но все до одной были обиходно-банальными, являлись какими-то собирательными отрывками обычной повседневной жизни:
«Я пошла на террасу собирать белье!..» – «Пока уроки не сделаешь, из дома ни ногой!..» – «Имей в виду, я сегодня же все расскажу отцу!..» – «Сегодня будут выдавать сигареты…» – «Хорошо, я подожду, но давай поживее…» – «И где же ты была все это время?..» – «Ма, я сейчас приду, еще минуточку!..» – «И почем они их продают?» – «Он сказал, чтобы я опускала макароны…» – «Погаси лампочку, свет денег стоит…»
Эти концерты из возгласов – штука обычная, иногда их слышат и вполне здоровые люди – чаще всего перед сном и после напряженного дня. Для Иды появление голосов не было такой уж новостью; просто в теперешнем состоянии эмоциональной хрупкости они вторглись в сознание как-то особенно властно. В ее ушах голоса, прежде чем замереть окончательно, стали повторять реплики друг друга, переплетаясь в каком-то сбивчивом ритме. И в этом их торопливом следовании ей мерещился некий ужасный смысл, словно все эти убогие сообщения выныривали из какой-то неотчетливой вечности, чтобы тут же погрузиться в другую неотчетливую вечность. Сама не зная, что именно она говорит, и почему она это говорит, Ида обнаружила, что бормочет в одиночестве, и подбородок у нее при этом прыгает, как у маленького ребенка, готовящегося заплакать: «Они все умерли, умерли, умерли…»
Она выговаривала это одними губами, почти беззвучно. И бормоча эту фразу на фоне царящего вокруг молчания, она почувствовала тяжесть, как бы давление некоего акустического лота, зондирующего глубину ее памяти. В это время ей удалось сообразить, что сегодня она пришла сюда, чтобы вручить депешу, подобранную возле поезда 18 октября на Тибуртинской навалочной станции, и тут же она принялась судорожно рыться в отделениях сумочки, в ней эта записка так и лежала того самого дня. Листочек был истрепан и грязен, карандашные буквы стерлись почти целиком. С трудом можно было прочесть: «… видите Эфрати Пачифико… фсей симьей… ище сто дваццать лир.» Остальное было совсем уже неразборчиво.
Ею овладела тревога – нужно было уходить из этого места. Когда она давеча полезла за сумочкой, она увидела на дне кошелки кулечек муки, который она туда сунула, выходя из дома – этот кулечек призывал ее совершить какой-то неясный, но не терпящий отлагательства поступок, надо было спешить, надвигался вечер… В полубессознательном состоянии она выбралась на площадку. Электрические звонки на двух закрытых дверях не отозвались, и тогда она принялась стучать в ту и другую дверь, как придется, мечась по узкой площадке. Она знала, что стучит безрезультатно, да и бесцельно, и поэтому скоро перестала. Однако же, когда она стала спускаться и направилась к двери подъезда, эти ее бессмысленные удары, направленные в пустоту, вместо того, чтобы прекратиться, обрушились на нее и стали в ней колотиться где-то между горлом и подложечкой. Истертое послание с Тибуртинской навалочной она уронила наверху, на лестнице, там оно и осталось.
Тем временем ей опять пришло на ум, что нужно бы безотлагательно отправиться на виа Гарибальди и попробовать поменять муку на кусочек мяса для Узеппе. Но тут фортуна явилась ей на помощь. Ближе к Портику Октавии, совсем рядом с гетто, она приметила в одной из подворотен лесенку в три или четыре ступеньки и притворенную дверь, из-под которой тоненьким ручейком сочилась темная жидкость. Она эту дверь отворила и оказалась в просторном, скудно освещенном через единственное внутреннее окошко в чулане, который сейчас использовался как полулегальная бойня. Мускулистый парень в трикотажной фуфайке, с костистым лицом, с руками в крови, стоял у скамьи, рядом с огромным чемоданом, набитым окровавленной газетной бумагой, и топориком рубил на части разделанную уже тушу козленка. И он, и несколько бывших там клиенток торопились – еще и потому, что на носу был комендантский час. Скамейка была грязной и мокрой, на одном ее конце лежали две окровавленные козьи головы и стояла корзинка, полная смятых мелких ассигнаций.
В закутке этом витал сладковатый и теплый запах, от него поднималась тошнота. Ида неуверенно приблизилась, ее одолевала робость, словно она собралась что-то украсть. Не говоря ни слова, с поджатыми губами и дрожа лицом, она положила на скамью свой кулечек с мукой. Парень бегло на него взглянул свиреповатым глазом и не стал тратить времени на разговоры – он тут же сунул ей в руки кусок, завернутый в газету, последний кусок, оставшийся от козленка – ляжку и часть лопатки.
Прохожие проворно разбегались по домам, но Ида плохо понимала, который теперь час. В действительности, с тех пор, как она прикорнула в садике, прошло куда больше времени, чем она думала. Вот-вот должен был наступить комендантский час. Когда она добралась по набережной Тибра до Торговой площади, она, сама того не ведая, оказалась единственной прохожей в полностью обезлюдевшем городе. Ворота и подъезды повсюду закрывались. К счастью, в эту минуту ни одного патруля поблизости не было. Солнце, которое только-только начинало опускаться, выглядело звездою, диковинной и одинокой, навевавшей почему-то мысли о Северном полюсе. И все то время, пока она шла вдоль набережной, река, по которой косо били солнечные лучи, была в ее глазах совершенно белой. По дороге к дому она не видела ничего, кроме этой жидкой и ослепительной белизны, разлитой в воздухе; она стала торопиться, забеспокоилась, подозревая, что попала на какую-то экзотическую планету… Впрочем, идти по этой планете было так уютно! Вышагивая несвязно и как-то припархивающе, она заботливо и ревниво прижимала к себе кошелку, в которой лежал кусок козлятины; она была похожа на зачуханную воробьиху, возвращающуюся на свое дерево с жирным червяком в клюве. И когда, глядя через улицу, она признала свою парадную, то благодарно подняла к небу глаза, и скользя взглядом по этажам, стала разыскивать свои окна. Ее глазам все эти окошки показались черными трещинами на белом боку айсберга. Ворота как раз закрывались. Она припустилась бегом; собственное тело от слабости показалось ей совершенно невесомым.
В эту ночь, после значительного перерыва, ей привиделся сон. Обычно-то ее сны были цветными и сочными, но этот оказался черно-белым и расфокусированным, словно старая фотография. Она находилась перед забором, за ним было что-то вроде заброшенной свалки. Повсюду валялись груды башмаков, изношенных и пыльных; казалось, их износили много лет тому назад. А Ида, одна-одинешенька, с тревогой разыскивала в этом нагромождении какой-то нужный ей башмачок маленького, почти кукольного размера, и найти его было необыкновенно важно, и результат поисков должен был стать ее окончательным и непререкаемым приговором. Сон не имел продолжения, он весь состоял из этой единственной сцены. Но хотя он ни во что не перешел и никак не объяснился, он, казалось, рассказывал долгую, долгую историю, в которой ничего нельзя изменить.
На следующее утро впервые за многие месяцы Ида не смогла подняться спозаранку. А когда наконец поднялась, то все у нее валилось из рук, и только к одиннадцати она собралась пойти в стипендиальную кассу, надеясь, что сегодня окошечко, где выдают месячное жалованье, наконец откроется.
Когда Ида вернулась, Филомена уговорила ее съесть порцию лапши. Поскольку она давно изжила в себе чувство голода, первые ложки она проглотила нехотя, но потом стала поедать то, что оставалось, с такою прожорливостью, что скоро ее желудок, отвыкший от пищи, отозвался позывами на рвоту. Тогда она растянулась на кровати животом вверх, глаза у нее были выкачены – так силилась она сдержаться и не изводить напрасно драгоценную лапшу.
Погода стояла великолепная, совсем уже летняя, но Ида сильно мерзла, и ей постоянно хотелось спать, так что периодически она, не в силах сопротивляться, как сноп валилась в постель. Погружаясь в полудрему, она вновь и вновь видела в некой далекой потусторонности ту, другую Иду, что вплоть до вчерашнего дня носилась по улицам, словно заправский гонщик, изворачивалась и воровала… «Школьная учительница! Преподавательница!» – говорила она себе, содрогаясь от этих картин. Она уже ощущала себя под судом, ее тащили во Дворец Правосудия, а среди судей была директриса ее школы, районный инспектор, главнокомандующий немецких вооруженных сил и несколько людей в мундирах отрядов Итальянского Действия. Такое состояние продолжалось у нее еще два дня. Потом ей стало неописуемо жарко, горло у нее пересохло. Мучила лихорадка. Но время от времени ее освежала слабенькая струйка воздуха – у ее лица колыхались то ли листья растений, то ли миниатюрные крылья какой-то птицы:
«Ма, ну ма! Ты почему так долго спишь?»
«Я сейчас встану… Ты поел?»
«Дя. Филомена дала мне лапши».
«Ты должен говорить „синьора Филомена“… Ты хоть поблагодарил ее?»
«Дя».
«И как же ты ей сказал?»
«А я сказал: „Меня тоже просят?“, и она мне сказала: „Садись!“».
«„Меня тоже просят?“ Ты так и сказал? Так нельзя говорить… Я же тебе объясняла – никогда не нужно набиваться… Но ты хоть потом-то ее поблагодарил?»
«Ну, конечно. Сначала я ей сказал „Меня тоже просят?“, а потом я сказал ей „Чао“».
В эти дни Филомена и Аннита тихо радовались, потому что Сантина вычитала в картах, что скоро заключат мир, и тогда Джованнино даст о себе знать. А вот Томмазо, глава семейства, был настроен очень мрачно. В его больнице говорили, что немцы будут сопротивляться до последнего, и, уж во всяком случае, прежде чем уйти, они взорвут все свои пресловутые мины, и что даже Папа Римский готовится удрать вместе с «ватиканским воздушным флотом», на своем бронированном самолете куда глаза глядят.
Все шоссейные дороги вокруг Рима были наполнены шумом грузовиков, а над ними висел вой самолетных моторов. Со стороны Кастелли непрерывно валил густой дым. Вечером третьего июня Томмазо, который интересовался футболом и болел за команду «Лацио», пришел домой совсем убитым: в довершение ко всему прочему, произошло уж совсем черт знает что – «Тиррения» разделала «Лацио» под орех. Значит, эта команда не выйдет в финал, а это на руку ее заклятой сопернице, команде «Рома».
С сегодняшнего дня Томмазо находился в отпуске. Больница стала недостижима, только что вышло распоряжение – переходить по мостам через Тибр теперь запрещалось. Таким образом город разделился на две территории, отрезанные друг от друга. При этом известии реальная топография Рима в несчастной, воспаленной голове Иды встала торчком и окончательно смешалась. Все ее нахоженные маршруты – не только школа на Яникульском холме и район Трастевере, но и Тор Ди Нона, и квартал Сан Лоренцо, и стипендиальная касса – становились недоступными, поскольку были расположены на противоположном берегу реки. А гетто, этот крохотный городок, отдалялся от нее на расстояние поистине космическое, он был за каким-то там мостом, удлинившимся теперь на целые десятки миль.
А еще Томмазо сказал, что собственными глазами видел, как со стороны площади Венеции вдоль Корсо двигается нескончаемая череда грузовиков, битком набитых германскими солдатами, и те совсем черны от копоти, и вдобавок все в крови. Люди смотрели на них – и не говорили ничего. И сами солдаты тоже ни на кого не смотрели.
Вечером 4 июня электричество отключили, и поэтому все улеглись спать очень рано. Район Тестаччо, озаренный луной, спокойно дремал. А ночью в Рим вошли союзники. Улицы внезапно наполнились шумом, словно на дворе был Новый год. Распахнулись окна, подъезды и подворотни, развернулись флаги. Немцев в городе больше не было. И с этажей, и с улиц неслись крики: «Да здравствует мир!», «Да здравствует Америка!»
Дедушка рывком проснулся, привычно застенал – «Ой, ма… ой, ма…», принялся отплевываться в свой тазик. – «Ой, ма… Ой, ма…»
«Дядюшка, дядюшка… Вам нужно что-нибудь?»
«Мне бы… мне бы… рр-у-у-ху-хуррр… Ой, ма… Вам все дядюшка да дядюшка… Подышать бы мне как следует… Подышать… Тут германцы эти… немцы, стало быть… с ними ведь не подышать… У-хр-р-хр-р… замордовали совсем… цыганенок я голенький… р-р-х-х-у-р-р…»
Между тем в доме началось какое-то движение. «Американцы! Пришли американцы!»
Узеппе, наэлектризованный, шлепал в темноте босыми ножонками: «Ма! А ма! Ламиниканцы, ламиниканцы пришли!»
Ида спала, во сне она видела себя в Козенце, девочкой, и мать настойчиво звала ее, нужно было вставать, подошло время собираться в школу. Только вот на улице было холодно, а она боялась надевать туфли, от холода у нее на ногах появились пузыри. Она была слишком усталой, чтобы вставать, она что-то неразборчиво пробормотала и снова погрузилась в сон.