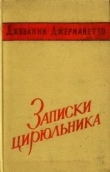Текст книги "La Storia. История. Скандал, который длится уже десять тысяч лет"
Автор книги: Эльза Моранте
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 48 страниц)
7
В результате этого последнего разговора не проходило дня, чтобы Узеппе не выбегал посмотреть на небо, едва проснувшись; каждое утро он проделывал это несколько раз, иногда подолгу он ожидал погоды, усевшись на ступеньку у входной двери. Но прошло немало дней, и многие из них были погожими, прежде чем Нино сдержал обещание. А пока суд да дело, ход октября был отмечен другими событиями, весьма знаменательными для обитателей приюта.
Одним из таких событий было отбытие Джузеппе Второго на партизанскую войну. Как-то воскресным утром, всего через несколько дней после знаменитого вечернего банкета, он вернулся из очередной вылазки в город, объятый радостью и нетерпением. Впервые с тех пор, как они его узнали, он предстал перед ними без всегдашней шляпы. Он единым духом пролетел через комнату, уделив и присутствующим, и разговорам с ними самый минимум внимания. Затем он минуты за две собрал на скорую руку узелок с самым необходимым, попрощался со всеми, сказав, что вообще-то он еще зайдет, и заберет разные другие вещи, которые могут ему понадобиться. Но если получится так, добавил он, что он в ближайшее время лишится жизни, то он торжественно заявляет в присутствии свидетелей, что оставляет в наследство синьоре Иде Манкузо и ее малолетнему сынишке, здесь присутствующим, все свое имущество, которое после его кончины еще окажется в этой комнате, включая сюда двух канареек и кошку. Дойдя до живности, он не забыл вручить какую-то мелочь Карулине, наказав ей заботиться о птичках в его отсутствие. Что до Росселлы, сказал он, то она вполне может перебиться за счет помоек и мышей.
В этот час Росселла как раз охотилась где-то в окрестностях. Конечно же, по многим причинам, и в том числе из-за беременности (которая близилась к концу, хотя никто ее не замечал и даже не мог заподозрить), она в эту осеннюю пору мучилась непрестанным и яростным голодом и даже стала подворовывать, так что приходилось защищать съестное от ее клыков. Каждый раз, когда Карло выходил на улицу, она тоже, презирая всякую другую компанию, выбиралась на воздух вместе с ним и устремлялась на охоту. Таким образом, она не смогла сейчас попрощаться с хозяином, а тот, со своей стороны, не стал ее разыскивать и даже не расспросил о ней. Было ясно, что всевозможные семейные дела в глазах Джузеппе Второго теперь даже и окурка не стоили по сравнению с восхитительным и радостным событием, которое он теперь переживал.
Прежде чем уйти, он отвел Иду в сторонку и доверительным шепотом сообщил ей две вещи. Первая – при любой необходимости снестись со своим сыном, Червонным Тузом, а также при желании получить о нем какие бы то ни было известия, она всегда может обратиться к Ремо, хозяину винного погребка и старому ее знакомцу. Второе – с сегодняшнего дня и сам он, Джузеппе Второй, по фамилии Куккьярелли, становится настоящим партизаном, и ему присваивается боевая кличка Муха, которую он сам себе выбрал по доброй воле. Второе из этих двух известий, как старикан уточнил в разговоре с Идой, она, конечно же, может передать их общим друзьям, достойным доверия, а вот первое она должна хранить в себе вплоть до дня победы, когда все красные знамена смогут свободно развеваться на ветру свободы. Высказав все это, партизан Муха сощурил один глаз, в знак того, что теперь они политические сообщники, и вылетел из комнаты.
Да, он именно вылетел, иначе не скажешь. Джузеппе Второй в этот день пребывал в настроении столь радужном, что и тон принял какой-то заоблачный, подобающий разве что школяру, отпущенному на каникулы, даже когда допустил бы, что все это для него, не дай Бог, закончится плачевно. И Ида, которая с самого первого дня про себя окрестила его Сумасшедшим, лишний раз нашла тому подтверждение. Однако же, как только он отбыл, ее охватило чувство грусти, словно прощание Сумасшедшего с нею было его прощанием с жизнью, и им не суждено уже было увидеться. И в продолжение всего дня созерцание свернутого матраца и груды прочих вещей, принадлежавших Джузеппе Второму, вызывало у нее сердечную боль, несмотря на ее персональную заинтересованность возможной наследницы; в результате она избегала смотреть на его осиротевший угол.
Другое дело – кошка Росселла. Когда она вернулась домой около полудня, она, вроде бы, даже не заметила отсутствия хозяина, который обычно в эту пору дня возился со своими плитками и спиртовками и вскрывал консервные банки с осьминогами в собственном соку или фасолью быстрого приготовления. Сумрачно избегая контактов с людьми, Росселла, нагнув голову и держа хвост трубой – ни дать ни взять велосипедист на разгоне – побежала к занавеске Карло Вивальди и там по привычке устроилась возле него на матрасике, растянувшись во всю длину, чтобы дать отдых своему отяжелевшему животу. Она ничем не показала – ни теперь, ни в последующие дни – что помнит того, другого человека, который как-никак подобрал ее котенком на улице, дал ей имя и жилище.
На этой же неделе партизан Муха, как он и предупредил, и вразрез с грустными предчувствиями Иды, забегал к ним раза два. Он приходил забрать кое-какую мелочь, могущую пригодиться там —скажем, одеяло или кое-что из продуктов; заодно он запирался в уборной и ополаскивался, потому что там, объяснял он, воды для умывания не было, зато было сколько угодно доброго вина из виноградников Кастелли. И он объяснил, что забежал сюда по дороге, и что теперь он работает для своих товарищей связным: «С окраины в центр, а из центра опять на окраину».
Всеми своими морщинками, всеми порами он источал радость, и доверительные известия, которые приносил, были одно другого лучше – Ниннуццо и Квадрат, и все прочие товарищи совершали удивительные подвиги, и вершили историю, и чувствовали себя прекрасно. Команда девушек из Кастелли уже шила для них элегантные партизанские мундиры, которые они наденут на парад, посвященный дню Освобождения – синего цвета, с красной звездой на берете. Английские летчики, пролетая над полями, приветствуют их с самолетов, и двое беглых английских военнопленных, которые целые сутки гостили у Ниннуццо и его компании, предсказали, что Рим будет освобожден, самое позднее, в конце этого месяца (ходили слухи, что штурм планируется на двадцать восьмое октября). Сообщив эти ободряющие новости, скромный герольд поприветствовал всех дружескими взмахами ладоней и отбыл на манер доброго домового.
Теперь, когда даже Джузеппе Второй (когда-то настроенный по этому поводу весьма скептически) предсказывал скорое освобождение, члены «Гарибальдийской тысячи» начали собирать пожитки и готовиться отбыть в Неаполь сразу, как только союзники войдут в Рим. Было договорено, что и Карло Вивальди отправится вместе с ними; однако же Карло, дав себе роздых на банкете, снова ушел в изоляцию и сделался еще более диким и подозрительным, чем раньше, как будто стыдился того краткого момента, когда он дал себе забыться. На основании его рассказов женщины из клана «Гарибальдийской тысячи» среди всего прочего выдвинули также и предположение, что он еврей. Но эта догадка высказывалась в их большой комнате скрытно, с большой осмотрительностью и полушепотом – действовал некий инстинктивный обет молчания всех обитателей комнаты в отношении парня, попавшего в беду. Считалось, что подобные вещи, даже если говорить о них вполголоса, способны навлечь на человека неприятности и сыграть на руку всеми ненавидимой полиции германцев.
Как-то раз в воскресенье Торе, брат Карулины, вернувшись из города, где он занимался своими таинственными операциями, показал Иде газету «Мессаджеро». Там сообщалось, что школы возобновят занятия восьмого ноября. Торе среди «Тысячи» был наиболее грамотным, и ему нравилось щеголять своей культурой, комментируя газетные заметки, в особенности спортивную хронику. В это воскресенье он, среди прочих комментариев, заметил, что в «Мессаджеро» ничего не говорилось о событии, которое было у всех на устах, и о котором даже передавали по радио из Бари: [12]12
Бари – город на юге Италии, уже освобожденный от гитлеровцев англо-американскими войсками.
[Закрыть]вчера, в субботу, 16 октября, все евреи Рима были арестованы на заре германскими спецкомандами, которые прочесали дома, погрузили арестованных на грузовики и увезли в неизвестном направлении. Кварталы гетто, где от евреев не осталось и следа, теперь пустуют; но и в других районах и кварталах все евреи, одинокие или с семьями, были взяты эсэсовцами, у которых были точные списки. Арестовали всех – не только молодых и здоровых, но и пожилых, и больных, в том числе тяжелых, и женщин, включая и беременных, и даже грудных младенцев. Говорили, будто бы их всех отвезли и заживо сожгли в печах, но это, скорее всего, было преувеличением…
Пока Торе все это рассказывал, граммофон играл что-то танцевальное, мальчики прыгали вокруг него – таким образом, все эти комментарии утонули во всеобщем шуме. А потом, в ходе этого воскресного дня тема о злоключениях евреев как-то сама собою была замята членами «Гарибальдийской тысячи» – обсуждались уже совсем другие новости, которые поступали ежедневно – прямиком или окольными путями, подхваченные в городе, или пересказанные теми, кто слушал радио Бари или радио Лондона. На своем пути, как бы короток он ни был, эти новости искажались, обрастали преувеличениями и становились с ног на голову. И Ида научилась от них защищаться, полностью их игнорируя, словно страшненькие народные сказки; но эту новость она игнорировать не смогла – хотя бы оттого, что уже давно ожидала чего-то подобного, хотя сама себе в этом не признавалась. Едва она об этом услышала, как страх принялся ее терзать, он был подобен бичу, усаженному шипами, и даже корни волос – каждого волоса в отдельности – причиняли ей мучительную боль. Она не осмелилась требовать от Торе дальнейших разъяснений, да и вряд ли они были возможны; не знала она и к кому обратиться, чтобы узнать, занесены ли в списки виновныхи полукровки (именно этим термином она пользовалась в мыслях). Потом она легла в постель, и наступила темнота, и тогда страх еще больше усилился. Когда наступил комендантский час, вернулся Карло Вивальди – он в эти дни бродил по городу с особой охотой. Ида хотела было встать и расспросить его. Но она услышала, как он кашляет, и в этом кашле ей померещилось что-то ненормальное, почти ужасное. Да, кое-кто – и чуть ли не Нино! – поговаривал, что он еврей, но были и такие (этим мало кто верил), что считали его пацифистским стукачом. Насчет Карло, да и насчет всех остальных тоже, она почти была уверена – едва она произнесет слово евреи, как ее сокровенный секрет отпечатается у нее прямо на лбу, и прочитавшие его завтра же донесут на нее в гестапо.
Она легла не раздеваясь, и Узеппе она тоже не стала раздевать. Снотворного она на этот раз не принимала – немцы, если ночью придут за ней, не должны застать ее врасплох. Засыпая, она прижала к себе Узеппе, решив, что если с улицы донесутся шаги военных (эти шаги узнаются сразу!), а потом раздастся стук в дверь, она попробует бежать через луга, спустившись с крыши вместе с сыном; если за ней погонятся, она пустится бегом, добежит до болота и утонет в нем вместе с Узеппе. Страхи, что накапливались годами, теперь собрались воедино под влиянием ужаса, охватившего ее этой ночью, и выросли до размеров фантастического и безысходного кошмара. Подумывалось ей, что неплохо бы выйти наудачу на римские улицы со спящим Узеппе на руках, не обращая внимания на комендантский час – ведь когда земной ужас доходит до апогея, ночные бродяги становятся невидимыми… Можно вот еще пуститься бегом к горам Кастелли, разыскать там Сумасшедшего и умолить его спрятать их с Узеппе на тайной партизанской явке… Но отраднее всего была для нее мысль пойти вместе с Узеппе в гетто и лечь спать в одной из опустевших теперь квартир. Снова, как и в далеком прошлом, ее противоречивые страхи летели вслед за таинственной кометой, манившей ее прийти к евреям – там, в глубине глубин, ей было обещано материнское стойло, согретое дыханием животных и взглядом их расширенных глаз, в котором нет осуждения, а одно только сочувствие. И даже эти несчастные евреи, собранные со всего Рима и загнанные немцами в грузовики, в эту ночь приветствовали ее – они были блаженными, и они не знали, как и сами эти немцы, что их везут навстречу восхитительному обману, в несуществующее восточное царство, где все обратились в детей, у которых нет ни сознания, ни памяти…
Не смотрите, что смуглокожа,
что меня опалило солнце!
Милый мой белокож и румян,
у него золотые кудри.
Голос милого слышен, он в дверь стучится:
«Отвори мне, голубка моя дорогая!»
Поднялась я и стала ему отворять, но его не нашла,
я искала его, но найти не могла.
Набрела на ночные разъезды, что чистили город —
не приметили ль вы моего дорогого?
Не смогла уберечь я свой виноградник,
он отнес меня в дом,
пред очами моими знамена любви он развесил!
Я его не нашла ни на улицах, ни на площадях,
я взывала к нему, но он мне, увы, не ответил.
Раньше чем день истечет и окончится ночь,
вернись, мой козленок, вернись, мой олень быстроногий!
Ах, будь ты мне братом родным,
у сосцов моей матери вскормленным вместе со мной,
я, на людях тебя повстречав, целовала б тебя,
и никто порицаньем меня б не обидел…
Я в теле его отдохнула привольно,
он губами меня смаковал и меня он резцами ощупал,
приходи же, мой названый брат,
любоваться цветеньем лозы!
Я прошу и молю вас: коль встретите вы моего дорогого,
вы скажите ему – я нынче любовью больна…
Где она успела выучить эти стихи? Может быть, в школе, когда была маленькой девочкой? Она их никогда не вспоминала, она даже не знала, что знает их, и вот сейчас, в смутном бодрствовании, ей мерещилось, что ее собственный голос, только детский, ей их читает – в томной манере, жеманно и трагически.
Около четырех она задремала. Ей снова приснился привычный сон, посещавший ее довольно часто, с некоторыми вариациями, с прошлого лета: сон, где отец укрывает ее своим изношенным плащом. На этот раз плащ укрывал не только ее одну. Под ним был еще и Узеппе, совсем голенький (меньше, чем в натуре), и Альфио, ее муж, тоже обнаженный, но весьма в теле. И сама она была тоже голой, но не стыдилась этого, хотя была уже состарившейся, в точности как сейчас, и все на ней обвисало. Улицы Козенцы перемешивались с неаполитанскими и римскими, и с улицами еще каких-то больших городов, как обычно и бывает во сне. Шел проливной дождь, однако у отца на голове была просторная широкополая шляпа, и Узеппе развлекался, шлепая по лужам голыми ножонками.
Дождь шел только во сне – после пробуждения оказалось, что стоит солнечное утро. Ида торопливо встала, помня, что сегодня понедельник, и она хотела купить Узеппе новые ботиночки (на талоны промтоварных карточек), поскольку его почти уже никуда не годились, а на носу, между тем, была зима. И она, и Узеппе собрались очень быстро, поскольку спали не раздеваясь. Тут же в голове у Иды мелькнула было экстравагантная мысль – отправиться за этой покупкой к знаменитому обувщику в гетто… Но она вовремя одумалась, вспомнив, что гетто выселено, от него остались лишь коробки домов, об этом рассказал Сальваторе. И тогда она решилась пойти в обувной магазин, что находился в Тибуртино, – в прошлые времена она в него захаживала частенько, он был по соседству с ее домом. Она рассчитывала, что найдет там среди нераспроданной обуви маленького размера башмачки из настоящей кожи еще довоенных времен – она их приметила весной. А заодно она собиралась зайти и к кабатчику Ремо (он, благодаря намекам Сумасшедшего, стал в ее глазах чем-то вроде серого кардинала) с мыслью выудить у него какие-нибудь сведения насчет того, виновны ли теперь полукровки, или все еще нет…
Сначала они довольно долго шли пешком, потом больше получаса ждали автобуса, идущего в Тибуртино. Зато им повезло при покупке обуви. Правда, те башмачки, что присмотрела Ида, были проданы всего несколько дней назад, но после долгих поисков им удалось найти пару высоких сапожек, каких у Узеппе никогда еще не было. Верх казался кожаным, подошва была каучуковая. К величайшему удовлетворению мамаши, предпочитавшей все покупать на вырост, сапожки были на два номера больше, чем носил Узеппе. Но ему больше всего понравились шнурки, которые были ярко-пунцового цвета и красиво выделялись на фоне светло-коричневой кожи верха. Даже сам продавец подтвердил, что это не сапожки, а настоящая фантазия.
Узеппе захотел надеть их прямо сейчас, и это оказалось весьма кстати, потому что, едва они вышли из лавки и повернули к станции, вокруг замелькали губительные следы бомбежек. Но мальчик, внимательно смотревший на свои новые сапожки, на эти следы не обратил никакого внимания.
Намереваясь теперь заглянуть и к кабатчику, Ида свернула в поперечные маленькие улочки, избегая по двум причинам пугавшей ее улицы Тибуртино с длинной стеной кладбища Верано. Она начинала чувствовать изнеможение после ночи, проведенной почти без сна; подходя к таким знакомым ей строениям квартала Сан Лоренцо, она бездумно ускорила шаг, повинуясь тому слепому стимулу, что гонит в родной хлев кобыл и ослиц. Но ручонка Узеппе, зажатая в ее ладони, оказывала сопротивление, и это ее придерживало. Внезапно она очнулась, и мужество продолжать путь, по которому она некогда возвращалась домой с работы, ей изменило. И тогда, отказавшись от визита к Ремо, она вернулась назад.
В сущности-то говоря, она просто не знала, куда ей податься. Ночное подозрение, что немцы ее ищут, все росло и росло в ее обессиленном мозгу, оно готово было отсечь ей пути возвращения в желанную общую комнату в Пьетралате. Все же она следовала за Узеппе, который, вышагивая мелкими шажками, вел ее к автобусной остановке, вел убежденно и радостно, хотя и неравномерно – сапожки были слишком просторны и он еще к ним не привык. Где-то возле площади Крестовых Походов их обогнала женщина среднего возраста – она, как безумная, неслась в одном с ними направлении. Ида ее узнала – это была еврейка из гетто, жена некоего Септимо Ди Сеньи, который держал лавочку подержанных вещей за церковью Святого Ангела в районе Пескериа. В предыдущие годы Ида не раз бывала у него, предлагая для продажи разную домашнюю мелочь и собственные безделушки. Иногда ей приходилось вести переговоры и с женой, которая становилась за прилавок в отсутствие мужа. Бывали дни, когда в малюсеньком помещении их магазинчика она замечала и кое-кого из их многочисленных детей и внуков: они ведь жили все одной большой семьей, занимая две комнаты прямо над лавкой.
«Синьора! Синьора Ди Сеньи!»
Ида звала ее по имени, все ускоряя шаги; в голосе ее звучало удивление и ликование. И поскольку женщина, по-видимому, ее не слышала, Ида подхватила Узеппе на руки и побежала за ней, желая непременно догнать. У нее не было никаких точных намерений, но она боялась потерять женщину из виду, цеплялась за эту неожиданную встречу, словно землянин, заблудившийся среди лунных пустынь и вдруг натолкнувшийся на собственного же близкого родственника. Но женщина не оборачивалась и не слышала ее. Когда Ида с нею поравнялась, она едва на нее взглянула – враждебно, угрюмо… Так выглядят умалишенные, отвергающие любые связи с нормальными людьми.
«Синьора!.. Вы меня не узнаете?! Я ведь…» – не сдавалась Ида. Но женщина более не обращала на нее внимания, более того – казалось, что она не видит ее и не слышит, хотя в то же самое время она ускорила шаг, как поступил бы человек, объятый подозрениями и желающий освободиться от докучной встречи. Женщина потела (она была довольно тучной); коротко подстриженные волосы, седоватые и тронутые желтизной, прилипли ко лбу, левая рука с «патриотическим» обручальным колечком из стали судорожно сжимала потрепанный маленький кошелек. Больше у нее ничего не было.
Ида бежала рядом с ней, ее объяла паническая тревога; Узеппе, сидящий у нее на руках, раскачивался на ходу.
«Синьора, – вдруг сказала Ида почти полушепотом, подойдя вплотную, обращаясь к ней, словно к своей личной наперснице. – Я тоже еврейка».
Но синьора Ди Сеньи не поняла ее и даже не прислушалась. В этот самый миг, вздрогнув от толчка какой-то внутренней тревоги, она прянула вперед и бросилась бежать, словно спугнутый зверек через маленькую площадь, направляясь к расположенной напротив товарной станции.
Станция после ряда бомбежек была наскоро восстановлена для движения, но ее низенький прямоугольный фасад грязно-желтого цвета оставался опаленным и зачерненным дымом разрывов. Поскольку это была второразрядная окраинная станция, там никогда не бывало много пассажиров, в особенности по понедельникам; и тем не менее сейчас там было как-то по-особенному безлюдно. В эту военную пору, в особенности же после начала немецкой оккупации, тут частенько происходила погрузка или разгрузка войск. Но сегодня военных не было видно, и лишь несколько людей в штатском неторопливо прохаживались туда-сюда. В это позднее понедельничное утро здание имело вид заброшенный и какой-то временный.
Но Узеппе все равно взирал на него, как на монумент мирового значения – возможно, он смутно припоминал тот день, когда они явились сюда вместе с Ниннуццо поглядеть на поезда. Он помалкивал и озирался вокруг с любопытством, позабыв на время о собственном великом нетерпении – в самом деле, он ведь так торопился попасть в Пьетралату, а приходилось раскачиваться из стороны в сторону на руках у матери; он не чаял той минуты, когда сможет, наконец, возвестить Карулине и всем прочим, что у него новые сапожки!
Ида между тем очень торопилась, чтобы не потерять из виду одинокую фигуру синьоры Ди Сеньи, притягивавшую ее к себе, словно фата моргана. Женщина направилась ко входу для пассажиров, потом повернула обратно – в ореоле одиночества, ярости, неприкасаемости, не ожидающая ни от кого помощи. Теперь она уже не бежала, раскачиваясь, она ковыляла в своих сношенных летних туфлях на толстенной ортопедической подошве… Она шла, оставив за спиной фасад станционного здания, вдоль наружного бокового прохода, потом повернула налево, двинулась к дебаркадеру, подошла к служебной будке багажного отделения. Ида перешла через площадь и двинулась за ней.
Калитка была открыта, не было видно никакой охраны, и даже из полицейской будки ее никто не окликнул. Она прошла шагов, вероятно, десять и стала различать какой-то наводивший ужас не то гул, не то жужжание… Было совершенно непонятно, откуда все это исходит. Этот участок станционного пространства сейчас казался опустевшим и никчемным. Не было движения поездов, не сновали тележки с грузами. Единственными людьми в поле зрения были двое или трое подсобников, со спокойным видом стоявших в конце грузового дебаркадера, на солидном расстоянии от магистрального пути.
Около наклонного склона, ведущего к рельсовым путям, беспокоящий ее шум стал громче. Вначале Ида рассудила, что это, вероятно, блеяние и мычание животных, доносящееся из переполненных товарных вагонов – отголоски этого мычания порой приходилось слышать вблизи станции и раньше. Но это было совсем другое. Это голосила человеческая толпа; звуки исходили, вроде бы, прямо из-под платформ, и Ида пошла вперед, ориентируясь на них, хотя никаких признаков скопления людей нельзя было увидеть среди запасных и маневровых путей, перекрещивающихся на фоне галечной подсыпки справа и слева от нее. В этом своем переходе, который ей показался километровым и был омыт ручьями пота (на самом деле там набиралось от силы шагов тридцать), она никого не повстречала, кроме одинокого машиниста, который что-то ел из кулька, стоя возле обездвиженного паровоза, и ничего ей не сказал. Скорее всего, немногочисленные охранники тоже отлучились перекусить. Только что начался перерыв на обед.
Непонятный человеческий гомон приближался, он звучал все громче, хотя и оставался необнаруженным, словно исходил из какого-то засекреченного и зачумленного места. Он был похож на все те звуки, которые можно слышать в приютах для престарелых, лазаретах и местах заключения, однако эти звуки были перемешаны без разбора, как осколки разных материалов, брошенные в общую дробильную машину. В конце пешеходной дорожки, на прямом тупиковом пути стоял поезд, он показался Иде бесконечно длинным. Гомон голосов исходил оттуда.
Там было, вероятно, десятка два вагонов для перевозки скота. Некоторые стояли порожняком с открытыми дверьми, двери других были задвинуты и заперты длинными железными штангами. Согласно общему стандарту, в вагонах этого типа не имелось никаких окон, только маленькое зарешеченное отверстие где-то у самой крыши. У некоторых из этих решеток виднелась пара рук, вцепившихся в прутья, чьи-то глаза, уставившиеся в одну точку. В этот момент около поезда не было никакой охраны.
Синьора Ди Сеньи была там, она бегала взад и вперед по открытой платформе, перебирая своими ножками без чулок, коротенькими и худыми, болезненно белыми… Демисезонный пыльник, развевающийся за спиной, окутывал ее деформированное тело. Она носилась вдоль всей этой цепочки вагонов, выкрикивая голосом почти непристойным: «Септимио! Септимио!.. Грациелла! Мануэле!.. Септимио!.. Септимио!.. Эстерина!.. Мануэле!.. Анджелино!..» Из недр состава до нее долетел незнакомый голос, он кричал ей, чтобы она уходила прочь, иначе эти,которые вот-вот вернутся, заберут и ее тоже. «Не-е-е-т! Нет, никуда я не уйду! – прокричала она в ответ яростно и грозно, стуча кулаками по обшивке вагонов. – Здесь моя семья, позовите их! Ди Сеньи! Семья Ди Сеньи! Септимио! Септимио!» – завопила она вдруг и подбежала к одному из вагонов; вся устремившись вперед, она схватилась за штангу, крепившую дверь, в бессильной попытке выломать ее. За решеткой верхнего отверстия появилась маленькая голова, это был старый Ди Сеньи. Было видно, как сверкают его очки на фоне зиявшей за ним темноты, оседлавшие его массивный нос; были видны и миниатюрные кулачки, вцепившиеся в железные перекладины.
«Септимио! Где все остальные? Они здесь, с тобой?»
«Уходи, Челеста, – сказал ей муж. – Говорю тебе – уходи сейчас же, этисейчас вернутся…»
Ида узнала его голос, неторопливый и рассудительный. Тот же голос, который в былые времена, в тесном закутке, заваленном старинными вещами, говаривал ей мудро и взвешенно: «Ваша вещица, синьора, не стоит даже того ремонта, который здесь придется сделать…» Или же: «За все это чохом я могу дать вам шесть лир…»
Вот только сегодня этот голос звучал тускло, отрешенно, словно он доносился из какой-то дальней обители, у которой нет адреса, и закон в ней – жестокость.
Внутренность вагонов, разогретых солнцем, светившим еще совсем по-летнему, была полна этим неумолчным гомоном. В беспорядочном звуковом потоке поднимались всплески плача, чьи-то упреки, обрывки обрядовых молитв, бессмысленный говорок, старческие восклицания, призывающие мать; одни голоса, словно уйдя в себя, вели церемонную беседу, другие разражались саркастическим смехом. По временам над всей этой звуковой массой вздымались безнадежные, леденящие душу крики; слышались и другие, по-животному насущные – тут выкрикивались слова самые простые – «Пить!», или «Воздуха!». Из одного из хвостовых вагонов, перекрикивая все другие голоса, доносился голос молодой женщины это были вопли, поделенные на конвульсивные душераздирающие порции, типичные вопли женщины, у которой начались родовые схватки.
Иде этот разноголосый хор вдруг показался родным. Нисколько не меньше, чем полупристойные выкрики женщины или назидательные фразы старого Ди Сеньи, весь этот жалобный гвалт, исходивший из вагонов, манил ее к себе, возбуждал в ней щемящую нежность. Он действовал через какую-то извечную память, которая опиралась не на время, а совсем на другой источник на тот самый, где звучали калабрийские колыбельные, что напевал ей отец, или безвестные стихи, что всплыли предыдущей ночью, или эти легчайшие поцелуи, сопровождавшиеся словами: «Милая, милая…». Это была точка полного покоя, она утягивала ее вниз, в общую нору, где обитала единая бесчисленная семья.
«Я все утро вас искала…»
И синьора Ди Сеньи, подавшись навстречу этому очкастому лицу, возникшему у решетки, принялась торопливо рассказывать. Ее монолог походил на лихорадочно сообщаемую сплетню, вот только манера говорить была семейная, можно сказать, обиходная манера супруги, которая отчитывается перед мужем в том, как она потратила свое время. Она рассказала, что сегодня около десяти она, как и рассчитывала, вернулась из пригорода с двумя бутылями масла, которые ей удалось раздобыть. Во всем квартале не было ни души, все двери настежь, и в домах никого, и на улице тоже никого. Совсем никого. Она бросилась наводить справки, спрашивала там и сям, у хозяина кафе, арийца, и у продавца газет, тоже арийца, спрашивала, где могла. Синагога тоже была пуста.
«Я туда побежала, я сюда, и к тому, и к этому… Кого в военном министерстве разместили, кого – на вокзале Термини… И на улице Тибуртино тоже…»
«Уходи, Челеста».
«Да никуда я не уйду! Я тоже еврейка! Пусть и меня тоже посадят на этот поезд!»
«Resciüd, [13]13
Resciüd – спасайся (др.-еврейск.).( Примеч. Э. Моранте.)
[Закрыть]Челеста, именем Бога заклинаю, уходи, пока этине вернулись».
«Не-е-е-т! Нет! Септимио! А где остальные? Где Мануэле? И Грациелла? А маленький? Почему они не хотят показаться?» Внезапно ее снова прорвало, и она, как безумная, принялась вопить:
«Анджелино! Эстерина! Мануэле! Грациэлла!»
Внутри вагона началось какое-то скрытое движение. Непонятным образом добравшись до решетки, немного позади старика, возникла кудрявая головка, пара черных глазенок: «Эстерина-а-а! Эстерина-а-а-а! Грациелла-а-а! Откройте мне! Почему здесь никого нет? Я еврейка! Пусть меня тоже везут! Откройте! Фашисты! Фа-ши-сты! Открывайте!»
Она кричала «фашисты!», не вкладывая в это слово ни обвинения, ни оскорбления, для нее это была естественная разговорная характеристика, так можно было бы сказать: «Синьоры присяжные» или «Синьоры офицеры», обращаясь, в случае нужды, по инстанциям. И она становилась все неистовее в своей бесполезной попытке выломать штангу, запиравшую дверь.
«Уходите прочь! Синьора! Не смейте здесь стоять! Будет лучше для вас! Уходите сию минуту!»
Какие-то люди возле входа в дирекцию, на другом конце платформы – то ли носильщики, то ли служащие – быстро двигались по направлению к ней, торопя ее жестами. Однако к поезду они не захотели приближаться. Получалось, что они его избегают, словно комнаты, где лежит покойник или чумной больной.
Присутствие Иды, оставшейся несколько позади, у начала платформы, еще никого не заинтересовало. Да и она сейчас словно бы забыла о себе. Она чувствовала невероятную слабость, и, хотя здесь, на платформе, жара вовсе не была чрезмерной, она покрылась потом, словно у нее была сорокоградусная температура. Но она с готовностью отдавалась этой телесной слабости, как последней мыслимой милости, которая позволяла ей как бы раствориться в толпе, затолканной в эти вагоны, смешать свой пот с их потом.