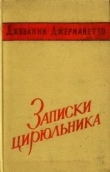Текст книги "La Storia. История. Скандал, который длится уже десять тысяч лет"
Автор книги: Эльза Моранте
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 48 страниц)
Стоял апрель. Май, июнь, июль, август – целое огромное солнечное лето открывалось перед малышами, мальчиками, собаками, кошками. Узеппе должен был носиться и играть на улице, как другие дети,Ида не могла запереть его в четырех стенах (возможно, она слышала голос, неуловимый для уха, где-то внутри нее, который говорил, что малышу оставалось не так уж много?).
3
Теперь остается рассказать о весне – лете 1947 года, о прогулках Узеппе со своей подругой Красавицей по району Тестаччо и прилегающим к нему кварталам. Если бы не собака, Ида, разумеется, не разрешила бы малышу выходить одному на улицу: его слишком часто охватывало легкомысленное желание бежать, идти вперед, не зная куда. Он наверняка заблудился бы, если бы Красавица вовремя не останавливала его и не заставляла в урочный час возвращаться домой. Кроме того, малыша часто посещали внезапные страхи: движущаяся тень, шорох листвы заставляли его настораживаться и вздрагивать. К счастью, его беспокойный взгляд тут же упирался в морду Красавицы, карие глаза которой выражали радость по поводу хорошей погоды, а высунутый язык весело аплодировал весеннему воздуху.
Эти прогулки подарили Узеппе и Красавице различные встречи и приключения. Первым приключением стало открытие того чудесного места, куда Узеппе собирался отнести бесхвостого зверька. Это случилось незадолго до визита к профессору Маркьонни, одним воскресным утром, когда после краткого перерыва Узеппе и Красавица вновь вышли на прогулку. Им так хотелось на улицу, что уже в девять утра, попрощавшись с Идой, они выбежали из дома.
От северного ветра, пронесшегося после дождя, воздух сделался таким прозрачным, что даже старые стены, вдыхая его, молодели. Солнце было сухим и горячим, а тень – прохладной. Легкое движение воздуха давало ощущение невесомости при ходьбе, подгоняя малыша, как лодку под парусами. Узеппе и Красавица впервые пошли дальше чем обычно. Идя вдоль Вьяле Остиенсе, они незаметно для себя пересекли улицу Мармората. Дойдя до базилики Сан Паоло, они повернули направо. Вдруг Красавица, влекомая пьянящим запахом, побежала, а за ней и Узеппе.
Красавица бежала, выговаривая «Уррр! Уррр!», что обозначало: «Море! Море!», но, конечно же, это было не море, а река Тибр. Однако это был уже не тот Тибр, который протекал через город между стен, в парапетах набережных. Здесь он тек среди лугов, отражая в себе естественные цвета природы. (В Красавице была заложена некая шальная, блуждающая память тысячелетий, которая заставляла ее видеть вместо реки Индийский океан, а вместо лужи – маремму. [30]30
Маремма – заболоченный морской берег.
[Закрыть]
Для нее велосипед издавал такой же запах, как и повозка варваров, а трамвай пахнул финикийским кораблем. Этим объяснялись ее гигантские прыжки, неудержимое веселье и повышенный интерес к, казалось бы, совершенно ничтожным запахам.)
Тут город кончался. На том берегу среди деревьев еще виднелись кое-где домишки и сараи, но их становилось все меньше. На этом же берегу не было никаких строений, лишь луга и заросли тростника. Несмотря на воскресенье, людей вокруг не было, так как весна только начиналась и никто еще, особенно по утрам, не приходил на эти берега. Узеппе и Красавица были одни. Они пробегали немного вперед, потом принимались кататься по траве, затем вскакивали и опять бежали.
Вскоре на краю луга началось более низкое место, там рос небольшой лесок. Узеппе и Красавица замедлили шаги и перестали болтать.
Они вышли на круглую поляну, окаймленную деревьями, кроны которых вверху смыкались, так что поляна превращалась в большую комнату с потолком из листвы. Полом служила едва пробившаяся после дождей трава, по которой еще никто не ступал. Поляна казалась ковром, сотканным из крошечных только что распустившихся маргариток. За стволами деревьев сквозь живую изгородь из тростника виднелась река. Бегущая вода и волнующиеся на ветру листья тростника создавали постоянную изменчивую игру светотеней.
Выйдя на поляну, Красавица задрала голову вверх и принюхалась: наверное, ей казалось, что она находится внутри персидского шатра. С лугов донеслось блеяние. Красавица подняла было уши, но тут же опустила их. Оба они вслушивались в бесконечную тишину, наступившую вслед за этим одиноким голосом. Собака улеглась рядом с Узеппе, и в ее карих глазах появилась печаль. Наверное, она вспомнила о щенках, о своем первом Антонио, сидящем в Поджореале, и о втором Антонио, лежащем под землей. Ей действительно казалось, что она находится в экзотическом шатре далеко от Рима и от прочих городов, бог знает где, отдыхая после долгой дороги, а за стеной шатра простирается бесконечная степь и оттуда доносится лишь размеренный шум воды и дыхание ветра.
Вверху, в листве, послышался шорох крыльев, и с какой-то ветки, скрытой в глубине, раздалась песенка, которую Узеппе сразу же узнал, так как выучил ее наизусть однажды утром, когда был совсем маленьким. Он как бы снова увидел то место, где впервые услышал ее – за домиком партизан, на холме близ Кастелли. Джузеппе Второй варил картошку, они ждали Нино и Червонного Туза… Воспоминание, не очень отчетливое, всплывшее как бы сквозь дрожащий свет, похожий на теперешний, не вызвало у Узеппе грусти, наоборот, это был дружеский привет из прошлого. Красавице тоже понравилась песенка. Продолжая лежать, она подняла вверх голову и прислушалась, но не вскочила и не понеслась на звук, как раньше. «Узнаешь?» – шепотом спросил Узеппе. В ответ она высунула язык и приподняла ухо, как бы говоря: «А как же! Конечно!»
На этот раз певцов было не двое, а один. Насколько можно было увидеть снизу, пела не канарейка, не щегол, а, скорее, скворец или обыкновенный воробей. Птица была неброской окраски, коричнево-серой. Если не двигаться и не шуметь, то, глядя вверх, можно было разглядеть подвижную маленькую головку и даже розовое горлышко, выводящее трели. По-видимому, песенка эта разошлась среди птиц, став модной, поскольку ее пели даже воробьи. Наверное, тот, вверху, не знал никакой другой, так как продолжал выводить все одни и те же слова на одну и ту же мелодию, с небольшими вариациями:
Это шутка, это шутка, это просто шутка… —
или:
Ведь это шутка, шутка, это просто шутка…
Пропев так раз двадцать, птица издала трель и улетела. Удовлетворенная Красавица поудобней растянулась на траве, положила голову на передние лапы и задремала. Вернулась тишина, прерванная птичьим пением. Ей внимали не только уши, но и все тело. Слыша ее, Узеппе сделал открытие, которое, возможно, испугало бы взрослого, воспринимающего природу умом. Но маленькое тело Узеппе приняло его как естественное, хоть и неизвестное явление: тишина говорила! Она состояла из голосов, которые вначале доносились неотчетливо, смешиваясь с дрожанием цвета и тени. Все это сливалось в единое целое, и становилось понятно, что дрожащий свет был ничем иным, как голосом тишины. Тишина – и ничто другое – заставляла дрожать пространство, уходя корнями вглубь, в огненное ядро земли, и вихрем поднимаясь ввысь, выше неба. Небо оставалось голубым, еще более ослепительным, а бурей становилось пение множеством голосов одной и той же ноты (или одного и того же аккорда из трех нот), похожее на крик! В этом вихре, однако, можно было различить каждый голос, каждую фразу; разговоры тысяч людей, тысяч тысяч, и песенки, и блеяние, и шум моря, и сирены воздушной тревоги, и выстрелы, и кашель, и шум моторов, и составы на Освенцим, и стрекот сверчков, и разрывы бомб, и тихое сопение бесхвостого зверька… и «поцелуй же меня, Узеппе»…
Это ощущение, испытанное малышом, так сложно и длинно описываемое, было на самом деле простым и мгновенным, как па в тарантелле. Узеппе рассмеялся. По мнению медиков, это было еще одним проявлением его болезни: галлюцинации «свойственны больным эпилепсией». Но если бы кто-нибудь заглянул в этот момент в лесной шатер, он увидел бы всего лишь веселого смуглого малыша с голубыми глазами, который, подняв лицо к небу, смеялся без причины, как будто невидимым пером ему щекотали затылок.
4
«Карло-о!.. Вавиде! Давиде!»
Молодой человек, шедший впереди них по улице Мармората на расстоянии нескольких шагов, слегка обернулся. После того короткого визита на улицу Бодони прошлым летом Давиде Сегре (он же Карло Вивальди, он же Петр) не встречался с Узеппе, тогда как Красавица видела его несколько раз в конце лета и осенью, когда Нино наведывался в Рим, но домой не заходил.
Собака тотчас же узнала Давиде и бросилась к нему с такой бурной радостью, что вырвала поводок из рук Узеппе. (Прошел слух, что с некоторых пор муниципальные службы вылавливали собак без поводков. Испугавшись, Ида купила поводок с ошейником и даже намордник и попросила Узеппе и Красавицу не забывать надевать их. С тех пор хозяин и собака, пока шли по жилым кварталам, были привязаны друг к другу, при этом, естественно, Красавица тащила за собой маленького Узеппе.)
Голосок, произнесший его имена и заставивший Давиде обернуться, не произвел на него, однако, должного впечатления, как будто окликали не его, а кого-то другого. Он не сразу узнал Красавицу в вонючей собаке, которая радостно прыгала вокруг него посреди улицы. «Пошла прочь!» – такова была его первая реакция на незнакомую собаку. Но к нему подбегал еще кто-то. «Я – Узеппе!» – дерзко заявил маленький человечек. Нагнувшись, Давиде увидел пару улыбающихся голубых глаз, которые радостно приветствовали его.
Узнав малыша, Давиде испугался, потому что единственным его желанием в тот момент было, чтобы его оставили в покое. «Чао, чао, я тороплюсь домой», – отрезал он и, повернувшись, неуклюже зашагал в сторону моста Субличо. На мосту, однако, его начали терзать угрызения совести, и он обернулся. Малыш и собака, пройдя вслед за ним несколько шагов, остановились, озадаченные, в начале моста. Собака виляла хвостом, а малыш в замешательстве переступал с ноги на ногу, держась обеими руками за поводок. Тогда, чтобы как-то сгладить впечатление, Давиде помахал рукой и неловко улыбнулся. Этого было достаточно, чтобы Узеппе и Красавица подлетели к нему, как воробышки. «Куда ты идешь?» – спросил Узеппе, покраснев. «Домой, домой. Чао», – ответил Давиде и, чтобы избавиться от них, добавил уже на ходу, устремляясь к Порта Портезе: «Увидимся потом, хорошо?»
Узеппе, смирившись, попрощался с ним своим обычным жестом, подняв сжатую в кулак руку. Собака же запомнила слова «увидимся потом» – и приняла их за чистую монету… Был уже почти час дня, и Красавица потащила Узеппе домой, на улицу Бодони, обедать, а Давиде, повернув, скрылся за Порта Портезе.
Он торопился на другую встречу, ожидавшую его дома и наполнявшую нетерпением, как свидание с женщиной. Но это была не женщина, а лекарство, к которому он прибегал с некоторых пор в трудные минуты, как раньше – к алкоголю. Алкоголь согревал его, возбуждал, доводя иногда до гнева, тогда как теперешнее лекарство давало совершенно противоположное ощущение – глубокого покоя.
После смерти Нино его охватило лихорадочное беспокойство, которое то и дело гнало его из маленькой комнаты, где он жил в Риме, в места, связанные с прошлым и заменявшие ему семью. Сначала он отправился в деревню, где раньше жила его няня, но оттуда сразу же уехал обратно в Рим. Через день он поехал в Мантую, но и там вскоре сел в поезд южного направления. Кто-то из его прежних друзей-анархистов встретил Давиде в одном из кафе в Пизе или в Ливорно, где они бывали вместе во времена юности. На их вопросы он отвечал неохотно и односложно, с трудом выдавливая улыбку. Потом он, надувшись, молча сидел за столиком, непрестанно меняя положение, как будто его мучила чесотка или у него затекли ноги. Примерно через полчаса, посреди общего разговора он вдруг вскочил, как будто припертый острой нуждой, попрощался со всеми, пробормотав, что опаздывает на поезд, и исчез, как и появился, внезапно.
Однажды в Риме он сел в поезд на Кастелли, но вышел на первой же станции и бросился обратно в Рим. Несколько раз он ездил также в Неаполь… Но повсюду, куда бы он ни приезжал, Давиде отчетливо ощущал, что как в Риме, так и в любом другом месте у него не было ни одного друга. Ему не оставалось ничего другого, как залезать, словно в нору, в комнатенку, которую он снимал в районе Портуенсе, где его ждала, по крайней мере, знакомая кровать, и он бросал на нее свое тело.
Однако, если подумать, не все его беспорядочные поездки были пустой тратой времени. Определенную пользу он из них извлек, и она скрашивала теперь его одиночество. Давиде вполне серьезно рассматривал этот факт как обретение дружбы, хотя и не людской, а искусственной и даже, как ему казалось, омерзительной.
Все началось несколько месяцев тому назад, во время одной из его поездок в Неаполь. Поздно вечером Давиде внезапно заявился домой к одному докторишке, только что получившему диплом. Давиде знал его еще студентом, с той поры, когда они с Нино появлялись в Неаполе, переходя линию фронта. «Петр!» – воскликнул молодой врач (он знал его под этим именем). Прежде чем Давиде заговорил, он почувствовал, что тот пришел просить о помощи. Потом он вспоминал, что, взглянув в лицо, он сразу же понял, что перед ним – потенциальный самоубийца. Во ввалившихся миндалевидных глазах Давиде, циничных и в то же время робких, застыла тьма, мускулы тела и лица дрожали под напором необузданной энергии, которая находила выход не иначе, чем через боль. Едва войдя, не поздоровавшись с хозяином (которого он не видел около двух лет), грубо, как вооруженный грабитель, ворвавшийся в дом, Давиде заявил, что ему нужно какое-нибудь лекарство, сильное, с мгновенным эффектом, иначе он сойдет с ума. Давиде сказал еще, что не в силах больше терпеть, что не спит уже несколько ночей, что ему повсюду мерещатся языки пламени. Ему нужно было холодное-холодноелекарство, чтобы не думать, потому что он устал думать… Чтобы мысли отступились от него… чтобы жизнь отступилась от него! Выкрикивая все это, он бросился на диван лицом к стене и стал бить по ней кулаком, так что хрустнули суставы. Он рыдал, вернее, рыдания рождались у него в груди, сотрясая тело изнутри, но не могли вырваться наружу. С его губ слетал лишь глухой тяжелый хрип. Помещение, в котором они находились, было не врачебным кабинетом, а всего лишь квартирой, небольшой холостяцкой квартирой (ее хозяин жил тут еще в студенческие годы). На стенах, прикрепленные кнопками, висели вырезанные из газет юмористические картинки. Давиде, выкрикивая ругательства, принялся срывать их. Хозяин квартиры, который всегда уважал Давиде и восхищался его партизанскими подвигами, пытался успокоить гостя. В его домашней аптечке было мало лекарств, но в сумке лежала ампула пантопона, принесенная из больницы, где он работал. Он сделал Давиде укол, и тот начал сразу же успокаиваться, как голодный ребенок, сосущий материнскую грудь. Расслабившись, он тихо произнес: «Хорошо… Освежает» и в знак благодарности улыбнулся врачу, а глаза его, подернутые лучезарной дымкой, уже закрывались. «Извини за беспокойство, прости», – повторял он. Хозяин, видя, что гость засыпает, помог ему лечь на кровать в соседней комнате. Давиде проспал беспробудно всю ночь, почти десять часов кряду. Утром он проснулся спокойным и серьезным. Умывшись, причесавшись и даже побрившись, он спросил о лекарстве, и врач честно сказал ему, что он сделал укол пантопона, лекарства на основе морфия. «Морфий… наркотик», – задумчиво произнес Давиде и добавил, нахмурившись: «Значит, гадость». «Да, обычно к нему не следует прибегать, однако в некоторых исключительных случаях он рекомендован», – серьезно, с профессиональной педантичностью сказал врач. У Давиде было виноватое выражение лица, как у подростка, совершившего неблаговидный поступок. Он продолжал, потихоньку ударяя кулаком о кулак; на суставах были видны следы ушибов: «Слышишь, не говори никому, что ты влил в меня эту гадость», – пробормотал он и вышел.
С детства Давиде испытывал отвращение и презрение к наркотикам. В семье Сегре из поколения в поколение рассказывали о некой тетушке Тильдине, умершей, как говорили, от злоупотребления хлоралом. Она была не замужем, в момент смерти ей было лет пятьдесят. В семейном альбоме имелась ее фотография примерно тех времен, на которой была изображена хилая, скрюченная женщина, почти лысая. Немногие оставшиеся волосы были прибраны черной лентой с мелкими бусинками. На ней был узкий жакет в полоску, а на плечах – меховой палантин. Для Давиде-подростка эта старуха с тонкими губами, острым носом, грустными выпуклыми глазами, немного экзальтированными, как у всех старых дев, являлась воплощением уродства и убожества буржуазии. Наркотики, связанные для него с именем тетушки Тильдины, казались ему пороком, свойственным деградировавшей буржуазии, ищущей спасения от чувства вины и скуки. Если бутылка была отдушиной простолюдинов, естественной и мужественной, то наркотики – извращенным способом ухода от действительности, годным лишь для старых дев. Стыд, который Давиде испытал в Неаполе при том первом и почти невольном контакте с наркотиками, продолжал мучить его с еще большей силой при каждом новом сознательном рецидиве. Стыд этот давал ему силы до некоторого времени сопротивляться желанию и не попасть в полную зависимость от волшебного лекарства. Были, однако, периоды, когда избыток странной энергии, которая разрывала его изнутри, причиняя нестерпимую боль, приводил Давиде в состояние непереносимой тоски и ужаса. Тогда его сопротивлению приходил конец. В такие тяжелые минуты наркотик рисовался ему единственным выходом из страшного туннеля на простор.
В течение этих месяцев Давиде жил на ренту (осуждая себя за излишнее, как он считал, богатство). Во время последнего пребывания в Мантуе он дал оставшемуся в живых дяде генеральную доверенность на продажу наследства, состоявшего, впрочем, лишь из той пятикомнатной квартиры, где он с рождения жил с родителями. В счет этих денег дядя присылал ему почтовый перевод в конце каждого месяца.
Это была сумма мизерная, но достаточная для его бесхитростной цыганской жизни. У него больше не было женщины, если не считать тех жалких проституток, которых он подбирал иногда во время ночных вылазок и пользовался ими тут же, в каких-нибудь развалинах или под мостом, не взглянув им даже в лицо. Ему казалось, что в каждой из них он узнает свою Д. из Мантуи, которую тогдашние хозяева жизни использовали так же, как он теперь пользовался другими. Для Давиде это было равносильно сутенерству, он казался сам себе отвратительным не меньше проституток и прятал глаза. Он справлял эту физиологическую нужду со злой торопливостью, как будто совершал подлое дело, а затем щедро платил, оставаясь без гроша в кармане, даже на сигареты не хватало.
Иногда Давиде запивал, но реже, чем раньше. Ел он, если вспоминал о еде, в пиццерии, стоя, без тарелки и вилки. Таковыми были, не считая платы за комнату, его расходы, к которым теперь добавилось лекарство. Однако в ту пору наркотики в Италии не пользовались большим спросом, стоили недорого, и достать их можно было без труда.
В течение нескольких недель страх перед роковым привыканием, которое казалось ему полным бесчестьем, заставлял Давиде заменять пантопон другими препаратами, действие которых также было иным. Чаще всего он принимал свободно продающееся в аптеке снотворное средство, и не только на ночь, но и утром, и во второй половине дня, когда существование становилось для него невыносимым. С их помощью он быстро погружался в сон, и в таком состоянии мог пролежать на кровати целый день. Но когда он просыпался, ему казалось, что прошло всего лишь мгновение. Промежуток между этими двумя моментами равнялся нулю. Тяжесть времени, не поддающегося разрушению, ждала его на пороге комнаты, как огромный камень, который он должен был таскать за собой. Давиде взваливал его на плечи, пытался занять себя: уходил, приходил, бродил по мостам, заглядывал в кинозалы и в остерии, листал книги… Что ему было делать со своим телом?
В такие дни его единственным утешением было сознание, что оставалось последнее средство – лекарство, попробованное им в Неаполе. У Давиде оно всегда было в запасе. Никакое другое из испробованных им средств не давало ему, особенно вначале, такого облегчения: как будто чья-то рука гладила его – «ничего, ничего», – делая все вокруг невесомым и освобождая память от воспоминаний. Даже одиночество тогда казалось ему не страшным, случайным и временным: где-то жили удивительные люди, его будущие друзья, которые уже вышли ему навстречу… «Нечего торопиться, совершенно не стоит торопиться. Завтра выйду и встречу их».
От других лекарств, использованных в качестве альтернативы, Давиде постоянно возвращался к тому, первому, как очарованный любовник возвращается к предмету первой любви. Он называл такие дни «праздничными». Лекарства были его пищей, хоть и эфемерной. Эта искусственная химическая поддержка – как электрические лампочки в некоторых маленьких гостиницах: они горят ровно столько, чтобы подняться по лестнице на последний этаж. Но иногда случается, что свет гаснет на половине пути, и тогда человек оторопело останавливается в полной темноте.
Узеппе и Красавица в день встречи с Давиде наспех пообедали и тотчас же опять убежали на улицу, как обычно они делали в хорошую погоду. Стоял теплый майский день, когда Рим кажется сотканным из воздуха, и весь город с его террасами, окнами, балконами встает разукрашенным, как по праздникам. В такую погоду, пользуясь длинным световым днем, наша парочка обычно направлялась к Вьяле Остиенсе, а оттуда – в известное нам замечательное место, открытое ею недавно – лесной шатер на берегу реки. Но на этот раз Красавица потянула в противоположную сторону, к мосту Субличо, и Узеппе сразу понял, что она, поймав Давиде на слове, бежала по его следам, на встречу с ним. По правде сказать, самого Узеппе не ввели в заблуждение слова Давиде, сказанные, по-видимому, просто так, вместо «до свидания», с видимым желанием избавиться от них. Теперь неизвестность тревожила и беспокоила Узеппе. Но, поскольку Красавица с довольным и решительным видом тянула его за поводок, он шел за ней на предполагаемую встречу, не сопротивляясь, и даже с надеждой. Он не знал, где живет Давиде, но Красавица знала, так как бывала у него с Нино. Ожидание близкой встречи заставляло ее бежать быстрее. Тут нужно отметить, что если люди часто относились к Давиде без симпатии из-за его резких манер, то животные и дети его любили. Может, от него исходил какой-то особый запах, приятный малышам, кошкам, собакам и им подобным? Некоторые девушки, проведя с ним ночь, говорили, что от его волосатой груди пахнет травой.
Выйдя на площадь Порта Портезе, Красавица задрала голову к окнам тюрьмы Габелли и залаяла: она вспомнила о Поджореале, где содержался ее первый Антонио. Потом, опустив хвост и уши, она взяла вправо, потому что слева поднимались стены городского приемника для бродячих собак, откуда доносился отдаленный лай. Узеппе, однако, она ни о чем не сказала.
Вот и остерия, из которой все так же доносились звуки радио, и бараки, и пустырь с грудами мусора и отбросов. В это время дня людей тут не было, но многочисленные собаки рылись в отходах или дремали, растянувшись в пыли. Красавица, несмотря на желание поскорее увидеть Давиде, задержалась, обмениваясь с сородичами обычными приветствиями. Одна из собак была маленькой и хромой, похожей на крошечную обезьянку, другая – большой и толстой, как теленок. Красавица, сама напоминающая белого медведя, узнавала в них родню и радостно и мирно приветствовала их. Только с одной собакой, плотной, но стройной, с пятнистой шерстью и торчащими вверх ушами, встреча не получилась сердечной: обе зарычали и оскалили зубы, готовые вцепиться друг в друга. «Красавица! Красавица!» – тревожно позвал Узеппе. К счастью, в этот момент из соседнего барака крикнули: «Волк! Волк!», и схватки удалось избежать.
Незнакомая собака послушно побежала к бараку, а Красавица, забыв об этой и обо всех других собаках, весело направилась к дому, который она сразу узнала, и поскреблась в дверь первого этажа, как к себе домой.
«Входите!» – донесся изнутри голос Давиде. Конечно, это был его голос, но неузнаваемый – приветливый, веселый и довольный. «Дверь заперта!» – крикнул в ответ Узеппе, дрожа от нетерпения. Давиде, даже не спросив, кто там, встал с кровати, на которой лежал в тот момент, и подошел к двери. Прежде чем открыть, он запихнул ногой под кровать пустую ампулу и клочок ваты с пятнышками крови на ней.
«Кто там? А, это ты!» – сказал он все тем же необычным голосом, ясным и спокойным, как будто в появлении Узеппе не было ничего странного. «Я как раз думал о тебе, – добавил он нежно, с нотками удивления в голосе. – Я не знал, что думаю о тебе, но теперь понял: я думал именно о тебе».
Давиде снова улегся на кровать, которую не убирал неизвестно с каких пор.
На полосатом матраце лежали лишь серая от грязи подушка в головах и такая же серая скомканная простыня – в ногах. Одеяло валялось на полу около кресла, сверху на него были брошены брюки и газеты. Майка тоже лежала на полу, чуть подальше, в другом углу комнаты.
«Я с Красавицей!» – объявил Узеппе, хотя это было лишним, собака, хоть и на поводке, вбежала первой. Радуясь встрече, она махала хвостом, но на этот раз воздержалась от слишком бурных проявлений чувств, возможно, из уважения к хозяину. Заметив лежащее на полу одеяло, Красавица приняла его за специально для нее приготовленное место и разлеглась на нем, как баядера, продолжая помахивать хвостом.
Тело Давиде, растянувшегося на кровати и одетого только в трусы, было страшно худым, с торчащими ребрами, но на лице сияло детское оживление, удивленное и одновременно доверчивое, как будто он разговаривал со сверстником.
«Я узнал тебя по шагам, – заявил он простодушно, воспринимая неожиданное появление Узеппе как нечто вполне естественное, – маленькие такие шажки. Маленькие-маленькие… Я подумал: вот он подходит; кто же это? Сначала я не мог вспомнить имя, а потом говорю себе: Узеппе! Кто же его не знает? Я не в первый раз о тебе сегодня думал, далеко не в первый раз». Узеппе что-то радостно пробормотал, лицо его расцвело. Давиде то и дело, поглядывая на него, тихонько смеялся.
«Вы с братом такие разные, что даже и братьями не кажетесь, – сказал он, меняя положение тела. – Но в одном вы схожи – оба счастливы. Счастье ваше, однако, разное: Нино был счастлив жить, а ты счастлив… во всем. Ты – самый счастливый человек на свете. Я думал об этом каждый раз, как видел тебя, с самых первых дней, там, в бараке… Я старался не смотреть на тебя, так мне тебя было жалко. С тех пор, не поверишь, я всегда о тебе вспоминал».
«Я тоже!!»
«Ты тогда был совсем маленьким, да и сейчас ты малыш… Не обращай внимания на то, что я говорю: сегодня у меня праздник. Сегодня я даю бал. А ты должен держаться подальше от меня, особенно в такие дни. Ты слишком хорош для этого мира, ты не отсюда. Как говорится, счастье не от мира сего».
Движимый внезапным чувством стыдливости, но также из-за холода, он вытащил из-под ног грязную простыню и натянул ее себе на грудь. На голове волосы у него были жесткие и прямые, а на груди и под мышками – мягкие завитки, как каракуль. Их глубокий черный цвет контрастировал с нынешней чрезвычайной бледностью его смуглого тела, из-за крайней худобы казавшегося отроческим. Давиде лежал теперь, закинув голову назад, глаза его были устремлены вверх с детским выражением серьезной и зачарованной задумчивости. Лицом, тоже худым и небритым, он был похож на того студентика, фотографию которого женщины из семьи «Гарибальдийской тысячи», собравшись в кружок, рассматривали в тот вечер, когда он впервые появился у них.
«Мне всегда нравилось быть счастливым, – сознался Давиде. – Когда я был мальчишкой, счастье иногда распирало меня, я бежал, распахнув руки, мне хотелось крикнуть: слишком много мне одному! С кем поделиться счастьем?»
Между тем Узеппе не терпелось прояснить очень важный момент в их разговоре: «Я тоже, – повторил он торопливо, – не думай, что я забыл тебя, как ты жил вместе с нами и спал у нас! У тебя были солнечные очки и сумка». Давиде посмотрел на него смеющимися глазами и предложил: «С этой минуты мы друзья? Навсегда?»
«Да-а-а!»
«А на голове у тебя по-прежнему торчит вихор!» – отметил Давиде, посмеиваясь.
При закрытой двери полуденный свет проникал в комнату только через занавеску на окне, поэтому в ней царил прохладный полумрак. Никто тут не убирал и не подметал: на полу валялись окурки, несколько пустых смятых пачек из-под сигарет «Национали», вишневые косточки. На одном из стульев, используемом как столик, лежал пустой шприц, рядом с ним – булочка с сыром, едва надкушенная. Мебель была та же, что и при Сантине, только на столике, с которого убрали куклу, лежало несколько книг, а две картинки на стене с изображением святых были прикрыты газетой.
Комната чем-то напоминала Узеппе жилище в Пьетралате и поэтому нравилась ему. Он с довольным видом осматривался кругом и даже сделал несколько шагов, рассматривая убранство комнаты.
«И куда же это ты направляешься один?» – спросил Давиде, приподнимаясь на локте.
«Мы идем на море», – вмешалась Красавица. Однако Узеппе на случай, если Давиде не понимал собачий язык, перевел, внеся поправку:
«Мы идем на реку! Не на эту. Дальше, за Сан-Паоло! Еще дальше!!» Он собирался было уже рассказать Давиде об их встрече с крылатым певцом, знавшим песенку «Это шутка…», но передумал и, помолчав, спросил: «Тебе когда-нибудь встречался маленький зверек (он показал руками размер) без хвоста… коричневая пятнистая шкурка… короткие лапки?»
«Похожий на кого?»
«На мышь, но без хвоста, а ушки еще меньше, чем у мыши», – торопливо описывал Узеппе.
«Может быть, карликовая пищуха… или морская свинка… или хомячок?»
Узеппе хотелось бы спросить еще кое-что по поводу зверька, но Давиде, следуя своим мыслям, сказал, слегка улыбаясь:
«Я, когда был маленьким, как ты, хотел стать исследователем, хотел сделать массу вещей… А теперь, – добавил он почти с гримасой отвращения, – у меня нет желания ни двигаться, ни идти куда-то. Но все-таки мне нужно приниматься за дело. Хочу заняться какой-нибудь тяжелой физической работой, чтобы вечером, вернувшись домой, не было сил думать… А ты часто думаешь?»
«Я… да, думаю».
«О чем?»
Тут Красавица подала голос, подбадривая Узеппе. Он переступил с ноги на ногу, посмотрел на собаку, потом на Давиде.
«Я сочиняю стихи!» – сообщил он, покраснев от того, что открывал свой секрет, доверяясь Давиде.