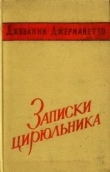Текст книги "La Storia. История. Скандал, который длится уже десять тысяч лет"
Автор книги: Эльза Моранте
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 48 страниц)
От трех тел, распростертых на тропе, не исходило больше ни звука: но вот эту камнем нависшую паузу разорвала леденящая душу мольба, похожая на плач новорожденного. Она исходила из куста, росшего у откоса тропинки. Это кричал захваченный в плен поросенок. Задетый последней автоматной очередью, он то ли откатился в заросли, то ли сумел туда дотащиться, и там залился спазматическим визгом, похожим на человеческие крики – так визжат все его собратья, когда им приходит конец. Потом наступила полная тишина, и Квадрат вышел на тропинку. Из трех подстреленных немцев двое, по-видимому, были уже мертвы, и только самый старший, тот, которого подстрелил он сам, еще слегка вздрагивал. Вдруг он попытался поднять лицо от земли, отплевываясь кровавой слюной и бормоча: «Mutter… Mutter…». [14]14
Mutter – мама (нем.).
[Закрыть]Квадрат прикончил его револьверным выстрелом в голову. Потом он перевернул второго и увидел, что тот выкатил глаза и не дышит. Однако последний немец, тот, что был без кителя и рубашки, лежал на спине закрыв глаза и казался мертвым, но при его приближении немец передернулся в лице и с трудом поднял руку.
Квадрат готовился выстрелить и в этого, но тут Петр выпрыгнул из кустов на тропу и, криво усмехаясь, проговорил:
«Не надо, не стреляй. С этим я сам разберусь».
Квадрат протянул ему револьвер, решив, что тот хочет лично прикончить немца. Но Петр револьвер оттолкнул; изнемогая от ярости, он своим тяжелым ботинком нанес ужасающий удар в запрокинутое лицо солдата. Выждав несколько мгновений, он повторил это движение несколько раз, все с той же безумной энергией. Квадрат отошел на шаг, отвернул лицо, чтобы не видеть, но он поневоле слышал звуки этих ударов, их грубую увесистость, регулярность интервалов между ними, создававшую какую-то неслыханную ритмическую последовательность в замершем вселенском пространстве. На первый удар немец реагировал хриплым подавленным воплем, в котором еще был оттенок протеста; но тут же эти вопли ослабли и в конце концов перешли в тихие, чуть ли не женские постанывания, почти вопросы, в которых звучала непонятная стыдливость. Удары продолжались; после прекращения жалоб их ритм участился. Внезапно Петр, сделав несколько крупных шагов своей развинченной походкой, оказался перед Квадратом.
«Он подох», – объявил Петр, переводя чуть сбившееся дыхание, как человек, только что закончивший полезную физическую работу. Взгляд его все еще выражал остервенение, лоб лоснился от пота. Подбитый гвоздями ботинок был обрызган кровью.
Теперь оставалось только снять с мертвецов оружие и все пригодное снаряжение – так требовали законы партизанской войны; потом следовало спрятать тела. Когда они в самом начале выбирали место, то оба учли, что на соседнем поле, начинавшемся сразу за тропой, имеется широкая и длинная яма, дно которой еще было покрыто жидкой грязью после недавних дождей. И первым, волоча его за ноги, они забросили в эту яму немца, разгуливавшего без кителя. Лица у него больше не было, было что-то бесформенное, сочащееся кровью; с ним контрастировала необычная белизна его мускулистого торса; все выглядело как-то нереально. Кровь, обильно капающая из ран в животе, пятнами впитывалась в штаны серо-голубого мундира. А вот ботинки кровью намазаны не были, но все же снимать их они не стали. Оставили они на мертвеце и пистолет, и все остальное – даже часы. Но с другими телами они обошлись согласно обычным правилам, потом швырнули их в яму поверх первого и забросали землей и ветками. В заключение Квадрат забрал и трофейного поросенка, бездыханно валявшегося за кустом. Всего, от первого выстрела и до самого конца, акция заняла считаные минуты.
Сразу же после возвращения в хижину Туз и все прочие принялись снаряжать мула. Очень скоро появилась девушка Мария, та самая, которую Туз называл Мариулиной. Она, помимо всего прочего, взялась доставить Узеппе на муле на тот самый проселок, где была назначена встреча с грузовиком. Туз не мог сопровождать брата, поскольку был занят разными неотложными приготовлениями; кроме того, он ждал пресловутого Очкастого. Он посадил Узеппе на мула, махнул ему рукой и пообещал, что они очень скоро увидятся. Подмигнув ему украдкой, как товарищу по борьбе, Нино шепнул, что в одну из ближайших ночей он будет принимать участие в большой акции на виа Тибуртина, а потом, скорее всего, придет отсыпаться к ним в Пьетралату.
Мул Дядя Пеппе тронулся в путь нагруженным свыше всякой меры. Кроме Мариулины и Узеппе, он нес на себе огромный тюк с ветками и кольями; под ними на самом-то деле было скрыто оружие, гранаты и боеприпасы, которые Мариулина должна была доставить одному крестьянину, поддерживавшему связь с другим отрядом. Узеппе обосновался впереди, спиной он прислонялся к груди Мариулины, которая сидела на муле, раскорячив ноги, как заправский наездник. На ней было коротенькое черное платьишко и черные чулки домашней вязки, подвернутые над коленями. На ходу были видны – и справа, и слева – ее голые ляжки, округлые и привлекательные; они, как все, что было у нее обнажено, имели цвет розовеющего персика, к которому примешивался легчайший коричневатый тон. Лицо ее сохраняло обычное хмурое выражение. В течение всего путешествия (подъем и спуск по тропе и крюк к проселку) она разговаривала только с мулом, покрикивая ему то «Ха-а-а!», то «Хи-и-и!». На многочисленные вопросы она, самое большее, отвечала «Ну, да» и «Ну, нет», очень часто совсем невпопад. Дядя Пеппе шествовал вперед не спеша, отчасти из-за тяжести груза. На некоторых участках пути Мариулина спешивалась и тянула мула за уздечку, сердито восклицая «Хи-и-и!». Огненно-рыжие волосы падали ей на глаза; Узеппе в это время крепко держался за упряжь, чтобы не свалиться.
Узеппе эта поездка понравилась чрезвычайно. Он тоже держал ноги, как Мариулина – одну справа, другую слева, подобно бывалому всаднику. Перед глазами у него была темно-коричневая грива Дяди Пеппе и пара стоящих торчком ушей, не совсем лошадиных: и не совсем ослиных, между которыми в качестве украшения колыхался растрепанный зеленый султанчик из перьев, и для Узеппе эта, а также и все другие особенности мула, пусть даже самые мелкие, были достопримечательностями, достойными самого живого интереса. Вокруг него, как самое увлекательное на свете зрелище, тянулись поля, освещенные совсем иначе чем утром. А если он оборачивался и глядел вверх, то встречал глаза Мариулины, желто-апельсинового цвета, с черными бровями и ресницами, и ее лицо, которое на солнце все покрылось сеткой веснушек, словно у нее на голове была большая шляпа с вуалью. Узеппе заключил, что Мариулина – невероятная красавица и любуясь ею, можно все забыть.
Когда кончился спуск, мимо них проследовало несколько немцев, и они тоже вели в поводу мула с наваленной на него поклажей. «Мул! Это мул?!» – воскликнул Узеппе, радостно приветствуя проезжавших.
«Ну, нет…» – отозвалась Мариулина, которой уже надоело отвечать.
«Это акличани?» – опять воскликнул Узеппе, повторяя слово, которое слышал от брата при пролете самолетов.
«Ну да», – нетерпеливо ответила она.
Грузовичок уже ждал их у перекрестка. Она передала Узеппе хозяину кабачка, который выбранил ее за опоздание.
«Ты с утра глупая, или уродилась такой?» – спросил он.
Она, никого не удостоив ни приветом ни ответом, тут же крикнула мулу: «Хи-и-и!» и покинула их. Обратно она вернулась пешком, шагая рядом с мулом.
9
На этот раз Ниннарьедду не сдержал обещания. Прошел почти год, прежде чем он появился снова. За восхитительным солнечным утром, которое Узеппе провел, путешествуя по партизанским краям, последовали дни холодные и дождливые. Предместье Пьетралата превратилось в грязное болото.
В их большой комнате, где дверь была теперь плотно притворена, стояла ужасная вонь еще и потому, что близняшки из-за холода и паршивой пищи заболели поносом. Они похудели, пребывали в плохом настроении, плакали и непрестанно ерзали в своих запачканных пеленках.
Членам «Гарибальдийской тысячи» было холодно, и они перестали на ночь раздеваться. Они спали, натянув на себя все что могли, да и большую часть дня проводили, сидя на матрацах, закутавшись в одеяла и прижавшись друг к другу. Мужчины и женщины занимались любовью во всякий час дня, не обращая ни на кого внимания. Между ними пошли интриги, ревность, бурные сцены, в которых принимали участие и старики. Общий свальный грех сделал их всех драчливыми. К звукам граммофона постоянно примешивались вопли, оскорбления, звуки оплеух, плач женщин и ребятишек. Порою разбивалось вдребезги то или другое стекло, его как-то чинили, наклеивали бумажные полоски. Ночь спускалась рано, из-за беспорядков в городе немцы передвинули комендантский час на семь вечера. Ездить на велосипедах запрещалось уже после пяти, а общественный транспорт – штука весьма редкая – переставал работать в шесть.
Таким образом, все они по вечерам становились пленниками барака. Одним из привычных занятий в такие вечера стала охота на мышей и тараканов. Однажды Доменико ногами прикончил мышь на глазах у Узеппе, который кричал «Не надо! Не надо!».
Мыши, которые и в прошлом забредали в эту большую полуподвальную комнату, после бегства Росселлы почувствовали себя совсем вольготно. Теперь они так и кружили вокруг съестных припасов, запасенных «Тысячей», возможно, предчувствуя повальное бегство с корабля. Дело в том, что члены «Тысячи», которым осточертело ждать освобождения, никак не желавшего наступать, начали понемногу переселяться в разные другие убежища. Первой ушла семья Сальваторе, вместе с сыновьями Коррадо, Имперо и прочими – после того, как произошла бурная ссора, закончившаяся полной размолвкой. Впрочем, довольно скоро сам Сальваторе пригласил всех оставшихся разделить с ним некое жилье, которое было гораздо удобнее, никем не занято и стоило сущие пустяки – его присмотрели какие-то его знакомцы из Альбано. После чего и Доменико с семьей, вместе с бабушкой Диндой, сестрой Мерчедес, Карулиной и всеми прочими выехал и присоединился к остальной части династии.
Прощальное утро осталось во всеобщей памяти, ибо ознаменовалось хаотическим беспорядком. Карулина была взвинчена, то и дело плакала, бегала туда и сюда, потому что близняшки все время пачкались, понос у них обострился. Пеленок имелось немного, Карулина героически стирала их и перестирывала при помощи всякого рода самодельного мыла и отвратительных стиральных порошков, а они никак не желали сохнуть. Развешанные на веревках, натянутых через всю комнату, испещренные желтыми пятнами, эти пеленки роняли воду на пол, на еду и на свернутые матрацы. Со всех сторон на Карулину обрушивались укоры и вопли, а от золовки ей достался даже подзатыльник. Откуда-то издалека доносился гул бомбежки; старенькие бабушки, напуганные уханьем разрывов, взывали к Папе Римскому, и к предкам, почившим в Бозе, и ко всем святым, стараясь перекричать друг друга, Доменико же клял вслух все и вся. Насколько я помню, в те времена ездить на частных машинах запрещалось, но молодежь «Гарибальдийской тысячи» какими-то левыми путями сумела раздобыть автофургончик скаутского общества юных фашистов со всеми необходимыми разрешениями, вдобавок и Сальваторе прислал некое мотосредство на трех колесах. К сожалению, на практике оказалось, что этот транспорт не способен вместить всех отбывающих и их имущество. Дело в том, что члены «Тысячи» решили увезти с собою и матрацы, которые в свое время им выдала взаймы окружная больница – как эвакуированным; они и теперь, переезжая на другое место, все еще оставались эвакуированными – так они считали… Упаковка вещей и погрузка их в конце концов обернулись какой-то маразматической свистопляской. На полу лежали раздувшиеся до невероятия свертки из матрацев, в которые были засунуты котлы и посуда. Доменико, доведенный до бешенства, принялся эти матрацы пинать. Пеппе Третий, Аттилио и их мамаша хором орали и визжали. И тогда самый старенький из дедушек, супруг молчаливой бабули, расплакался, как младенец, умоляя, чтобы его оставили здесь и дали ему спокойно умереть, и похоронили непременно бы здесь, в Пьетралате, в крайнем случае просто опустив в болото.
«Похороните меня, – повторял он, – похороните меня, и этой ночью я спокойно буду спать на небесах!» А бабуля, жена его, слушала и пронзительно восклицала: «Иисус! Иисус!»
Наименьшее волнение выказывала сестра Мерчедес. До самого последнего мгновения она сидела на своем табуретике, по пояс закутанная в одеяло, из-под которого на этот раз все съестные припасы были извлечены. Она лишь повторяла нараспев:
«Да угомонитесь вы хоть немного, креста на вас нет!»
Ее муж, Джузеппе Первый, сидел возле нее в импровизированном шерстяном колпаке, заходясь в приступах катарального кашля.
Было решено, что часть этой компании, и в том числе Карулина с дочерьми, доберется до нового местожительства на трамвае. Прощаясь, Карулина подарила Узеппе на память пластинку с комическими песенками, каковую, увы, без граммофона, уже уложенного в багаж, теперь нельзя было слушать. Впрочем, пластинка была так заезжена, что давно уже издавала лишь скрип и треск. И еще она оставила ему на память, подмигнув в знак полной доверительности, мешочек, забытый ее родней, в котором было около килограмма плоского гороха – овоща, похожего одновременно и на фасоль, и на чечевицу.
В момент их отбытия на небе слегка проглянуло солнце. Последней в череде выходящих была Карулина, перед ней в дверь прошла ее римская золовка, несшая на руке Челестину, а на голове – битком набитый чемодан, не желавший закрываться. Сама же Карулина несла на руках Розинеллу, а на голове – сверток с мокрыми пеленками. И если бы не отчаянный плач, исходивший из двух кулей, то весьма нелегко было понять, что эти два куля, несомые бережно на руках, являются младенцами. В самом деле, Карулина, в качестве крайнего средства, упаковала малышей во все мыслимые тряпки, которые только смогла найти. В ход пошла занавеска Карло Вивальди и остатки даров дам-благотворительниц, и даже оберточная бумага – Карулине заранее было невероятно стыдно, что в трамвае, идущем в Кастелли, пассажиры учуют запах и поймут, что ее дочери страдают поносом.
Окликаемая другими, шедшими впереди нее, которые то и дело оборачивались и грубо поторапливали, она спешила, но с трудом преодолевала жидкую грязь в своих летних туфлишках, стоптанных до состояния домашних тапочек. Поношенные дамские чулки, которые она натянула, были ей чересчур велики и на пятках собирались пузырями, а из-за груза, заставлявшего ее перекашиваться на сторону, походка ее была даже более сбивчивой, чем обычно. Вместо пальто на ней был криво скроенный жакет, переделанный из пиджака ее брата Доменико. Из-под свертка с пеленками виднелся аккуратный пробор, деливший ее волосы на две крупных пряди вплоть до самого затылка, и кончавшиеся двумя косичками по бокам, которым поклажа не давала торчать.
Прежде чем миновать поворот тропинки, она обернулась и попрощалась с Узеппе, улыбнувшись своим большим ртом, обращенным кверху. Узеппе стоял, не двигаясь, по эту сторону земляной кучи и смотрел, как она уходит. Он ответил ей тем своим особым приветствием, которое употреблял лишь иногда. Это было прощание наперекор сердцу, он медленно-медленно раскрывал и снова сжимал поднятый кулачок. Он был серьезен, легкая и смутная улыбка едва проступала на его лице. На голове у него была шапочка велогонщика, которую сама же Карулина для него и приспособила, а на теле все те же штаны в стиле Чарли Чаплина, заправленные в сапоги, нареченные «фантазией», и плащик, доходивший до пят, который во время прощания раскрылся, демонстрируя свою красную подкладку.
Несколькими месяцами спустя страшная бомбежка обрушилась на район Кастелли. Она почти разрушила городок Альбано. Услышав это известие, Ида подумала о «Тысяче» – уж не уничтожено ли безвозвратно их многочисленное племя? Но нет, они остались целы и невредимы. Следующим летом получилось так, что Нино, проворачивая какие-то свои дела, попал в Неаполь и там повстречался с Сальваторе, который тут же зазвал его к себе домой. Они жили в уцелевшей части особняка, полуразрушенного налетами, в помещении бывшей великосветской гостиной, в которую теперь – поскольку лестница обрушилась – нужно было входить через окно, пользуясь чем-то вроде подъемного моста, сколоченного из досок. Там же жила и Карулина, которая, в силу естественной логики судьбы, теперь якшалась с солдатами союзной армии. Немножко прибавив в росте, она была еще худощавее, нежели в бытность в Пьетралате, и на ее совсем уж миниатюрном личике глаза, подведенные тушью, казались теперь огромными. Рот, и без того большой от природы, теперь был подчеркнут помадой и выглядел вдвое шире. А шаги ее худеньких ног, приподнятых высокими каблуками, теперь казались еще нескладнее. Но ее манера смотреть на собеседника, и все ухватки, и говорок – все это ни капли не изменилось.
Никакого следа девочек-близняшек не наблюдалось, а спросить о них Ниннуццо как-то позабыл. За то короткое время, что он у них пробыл, появился американский солдат-негр, любовник Карулины, он был очень доволен, ибо на следующий день отбывал в свою Америку.
В качестве подарка он, по выбору самой Карулины, притащил ей одну из тех на весь мир известных шкатулочек – их делают в Сорренто, – которые, если покрутить ключиком, начинают фальшиво наигрывать какую-нибудь песенку. На наборной крышке шкатулки красовалась целлулоидная кукла, одетая в жилетку и фиолетовый нейлоновый комбинезончик, и каждый раз, когда пружину заводили, кукла под песенку начинала кружиться на крышке. Карулина была очарована этим танцем под музыку; едва кончался завод, она тут же подкручивала пружину с важным и озабоченным видом собственницы. При всем этом присутствовала и бабушка Динда, и она, желая оправдать перед гостем фанатическую увлеченность Карулины, пояснила, что это ее первая кукла. Потом бабушка Динда сама принялась напевать, уже со словами, старинную ариетту, заложенную в шкатулку, помогая себе ужимочками в кафешантанном стиле. В качестве угощения гостям предложили виски и жареную картошку.
Однако же Ниннуццо впоследствии об этой встрече не вспомнил и Иде о ней не сказал; Ида же, зная, как велик Неаполь, и какая бездна народу там живет, даже и не подумала спросить у него, не встречал ли он в этом бедламе кого-нибудь из «Тысячи». В итоге у Иды навсегда осталось подозрение, что вся «Гарибальдийская тысяча» погибла под развалинами Альбано.
После того, как последние члены «Тысячи» обогнули поворот, Узеппе вернулся и обнаружил, что комната теперь стала огромной. Его маленькие шажки порождали эхо, а когда он позвал: «Ма!», и Ида ответила ему: «Да?», то оба их голоса прозвучали совсем иначе, чем раньше. Все было неподвижно. Среди мятой бумаги и отбросов сейчас не было видно ни мышей, ни тараканов. В глубине тупого угла осколки лампадки для поминовения усопших, разбитой в суматохе, лежали на полу вместе с фитильком в лужице разлившегося масла. Посреди помещения так и остался упаковочный ящик, служивший близняшкам колыбелью и выстланный старыми газетами со следами детского поноса. В углу Эппе Второго лежал его смотанный матрац, а в углу, что возле двери, так и лежал другой матрасик, еще измазанный родильной кровью кошки Росселлы.
Ида растянулась на собственном матраце, решив несколько минут отдохнуть. Но организм ее привык, должно быть, к шуму и гаму, как привыкают к наркотику, и теперь та невероятная тишина, которая разом установилась, лишь обостряла напряжение ее нервов, вместо того, чтобы их успокоить. Тем временем снова пошел дождь. Одиночество и шелест дождя вместе с раскатистыми отзвуками далеких бомбежек лишь подчеркивали тишину, окружившую барак, наполовину утонувший в полужидкой грязи, где теперь оставались только она и Узеппе. Ида спрашивала себя, понимает ли Узеппе, что «Тысяча» ушла навсегда и больше не вернется. Она слышала звук его легких шажков – он обходил помещение, подробно все осматривая, словно проводил инспекцию. Потом вдруг медленные его шаги возбужденно участились, и тут же объятый какой-то лихорадкой, он пустился бегом. В углу валялся тряпичный мяч, который в хорошую погоду другие мальчишки, из уже подросших, гоняли на лугу, подражая настоящим футболистам. И вот теперь он, в свою очередь подражая этим мальчишкам, принялся остервенело пинать этот убогий мячик, вот только футболистов больше не было, и судьи не было, и вратаря тоже. Тогда Узеппе запальчиво бросился на штабель парт, вскарабкался по нему наверх и спрыгнул вниз, совершив один из своих полетов.
Шлепнули об пол его ноги, обутые в известные нам сапожки, и после этого установилась полная тишина. Через некоторое время Ида вышла из-за занавески и увидела, что он сидит в позе бесприютного эмигранта на куче песка и рассматривает пластинку, оставленную ему Карулиной, водя пальчиком по ее бороздкам. Ида подошла, Узеппе поднял на нее большие глаза, в них стояла потерянность. С пластинкой в руках он метнулся к ней:
«Ма, а как ее сыграть?»
«Э, теперь ее не сыграть. Для этого граммофон нужен».
«А зачем?»
«А затем, что пластинка без граммофона играть не может».
«Без граммофона не может…»
Дождь припустил сильнее. В воздухе что-то остро звенело, звук напоминал сирену. Ида вздрогнула. Но нет, скорее всего это был просто какой-нибудь грузовик, проезжавший по виа Монти. Тут же звук и заглох. Наступала темнота. В комнате было холодно и полно мусора, она казалась изолированной в каком-то нереальном пространстве, вокруг пролегала граница, и жизнь была отнесена за ее пределы.
В ожидании, пока хоть чуть-чуть развиднеется, Ида стала подыскивать, чем бы занять Узеппе. И в тысячу первый раз она спела ему историю про кораблик.
Крутится кораблик, вертится кораблик…
…Пришли три львенка, сели на три корабленка…
«Еще», – попросил Узеппе, когда она умолкла. Она рассказала всю историю с самого начала. «Еще», – сказал Узеппе. И пока она рассказывала, он с многозначительной легкой улыбочкой, предвестницей сюрприза, которому она наверняка не поверит, сообщил ей: «Ма, а я видел море!»
Это в первый раз он намекнул на свои приключения в полях вокруг партизанского лагеря. Обычно-то он, даже если его спрашивали, помалкивал и соблюдал всю надлежащую секретность. Увы, Ида истолковала его не совсем понятную фразу просто как фантазию и ни о чем не стала спрашивать.
Крутится кораблик, вертится кораблик…
В течение какого-то времени они вдвоем оставались единственными квартирантами. Шел ноябрь, школы, хотя и с опозданием, все же открылись. Но оказалось, что здание Идиной школы реквизировано войсками, а ее классы переведены в другое место, еще дальше, чем первое, и давать уроки ей придется после полудня, поскольку теперь ввели две смены, и практически ей вообще туда не добраться из-за проблем с транспортом и раннего комендантского часа. В результате Ида как пострадавшая при авианалете получила временное освобождение от уроков. Все же ей приходилось каждый день отлучаться из дома, чтобы раздобыть продукты; у нее, особенно в ненастные дни, не было иного выхода, как оставлять Узеппе одного, поручая его самому себе и запирая на ключ в огромной комнате. Тут-то Узеппе и научился проводить время в размышлениях.Он клал на лоб оба кулачка и принимался думать.О чем он думал, нам знать не дано. Но не подлежит сомнению, что в ту пору, когда он предавался своим размышлениям, время в обычном понимании для него сжималось почти до нуля. Живет же в Азии маленький зверек, по имени «панда малая», что-то среднее между белкой и медвежонком, живет он на деревьях в горных непроходимых лесах, и время от времени спускается на землю в поисках съедобных кореньев. Об одной из этих малых пандговорили, что она проводит в задумчивости на своем дереве целые тысячелетия и спускается с него лишь раз в триста лет. А ведь в действительности-то расчет всех этих сроков – вещь очень относительная: триста лет проходит на земле, а на дереве, где малая панда предается своим размышлениям, за это время едва набирается минут десять.
Часы, что Узеппе проводил в одиночестве, хотя и не часто, но все же прерывались кое-какими неожиданными визитами. Однажды его навестил полосатый кот, столь худой, что казался призраком кота. Тем не менее отчаяние придало ему сил, он умудрился прорвать бумагу, вставленную в окно вместо стекла, и проник в комнату в поисках пищи. Мыши, разумеется, при его появлении предпочли не показываться, а Узеппе смог угостить его только остатками вареной капусты. Но кот, движимый той аристократической гордостью, которая сохраняется даже у котов, дошедших до самого бедственного положения, понюхал угощение и, не попробовав его, ушел высоко подняв хвост.
В этот же самый день явились трое немецких военных. Вероятнее всего, они, как и в прошлые разы, были простыми солдатами, не принадлежавшими ни к военной полиции, ни к войскам СС, и не имели никаких зловредных намерений. Однако, согласно привычке, распространенной в германских войсках, вместо того, чтобы просто постучать, они принялись громко дубасить в дверь прикладами карабинов. И поскольку Узеппе, будучи закрыт на замок, не мог им отворить, они совсем оторвали от окна бумагу, уже прорванную котом, и через дыру осмотрели внутренность помещения, дотошно и придирчиво. Узеппе подошел к окну, очень довольный тем, что кто-то к ним пришел, а они, не видя никого, кроме него, обратились к нему на своем языке. Какого рожна им было надо, так и осталось неизвестным; Узеппе, не понимая их остготской тарабарщины, но предполагая, что они, как и кот, пришли сюда в поисках еды, попытался и им предложить остатки капусты. Тем не менее они, совершенно так же, как и кот, отвергли подношение; более того, они, со своей стороны, предложили Узеппе карамельку. Увы, карамелька оказалась мятной, ее вкус Узеппе не понравился, и он ее тут же выплюнул. Выплюнув же, он добросовестно попытался возвратить ее дарителю, с улыбкой сказав: «Держи!». В ответ немцы громко рассмеялись и ушли прочь.
Третьим визитером, совершенно неожиданным, был Эппе Второй; он располагал своим ключом и смог войти в комнату. Вместо давешней шляпы он разжился кепкой, какую тогда носили американские гангстеры; ею он защищал голову от холода. Он был, как всегда, весел, хотя в руке, после перелома, случившегося и залеченного прошлым летом, у него развился артроз. Он, тем не менее, не хотел никому говорить, что рука у него болит – боялся, что партизаны отошлют его прочь, сочтя инвалидом и стариком. Этими опасениями он поделился с Узеппе. Кроме того, он принес ему известия с полей сражения; он сообщил их так, словно говорил с товарищем по борьбе. Все боевые друзья поживают очень хорошо, они совершили много новых славных дел. Однажды ночью их отряд, называвшийся «Свободным», и еще несколько других отрядов разбросали шины, согнутые из гвоздей, по всем дорогам, ведущим в Рим, договорившись перед этим с английской авиацией. Самолеты, своевременно устроив налет на обездвиженные немецкие грузовики, обстреляли их из пулеметов, сбросили фугасы и зажигательные бомбы – в общем устроили мясорубку, так что все подъездные улицы Рима превратились в кровавую кашу. И была еще одна ночь, когда Туз и его товарищи, совершив несколько мелких акций дорожного саботажа, в конце концов взорвали динамитом целый воинский эшелон, набитый немецкими солдатами, который в секунду обратился в пылающую груду металла.
Отряд «Свободный» оставил прежнюю хижину, база теперь была перенесена в другое место, в добротный каменный дом. Туз, Квадрат и все прочие шлют Узеппе привет и множество поцелуев. Наперекор непогоде и холоду, сильно осложнявшим жизнь партизан, все пребывают в хорошем настроении и в наилучшей форме. За исключением, правда, одного лишь Петра, который в первые дни участвовал в операциях со всем пылом, по потом впал в полное безволие, не желает ничего делать и коротает время пьянством. Если говорить все как оно есть, то товарищ Петр как боевая единица сейчас никуда не годен, и остальные бойцы всерьез обсуждают, не следует ли отправить его куда подальше, а может, и просто пустить его в расход выстрелом в затылок. Но пока суд да дело, они его еще терпят – во-первых, они все еще надеются, что эта черная полоса у него пройдет, и он станет молодцом, как и прежде, а во-вторых, они входят в его горькое положение гонимого еврея. Есть еще и в-третьих – Туз относится к нему очень дружески, с доверием и уважением, и всегда защищает его от глухой враждебности остальных товарищей, считая Петра настоящим храбрецом.
Хотя Узеппе мало что понимал, он выслушал все эти важные известия с тем же пылким вниманием, с каким до этого внимал песенке о кораблике; более того, в конце доклада Мухи он даже сказал ему: «Еще!», но «еще» так и не последовало.
К сожалению, основная причина прихода Эппе Второго обернулась для того горьким потрясением. Пришел-то он с намерением отнести в лагерь последние запасы консервов, которые хранил в этой комнате – сардины, мидии и кальмары в банках. Увы, он убедился, что все это унесено, и из его имущества на месте остался только матрац да пустая клетка. Все остальное, само собой разумеется, отбыло вместе с «Гарибальдийской тысячей»; теперь, обрушив на ее членов целый набор проклятий, из которых самыми доступными для понимания были «сукины дети» и «мерзавцы», Эппе Второй сделал широкий жест и собственноручно расстелил свой матрац на матраце Иды – пусть, мол, он хоть кому-то пригодится, поскольку сам он теперь партизан и преспокойно может выспаться и на соломе. Кроме того, здесь, в этой комнате значительно менее уютно, чем в их каменном доме, куда теперь перенесена база отряда «Свободный» – там, по крайней мере, всегда можно разжечь печку и согреться. А в этом затрапезном бараке никакой печки нет, тут зуб на зуб не попадает, и от сырости на стенах пятна. Это была правда – Узеппе, бледненький и щуплый, ходил, завернутый во множество шерстяных обносков, принесенных еще дамами-благотворительницами, и его можно было принять за ходячий тюк.
«Теперь ты, по крайней мере, будешь спать не на одном, а сразу на двух матрацах, – сказал ему Эппе Второй, прощаясь. – И смотри, никому не давай его уносить, он шерстяной! И от мышей береги, а то сожрут!»
Пустая клетка осталась в остром углу в качестве сувенира.
В эти дни, когда Узеппе столь часто оставался в одиночестве, его стали навещать воробьи – они садились на выступ зарешеченного окна, попрыгивали туда-сюда и чирикали. И поскольку дар понимать язык животных и птиц посещал Узеппе лишь в редкие дни, он слышал самое обычное «чирик-чирик-чирик». Все же ему не стоило большого труда уразуметь, что и эти гости пожаловали в поисках съестного. К несчастью, хлебная норма по карточкам была теперь так урезана, что лишь с большим трудом можно было раздобыть крошку-другую, чтобы угостить еще и этих бедолаг.