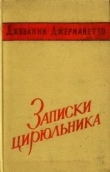Текст книги "La Storia. История. Скандал, который длится уже десять тысяч лет"
Автор книги: Эльза Моранте
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 48 страниц)
В тот момент любовники не обратили на него внимания, но позднее, когда они собирались возвращаться, Патриция, вероятно, вспомнила о жесте Узеппе и сказала Нино: «Мне нравится твой братик». (Позднее, правда, стало понятно, что она его к нему ревновала.) Потом она шутливо добавила: «Подари его мне. На что он тебе нужен? Вы даже и братьями-то не кажетесь: совершенно не похожи друг на друга». Нино ответил: «А у нас и на самом деле разные отцы: мой – арабский шейх, а его – китайский мандарин». И на этот раз Узеппе звонко рассмеялся шутке брата: ведь он прекрасно знал, что мандарины – это фрукты и, значит, дети у них – фруктики. Ничто кроме этого не поразило его в ответе брата. Впрочем, он весь уже дрожал от нетерпения забраться на мотоцикл, все остальное не имело для него никакого значения. Шуточный ответ Нино Патриции был единственным его намеком на загадочное происхождение Узеппе, который он позволил себе в присутствии малыша или Иды. Со дня самой первой встречи с младшим братиком в квартире в Сан Лоренцо Нино ни разу не пытался узнать что-нибудь о тайном приключении матери. У него была тяга ко всему скрытому, секретному, поэтому, возможно, ему нравилось иметь такого таинственного брата, появившегося вдруг неизвестно откуда, как если бы его действительно подобрали на улице, завернутого в тряпки.
3
Уже несколько месяцев Давиде Сегре жил в Мантуе в родительском доме, откуда время от времени писал письма Нино. Теперь уже было совершенно ясно, что никто из его семьи, вывезенной в лагерь в 1943 году, не выжил. Бабка по материнской линии, старая и больная, умерла в пути. Дед и родители были умерщвлены в газовой камере в ночь приезда в Освенцим, а сестра, которой было тогда семнадцать лет, угасла в том же лагере через несколько месяцев (кажется, в марте 1944-го).
По-видимому, в доме все это время кто-то жил, потому что среди прочего Давиде увидел на стенах картинки, которых раньше не было. В опустевших комнатах, наполовину свободных от мебели, было порядочно пыли, но не слишком много беспорядка. Большая часть обстановки и семейные реликвии были кем-то похищены. Другие оставались на своих обычных местах, там, где Давиде привык их видеть. Например, кукла с жеманным выражением лица, которую его сестра держала на верхней полке шкафа, все еще сидела там, в своей обычной позе, с пыльными волосами и открытыми стеклянными глазами.
Некоторые из безделушек были знакомы Давиде с раннего детства. Подростком он стал испытывать неприязнь к этим заурядным вещам, постоянно находящимся перед глазами и говорящим о какой-то убогой вечности, а сейчас вид их, переживших своих хозяев, был ему почти отвратителен, но у него не хватало духа трогать их, переставлять на другое место. Он оставил все, как было.
Теперь в пятикомнатной квартире он жил один. Недавно в город вернулся его дядя, отец того младшего двоюродного брата, которого в Риме спрятали монахи. В свое время ему и его семье удалось спастись. Однако Давиде никогда не общался с родственниками, этот дядя был для него чужим, ему не о чем было с ним разговаривать, он избегал его общества.
Со времени их совместного пребывания в партизанском отряде Нино понял, что Карло-Петр с детства чуждался не только родственников, но даже родителей и сестры, потому что они принадлежали к буржуазной среде. В обычаях, которые в детстве ему нравились, он с возрастом все больше и больше стал находить их общий социальный порок, уродливый и обманный. Даже в мелочах: например, на бумаге для писем его отца было напечатано: «коммерческий директор»; его мать с гордостью везла младшую сестру на детский праздник, где веселились отпрыски высокопоставленных родителей, и обе они долго прихорашивались по этому случаю. Давиде не нравились разговоры за столом, их знакомые, почтительный тон сестры, когда она называла фамилии некоторых богачей, вид, с которым отец превозносил успехи сына в школе, а также словечки «пусик», «ангелочек», «сокровище», которыми награждала Давиде мать, даже уже и подросшего. Все это вызывало в нем почти физическую неловкость, как будто он отсидел ногу. И это ежедневное отвращение с годами постепенно превратилось в неприятие, которое было непонятно для его домашних, как законы другой галактики. Они жили, будучи уверенными, что все их действия являются порядочными и соответствуют норме, а Давиде всегда чувствовал в поступках и словах родителей еще одно свидетельство страшного извращения, которое отравляло мир и называлось «буржуазия». Это новое ощущение постоянного протеста было для Давиде неким опытом отрицания, который неизбежно обрекал ближних на его презрение. В возникновении расизма, то есть фашизма, он считал виновными также и своих родных.
Так, еще школьником старших классов Давиде начал ускользать из-под влияния семьи, ожидая возможности уйти из нее. Он старался как можно меньше времени проводить дома и всегда закрывался в своей комнате. На каникулах он в одиночку ездил по Италии как нищий цыган, однако отовсюду писал домой длинные темпераментные письма, которые его родные читали и перечитывали, как увлекательные романы. Давиде, первенец и единственный мальчик в семье, был любимцем родителей, которые приспосабливались к его желаниям; все считали его очень серьезным, спокойным, не капризным ребенком. Когда расовый закон закрыл евреям доступ в государственные учебные заведения, Давиде решил, что регулярные занятия ему больше не нужны и что он закончит образование самостоятельно. Родители, готовые на любые материальные жертвы, собирались отправить его в безопасное место за океан, подобно другим еврейским юношам его возраста, но он решительно отказался ехать, заявив, что родился в Италии и что его место теперь здесь! Переубедить Давиде было невозможно, его отказ казался неким бунтом, хоть и наивным, как если бы Давиде Сегре дали очень важное задание, которое он должен был выполнить на своей несчастной родине, а отъезд в нынешней ситуации представлялся ему дезертирством и предательством.
Именно в тот период, во время своих летних путешествий по Италии, Давиде повстречал в Тоскане анархистов и начал вместе с ними, под фальшивым именем, вести подпольную агитацию. В сентябре 1943 года немцы арестовали его по доносу осведомителя.
Теперь, по всей видимости, он прекратил всякую политическую деятельность и ни с кем не общался. Из всех своих бывших знакомых в Мантуе он стал разыскивать одну девушку, любовь его юношеских лет, обозначая ее в письмах к Нино с помощью начальной буквы имени «Г». Девушка эта, крещеная, не еврейка, старше его года на два, была его единственной настоящей любовью. Во времена, когда она встречалась с Давиде, это была красивая фабричная девчонка. В 1942 году она изменила Давиде с одним фашистом, а позднее, во время оккупации, спала с немцами. Потом она ушла с фабрики и уехала из Мантуи. Говорили, что в Милане после ухода немцев ее обрили наголо, как коллаборационистку, но в общем никто ничего толком не знал. Не было новостей и о ее родителях, много лет тому назад эмигрировавших в Германию в поисках работы. Как ни пытался Давиде узнать что-нибудь об этой девушке, никто ничего не мог ему сообщить.
У него больше не было знакомых, а его единственным корреспондентом был Нино, которому он писал довольно нерегулярно: то по два письма в день, то ни одного в течение нескольких недель. Нино отвечал ему в лучшем случае открыткой (написать письмо для него было мукой, лист бумаги и ручка напоминали ему о школе, у него тотчас же пальцы сводила судорога и по руке бегали мурашки). Нино выбирал цветные открытки, глянцевые, юмористические, писал только приветы и подписывался. Если рядом был младший брат, он, водя его рукой по бумаге, дописывал: «Узеппе». Нино не понимал, почему Давиде так задерживается в Мантуе: уезжая, он собирался пробыть там всего несколько недель, чем же он там занимается, один во всей квартире? Зная его, он думал: «Наверное, пьянствует». Время от времени он заявлял: «Поеду, привезу его», но его таинственные экспедиции на север и на юг от Рима пока не достигали Мантуи. Впрочем, Давиде обещал в каждом письме, что вот-вот вернется, как только получит какие-то деньги. Когда деньги кончатся (добавил он в одном из писем), он наймется поденщиком или рабочим на любую физическую работу, которая не позволяла бы думать. Он собирался заняться самым тяжелым, изнурительным трудом, таким, чтобы вечером, вернувшись домой, от усталости хотелось одного – свалиться на кровать… На этот счет Нино сильно сомневался: он помнил, как Давиде в день их приезда в Неаполь, выпив, рассказал ему о своих планах на будущее, которые строил с детства: самым главным в этих планах было написать книгу. Одной книгой, говорил Давиде, можно изменить жизнь всего человечества. (Он сразу же пожалел о своей откровенности, нахмурился и заявил, что пошутил; если бы он и собрался писать, то только порнографические истории.)
Кроме того, Нино узнал в свое время от Давиде, что тот уже пробовал стать рабочим, но попытка закончилась неудачей. Это случилось лет шесть тому назад, когда он только-только вышел из отроческого возраста. Его официальным статусом тогда было: неучащийся студент, так как по расовым законам он не имел права учиться ни в одном государственном учебном заведении королевства. Но для Давиде именно тогда начался период наивысшей активности, потому что, освободившись от занятий, он почувствовал прелесть свободы, хоть и полной риска. Уже давно в душе своей он решил посвятить себя революционной деятельности, и решение это стало обдуманным и окончательным (он скорее отсек бы себе руки, чем отказался от него!). Теперь, наконец, наступало время, когда можно было претворить это решение в действие.
Он считал себя взрослым. Чтобы узнать настоящую жизнь, Давиде полагал своим долгом испытать на себе труд рабочего на фабрике – он, живший среди буржуазии. Его взгляды, как настоящего анархиста, совершенно исключали власть и насилие над человеком в какой бы то ни было форме. Только через личный опыт, считал Давиде, он мог бы почувствовать себя близким к той части человечества, которая в современном индустриальном обществе с рождения предназначена судьбой к угнетению и организованному насилию: он имел в виду рабочий класс.
В тот же год ему удалось через знакомых устроиться простым рабочим на одно из промышленных предприятий на севере – то ли в Генуе, то ли в Брешии, то ли в Турине. Нацисты одерживали одну победу за другой, и даже на заводах это был не лучший период для деятельности анархистов. Однако Давиде Сегре смеялся над победами гитлеровской коалиции, убежденный в том, что это была ловушка, приготовленная судьбой для окончательной и неизбежной гибели нацифашистов (то есть буржуазии), после которой песня революции разнеслась бы по всей земле!
Дело в том, что юный, неопытный Давиде Сегре воспринимал человечество как единый организм. Подобно тому, как каждая клеточка его тела стремилась к счастью, так и все человечество, думал он, стремится к нему же: в этом состояло его предназначение, и оно неизбежно когда-нибудь должно было реализоваться!
Я не знаю, как удалось этому еврейскому юноше, скрывающемуся от властей, обойти все формальности при устройстве на работу. Мне сказали, что благодаря некой махинации на заводе не знали, кто он на самом деле, да и другие (даже в семье) не догадывались об этом его опыте, который он скрывал от всех, кроме нескольких помогавших ему близких друзей. Мне же обо всем рассказал Нино, да и то в комическом ключе (хотя для Давиде его попытка стать рабочим обернулась трагедией), вот почему мои сведения неполны и приблизительны.
Место, куда с первого дня определили Давиде, было громадным, величиной с площадь, строением под железной крышей, на три четверти заполненным сверху донизу огромными работающими механизмами. Давиде перешагнул его порог с чувством почтения, как вступают на священную территорию: то, что для него было свободным выбором, для других находящихся здесь людей являлось наказанием. Наряду с чувством возмущения он испытывал также сильное волнение, потому что наконец-то он оказывался – и не как простой свидетель, а как участник – в центре циклона,то есть в растерзанном сердце существования.
Поскольку его сразу же поставили к станку, он в тот момент мало что разглядел из окружающей обстановки. Строение беспрерывно сотрясалось от такого грохота, что вскоре барабанные перепонки начинали болеть. Человеческого голоса, даже крика, невозможно было услышать в этом шуме. Кроме того, казалось, что строение раскачивается, как во время землетрясения, вызывая нечто вроде морской болезни, которая усиливалась от пыли и едких и резких запахов, исходящих неизвестно откуда. Давиде, в своем углу постоянно ощущал их привкус во рту, в носу, при каждом вздохе. Дневной свет в этом огромном пространстве почти без окон был слабым и мутным, а электрическое освещение в некоторых местах – таким ослепительно ярким, что пронзало насквозь, как лампа на допросе с пристрастием.Из нескольких узких окон, расположенных вверху, почти под крышей, некоторые были сплошь покрыты черноватым налетом, а в открытые окна врывался ледяной влажный воздух (дело было зимой), который сталкивался внутри помещения с раскаленным паром, вызывающим такой же упадок сил, как болезнь с сорокаградусной температурой. В глубине помещения сквозь дым и пыль смутно виднелись языки пламени и потоки лавы; находящиеся рядом с ними человеческие фигуры казались не реальными людьми, а плодом ночного бреда: отсюда внешний мир с его еле слышными звуками (голоса, трамвайные звонки) представлялся неким неправдоподобным миром, как заполярная Гренландия.
Однако Давиде внутренне был готов ко всему этому, как бесстрашный новобранец, стремящийся поскорее пройти боевое крещение. Он не смог все же предвидеть одного момента: полной невозможности общения между работающими.
Людей здесь (а их насчитывались сотни) нельзя было назвать хотя бы душами,как при крепостном праве. Приставленные к машинам, которые своими огромными телами изолировали и почти заглатывали их крошечные тела, люди превращались в кусочки дешевой материи, которая отличалась от железной материи машины лишь своей хрупкостью и способностью страдать. Неистовый железный организм, закабаливший их, равно как и прямой смысл их деятельности оставались для рабочих загадкой без ответа. Им ничего не объясняли, да они и не ждали бесполезных объяснений; для получения наибольшей отдачи (а только этого от них и требовали, это был своего рода договор не на жизнь, а на смерть) единственным убежищем рабочих было безразличие, доходящее до отупения. Законом каждого дня была для них необходимость выжить. Они носили свое тело как знак этого безусловного закона, не разрешающего удовлетворить даже простой животный инстинкт удовольствия, не говоря уже о человеческом желании знать. Разумеется, о существовании таких «государств в государстве» Давиде Сегре прекрасно знал, но до сих пор они виделись ему как бы сквозь густой туман, почти облако…
Я не имею точной информации о том, чем именно занимался Давиде на заводе, однако могу предположить, что его как начинающего неквалифицированного рабочего поставили сначала к прессу, чтобы затем перевести на фрезерный или какой-нибудь другой станок. Для Давиде переход от одной машины к другой ничего не значил; эти незначительные перемены в бесконечном однообразии труда лишь будоражили его, не принося облегчения. Во всех случаях он должен был очень быстро повторять одну и ту же простейшую операцию (например, вставлять стержень в гнездо, одновременно нажимая на педаль) в среднем по пять-шесть тысяч раз в день, тратя на нее строго отведенные секунды, не останавливаясь (за исключением похода в туалет, также хронометрированного). Ему запрещались всякие другие отношения, кроме отношений со станком.
Вот так, с первого дня будучи привязанным к своему станку-демиургу, Давиде оказался в полном одиночестве, оторванным не только от людей за воротами завода, но также и от товарищей по цеху. Они, как и он, с отсутствующим видом лунатиков, сосредоточившись на своих стремительных, бесконечно повторяющихся движениях, находились в том же положении. Это было похоже на тюрьму, где заключенные сидели в одиночных камерах; каждому из них обеспечивался минимум необходимого для поддержания жизни при условии, что он будет непрерывно и быстро ходить вокруг некой точки-источника непонятных для него мучений. Терзаемый неотступной мыслью об этом спруте, который высасывает внутренние силы, человек избегает всяких других мыслей как козней врага, как гибельной и преступной роскоши, за которую придется дорого заплатить.
Это неожиданное одиночество было для Давиде новым опытом, оно совершенно не походило на другое, уже известное ему одиночество, состоящее из наблюдений и размышлений, которое, наоборот, создавало ощущение тесного общения со всем живым. На заводе, заключенный внутри некоего механизма, принуждающего к пассивной покорности, заставляющего беспрерывно и тупо выполнять одни и те же бесплодные движения, Давиде испытывал двойной ужас – от почти физического давления огромной массы и от абстрактной бессмысленности ситуации. Это чувство не исчезало и за воротами завода, где его временная свободанапоминала свободу узника на прогулке с кандалами на ногах. Некоторое время, выйдя на улицу, он продолжал ощущать, что все вокруг, и земля под ногами, противно качается, как после длительного путешествия на корабле, сопровождаемого морской болезнью. И пока он не засыпал, обступающие со всех сторон машины продолжали давить его, превращаясь в подобие невидимых тисков, которые сжимали его голову своими челюстями, вызывая болезненные прострелы и отвратительное потрескивание. Давиде чувствовал, что мозг его деформируется; любая мысль, приходящая ему на ум в эти минуты, вызывала у него раздражение, и ему хотелось раздавить ее, как клопа. В первый день вечером, после ужина, Давиде удалился в свою комнату. Он очень мало ел и выпил очень много воды (в то время он пил только безалкогольные напитки). Едва он переступил порог своей комнаты, его тут же вырвало: так подействовал на него этот первый рабочий день.
С тех пор каждый вечер по возвращении с работы его одолевали приступы рвоты, справиться с которыми ему никак не удавалось (кроме всего прочего, его бесило, что бездарно пропадал с таким трудом заработанный обед). К тому же каждое утро со звонком будильника, зовущего его на завод, в нем начиналась внутренняя борьба. Тысячи и тысячи совершенно одинаковых операций, выполняемых на рабочем месте, вставали перед его глазами, как наступление армии черных муравьев, ползущих по телу, так что вместо утренней гимнастики он начинал яростно чесаться. Его охватывало странное двойственное чувство: он выполнял некий священный дож, который, однако, представлялся ему преступлением против природы, безумием и извращением. Это противоречивое чувство оскорбляло сознание и одновременно страстно звало его, почти как голос свыше! Давиде говорил себе, что смысл нынешних действий как раз и заключается в том, чтобы по собственной воле подчиниться этому нелепому требованию. Его задача состояла именно в этом: запечатлеть бесчеловечность существования рабочего класса не на бумаге, а на собственном теле, как кровавый эксперимент, в котором его Идеяожила бы, чтобы воспеть Революцию и дать миру свободу! Пока что этой веры было достаточно, чтобы юный Давиде мчался на завод, как на передовой бросается в атаку боец, беззаветно преданный своему знамени.
В первые дни во время работы он иногда пытался отключиться, направляя остатки воображения на какое-нибудь освежающее видение: знакомых девочек, горные пейзажи, морские волны… Однако эти короткие отключения заканчивались, как правило, мелкими неприятностями и авариями на рабочем месте, вызывавшими нагоняи и угрозу увольнения со стороны бригадира, который не стеснялся в выражениях (его любимыми словами были «болван» и «дурак»). В таких случаях Давиде сразу же охватывало желание пустить в ход кулаки или, по крайней мере, бросить все, пнуть ящик с деталями и уйти. Конечно, силой воли он сдерживался, но внутри у него все переворачивалось, его тошнило, а утром он снова ощущал на коже знакомый зуд, как от нашествия муравьев или блох.
Впрочем, нить его фантазий скоро оборвалась. Спустя всего неделю для Давиде больше не существовали ни земля с ее лесами, лугами и морями, ни небо со звездами: он их больше не видел, потому что ничего этого ему было уже не надо. Когда он вечером выходил за ворота завода, даже девушки его не интересовали. Вселенная сузилась для него до размеров цеха; он боялся вырваться из его тюремных кругов, подозревая, что, снова вкусив счастья жить, вернуться туда он уже не сможет. Его любовь к искусству (особенно к живописи и к музыке, в частности к Баху), а также к поэзии, его занятия, книги (включая тексты его политических наставников) лишь брезжили вдали как неясные фигуры, оставшиеся в Эдеме, по ту сторону времени. Иногда он с издевкой думал о Сократе, беседующем с друзьями-аристократами в каком-нибудь светлом зале или за пиршественным столом, или об Аристотеле, обучавшем логике на прогулках по берегу Илисса… Говорить о своей Идеетоварищам по работе было все равно, что говорить о материнской любви в мрачном приюте для подкидышей.
Перед лицом братьев по несчастью у него возникало неясное чувство стыдливости и понимание неуместности таких разговоров как непозволительной роскоши. Невозможность пропагандировать свои идеи (а это было основной целью его прихода на завод) усиливала в Давиде чувство неудовлетворенности. Как я узнала позже, только в один из последних вечеров он решился и за воротами завода тайком всучил двум-трем рабочим одну запрещенную брошюру, о которой они ни разу впоследствии не заговорили.
Возможно, в обстановке господствующего фашистского террора это молчание с их стороны было единственно возможным знаком сочувствия, но для него, легкомысленно не думавшего об опасности, оно обозначало, что его подвижничество было бесполезным.
Его отношения с товарищами по работе ограничивались случайными короткими разговорами. Однажды вечером он ужинал вместе с несколькими рабочими, из молодых, в многолюдном ресторанчике неподалеку от завода. На стенах висели портреты дуче, воинственные лозунги; вокруг роились полицейские в штатском, стукачи и чернорубашечники; за столом говорили исключительно о спорте, кино и женщинах. Язык собеседников, или, вернее, жаргон, насчитывал минимальное количество слов, полных намеков; говоря о женщинах, они отпускали лишь сальные шуточки. Давиде понимал, что для этих каторжников, прикованных к станкам, подобные жалкие развлечения были единственным доступным отдыхом. Движимый сочувствием (но еще больше – потребностью завоевать их симпатии), он тоже стал рассказывать непристойную историю, которая не вызвала особого интереса: некто решил предстать на карнавале мужским членом, но, не найдя подходящего головного убора, переоделся в задницу, и так далее. Слушатели тревожно озирались: в обстановке всеобщего страха тех лет они боялись, как бы окружающие не приняли героя истории за дуче, фюрера или маршала Геринга (Давиде же, по своей наивности, ничего этого не замечал). В тот вечер у него был перевязан палец, пораненный фрезой; теперь палец гноился и болел. Кроме того, он нарушил свои тогдашние привычки и из чувства солидарности выпил вина. Ночью у Давиде поднялась температура; его преследовали кошмары. Ему снилось, что вместо пальцев у него толстые болты с гайками, а вокруг в цехе – ни людей, ни станков, а какие-то амфибии, полулюди-полумашины: вместо ног, от пояса вниз, – тележка, вместо рук – шкивы или дрель. Они бегали без остановки в ледяном и одновременно раскаленном тумане, вопя и громко хохоча – это являлось частью обязательной дневной нормы. Все были в огромных зеленых очках с толстыми стеклами, потому что ослепли от едких паров в литейном цеху. Они плевались густой и темной, как горячая кровь, слюной… Впрочем, с некоторых пор сны Давиде были если не кошмарами, то чем-то похожим на них; каждую ночь ему снились шкивы, дрели, тиски, котлы, винты… Он должен был заниматься сложными расчетами количества времени и готовых деталей, ссориться с кем-то, кто утверждал, что он заработал всего две лиры и сорок чентезимов, и так далее в этом же духе. Даже во сне Давиде боролся с искушением быть счастливым.
Насколько мне известно, описанный выше субботний ужин был единственной его встречей с товарищами по работе вне завода. Тут нужно заметить, что Давиде, необщительный по характеру, становился в компании рабочих еще более застенчивым и неразговорчивым, и тем больше, чем меньше он этого желал. Он хотел бы заводить с ними разговоры в раздевалке, догнать за воротами завода, обнять их, сказать все то, что он для них приготовил, но губы едва выдавливали «здравствуйте» и «до свидания». Хотя никто на заводе не знал его настоящего имени и происхождения, Давиде видел, что рабочие относятся к нему как к чужаку. Он, со своей стороны, чувствовал себя по отношению к ним не только чужим, но и виноватым, потому что для него работа на заводе была всего лишь коротким экспериментом, блажью интеллектуала, тогда как для них это была их жизнь – завтра, и послезавтра, и через десять лет: цех, грохот, конвейер, детали, нахлобучки от бригадира, страх перед увольнением… и так до конца, до болезни и до старости, когда их выбросят вон как ни к чему не пригодную ветошь. Они, такие же полноценные телом и душой люди, как и он, были рождены для подобной жизни! Люди, то есть избранный сосуд сознания, как и он! Чтобы не чувствовать на себе гнет подобной несправедливости, Давиде считал единственно возможным выходом стать рабочим, как они, на всю жизнь. Тогда он мог бы называть их братьями, по крайней мере без угрызений совести. В какие-то моменты он действительно принимал такое решение, но потом вспоминал о счастье, взывавшем к нему из тысяч открытых окон: как же так? ты отворачиваешься от меня?! А Давиде был, как уже говорилось, приверженцем идеи счастья, в котором, считал он, заключается сам смысл человеческой жизни, и хотя в тот момент его личная судьба предвещала быть неблагоприятной и даже опасной, опасность не имела над ним никакой власти. Суть счастья Давиде Сегре выражалась в четырех словах: ему было восемнадцать лет.
Между тем, он относился к своему эксперименту на заводе чрезвычайно серьезно. Он считал, что ему не хватало прежде всего опыта и навыков. Чтобы приобрести их, он работал не только в свою смену, но и сверхурочно, включая воскресенье: он боялся перерывов в работе. И хотя каждый вечер его тошнило, он худел день ото дня и становился все более нервным, Давиде был уверен, что выдержит: ведь настроение зависит от силы воли! Что он, слабее других рабочих?! Среди них были и пятидесятилетние, и подростки чахоточного вида, и женщины… Он был здоров и крепок, даже побеждал на спортивных соревнованиях, немногие могли помериться с ним силой. Поэтому необходимость выдержать физически,по крайней мере до установленного им срока (до лета, а теперь – февраль), являлась для него не только долгом, но и делом чести. Однако именно физические силы его и подвели. Это случилось на третьей неделе, в понедельник. В субботу работа у него не ладилась: Давиде сделал очень много брака (он отвлекся, испытав внезапный приступ ревности по поводу одной знакомой девушки из Мантуи). Бригадир, новенький, назвал его среди прочего «бездельником» и «швалью» и еще как-то (слова не очень понятные, но, по-видимому, ругательства). Вечером он не стал ужинать, но тем не менее его вытошнило сильнее, чем в другие вечера, вытошнило какой-то серой жидкостью, сажей, пылью и чуть ли не опилками и стружками! Потом он не мог заснуть, его мучил все тот же зуд, голову опять сжали тиски, а в голове вместо мыслей – болты, гайки, детали, болты, гайки… Вдруг его, как кнутом, обожгла ужасная мысль: пока люди, даже и один человек на земле, обречены на такое существование, говорить о свободе, о красоте, о революции – лицемерие. Подобная мысль была для него страшней привидений и дьявола, если бы он прислушался к ней, это означало бы конец его Идеии, значит, всякой надежды.
На следующий день, в воскресенье, его лихорадило, он проспал почти до вечера. Ему что-то снилось, он не помнил, что точно, но это были, несомненно, счастливые сны, потому что после них осталось ощущение выздоровления и одновременно сильной слабости, как после болезни. Вчерашняя мысль, которая накануне казалась ему такой ужасной, теперь содержала в себе надежду и стимул: «Именно перед лицом неприемлемости человеческих мучений, – говорил он себе, – нужно полностью положиться на Идею.Только она, действуя таинственным, чудесным образом, сможет освободить землю от чудовищ абсурда». Вечером, как обычно, он завел часы и на следующее утро встал, испытывая лихорадочную потребность бежать на завод. Но в тот момент, когда он выходил из дома, Давиде как бы увидел себя со стороны – спешащим на смену, стоящим у станка, – и он почувствовал, как роковые тиски с гулом опустились ему на голову и так сильно ее сжали, что он остановился на лестнице, как будто парализованный. У него закружилась голова, в глазах сверкало, в ушах свистело. Всем его существом овладела непреодолимая жажда действий, которую он должен был бы заглушить не только потому, что действия эти противоречили его нынешним целям и в какой-то степени самой Идее, но и потому, что они были неуместными и тактически ошибочными; в данной политико-социальной обстановке даже такой человек, как Бакунин (а он вовсе не был противником насилия), с презрением отверг бы их. Тем не менее задуманное им было единственно возможным способом в то утро заставить двигаться его ноги и вызвать в теле дрожь если не счастья, то веселья. Это все были вариации на одну тему: ударить бригадира, который назвал его бездельником, вскочить на станок, размахивая какой-нибудь черно-красно-белой тряпкой и, распевая «Интернационал», крикнуть рабочим: «Остановитесь!» – так громко, чтобы перекричать всегдашний грохот цеха, и крикнуть еще громче: «Бегите отсюда! Разрушайте все, что видите! Поджигайте заводы! Убивайте машины! Пляшите в хороводе, окружив хозяев!» Разумеется, в душе Давиде был готов сопротивляться этим рискованным порывам с помощью воли, но твердое, почти физическое убеждение, почти вопль утробы говорил ему, что никакая воля не справится с другим позывом – позывом к тошноте! В общем, он чувствовал, что едва встанет на свое рабочее место и начнет обрабатывать детали, отрекаясь от прочих побуждений, проклятая тошнота, которая раньше мучила его по вечерам, захлестнет его тут, у станка, среди бела дня, опозорив перед лицом других рабочих.