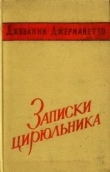Текст книги "La Storia. История. Скандал, который длится уже десять тысяч лет"
Автор книги: Эльза Моранте
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 48 страниц)
Узеппе молчал. «Один красивее другого!» – убежденно повторила Красавица. Взгляд ее был мечтательным. Подумав, она сказала: «Это нормально. Также происходит и с другими… ну, с нашими близкими. Возьмем, например, моего Антонио, неаполитанца… Конечно, он всех красивей. Однако достаточно взглянуть на моего Ниннуццо, как понимаешь: красивей его нет никого на свете!!»
В присутствии Узеппе имя брата было произнесено Красавицей впервые. Услышав его, он вздрогнул, но потом слабо улыбнулся. Он слушал внимательно. Рассказ Красавицы, который она пролаяла на своем собачьем языке, убаюкивал Узеппе как мелодичная ария, пропетая сопрано.
«И ты, – продолжила Красавица, глядя на него, – тоже красивее всех на свете. Без всякого сомнения».
«А мама?» – спросил Узеппе.
«Мама! Разве есть на свете девушка красивее ее! В Риме это всем известно. Ее красота бесконечна. Бесконечна!»
Узеппе засмеялся, довольный. Разумеется он был того же мнения. Потом он тревожно спросил: «А Шимо?»
«Что за вопрос! Каждому понятно, что он – самый красивый!»
«Красивее всех?!»
«Красивее всех!»
«А Давиде?»
«Ну-у, красота Давиде недосягаема. Она абсолютна».
«Бесконечна?»
«Бесконечна».
Узеппе снова радостно засмеялся, так как по вопросу о красоте их взгляды с Красавицей полностью совпадали. Карлики или гиганты, оборванцы или щеголи, старые или молодые – для него все они были равны. Калеки, горбуны, толстяки, уродцы в глазах Узеппе были красивее всех красавцев, если только они были его друзьями и улыбались ему. (Если бы Узеппе пришлось изобретать небо, он создал бы его по образу и подобию комнаты «Гарибальдийской тысячи».)… Однако теперь у него не было друзей, потому что он болел этой гадкой болезнью.
«Пойдем отсюда», – сказал он Красавице.
Послеполуденные улицы были заполнены воскресной толпой гуляющих. На пустыре, за строящимися домами, расположился большой луна-парк. Там были не только карусели, лотки, тиры, автогонки, но даже американские горы и качели, на которых люди летали с умопомрачительной скоростью. Увидев все эти необыкновенные аттракционы, Узеппе, подошедший к луна-парку вместе с Красавицей, рассмеялся от радости. Но он тут же отступил назад, испытывая смешанное чувство восторга и горечи, как перед запретным удовольствием: со времени начала болезни по ночам ему снились страшные сны (он их, правда, потом забывал), в которых он падал в бездну или его кружило по гигантским орбитам в сверкающей пустоте без начала и конца.
Несколько лир, лежащих у него в застегнутом кармане, побуждали его подойти к лоткам, на которых продавались миндальные пирожные, печенье и особенно сахарная вата розового и желтого цвета. Но толпа гуляющих оттеснила его назад. Потом, на улице Мармората, недалеко от Тестаччо, они встретили лоток с мороженым. Узеппе решился, протянул деньги и купил два рожка – один для себя, другой для Красавицы. Ободренный выражением лица лоточника, маленького косоглазого человека с приветливой улыбкой, он спросил, указывая на его ручные часы: «Скажи, сколько времени?» – «Половина шестого», – ответил продавец мороженого.
Возвращаться домой было еще рано. К Узеппе вдруг пришло неодолимое желание пойти к Давиде Сегре. «Вавиде», – произнес он прямо в морду Красавице безапелляционным тоном, в котором сквозили, однако, нотки просьбы. На этот раз Красавица, не возражая, побежала в направлении моста Субличо. Тут в голову Узеппе пришла мысль отнести в подарок другу фьяску вина, купленную специально для него. Он надеялся, что, увидев подарок, Давиде не прогонит его.
Они поспешили обратно, на улицу Бодони, но уже не по улице Мармората, а по внутренним, более мелким улочкам. Из окон домов, из кафе и остерий раздавался звук радио, передававшего результаты футбольных матчей. Но из остерии на углу улицы Мастро Джорджо до них донеслись громкие выкрики: «Война… история» и другие слова, заглушенные звуками радио. Узеппе узнал голос Давиде. Остерия эта была ему знакома, так как раньше он иногда заходил сюда с Аннитой Маррокко, которая покупала тут вино. Взволнованный Узеппе почти вбежал в остерию и, увидев Давиде, громко сказал ему: «Эй!», – как обычно, подняв вверх в знак приветствия сжатую ладонь.
6
В остерии все посетители, местные бедняки, пожилые люди, сгрудились вокруг одного стола. Четверо из них играли в карты, а остальные, числом побольше, сидя за их спинами следили за игрой. Среди них был и Давиде, хотя карты совсем его не интересовали. До недавнего времени он сидел и выпивал в одиночестве за соседним столиком, на котором стояли две пол-литровые бутылки, одна пустая, другая – ополовиненная. Давиде вдруг, без приглашения, повернул свой стул и присоединился к компании. Он велел принести двухлитровую бутыль вина и теперь угощал всех, то и дело, наливая и себе в стакан. Он казался не пьяным, но взвинченным. При виде Узеппе и Красавицы внезапное сияние, по-детски нежное, осветило его лицо. «Узеппе! – воскликнул он, как будто встретил друга. Малыш и собака тут же оказались рядом с ним: – Садись!» – сказал Давиде, пододвигая к себе свободный стул. Однако, как только сияющий и довольный Узеппе уселся рядом, Давиде забыл о нем. Ласковое выражение на его лице сменилось на прежнее – напряженное, страстное.
На Узеппе и Красавицу никто не обращал внимания, но они были так рады находиться тут, что ничего больше и не требовали. Чтобы не спугнуть такое счастье, они старались никому не мешать. Красавица улеглась на полу между стульями Давиде и Узеппе, и если бы не едва заметное помахивание хвостом, можно было бы подумать, что это не живая собака, а изваяние. Иногда она поднимала вверх счастливые глаза, как бы говоря: «Ну вот мы и вместе». Узеппе тихонько сидел на своем стуле, поглядывая вокруг большими доверчивыми глазами, стараясь даже не болтать ногами. Малыш, испытывая к Давиде уважение, в то же время чувствовал себя в его компании свободным. Кроме того, среди присутствующих было несколько местных жителей, которых он знал в лицо. Узеппе сразу же увидел старого знакомого – Клементе, брата Консолаты. Он помахал ему рукой, но тот не узнал малыша.
Клементе не играл. Он сидел за спинами игроков, напротив Давиде. Очень худой, бледный, с запавшими и мутными глазами, как у мертвеца, он кутался в пальтишко, несмотря на жару, и даже на голове у него была небольшая шапочка. На изувеченной руке вместо черной шерстяной перчатки, связанной Филоменой, была надета кожаная, очень старая, красновато-коричневого цвета, однако все продолжали звать его Черная Рука. Он был безработным инвалидом, полностью зависящим от сестры. Они ненавидели друг друга. По воскресеньям, когда она не уходила на работу, ненависть эта гнала его прочь из дома, и с раннего утра и до позднего вечера Клементе просиживал в остерии. Время от времени он протягивал руку, брал со столика стакан с вином, смотрел на него неподвижно и с отвращением, как будто видел там червей, и ставил стакан на место, не притронувшись к вину.
Находясь среди людей, Клементе отгородился от них, замкнувшись в угрюмом оцепенении, не реагируя на окружающее. Его не интересовали ни карты, ни передаваемые по радио новости, однако время от времени он прислушивался к тому, что говорил Давиде. Тогда его угасшее лицо немного оживлялось, на нем появлялось выражение неприязни, обиды и презрения.
Из присутствующих он один принадлежал к молодому поколению (хотя по его внешнему виду этого нельзя было сказать): действительно, он был старше Давиде всего лет на десять. Всем остальным было под шестьдесят или чуть больше, и они слушали Давиде рассеянно и терпеливо, как взрослые слушают подростка со странностями. Они не выказывали неудовольствия, хотя его назойливость мешала им. Некоторые из присутствующих знали его в лицо, но никто не считал его героем, как раньше в доме Маррокко. Из-за социального происхождения Давиде они относились к нему как к отпрыску захиревшего дворянского рода, почти как к инопланетянину.
Игроки были разбиты на пары. Рядом с Давиде сидел старик лет шестидесяти, еще крепкий и пышущий здоровьем. Надетая на нем серая майка оставляла открытыми мускулистые загорелые руки и белую кожу под мышками. У него были густые с проседью волосы; на шее на серебряной цепочке висел медальончик с изображением святого. Его партнер, сидящий напротив, был лысым мужчиной с плоским лицом в форме почтальона. Из второй пары игроков один коренастый и краснолицый, судя по говору, жил не в Риме, а в окрестностях. Скорее всего он был перекупщиком сельхозпродуктов. Другого Узеппе уже встречал раньше: он ходил по району, продавая с висящего на шее лотка лепешки из каштановой муки. Лоток с товаром лежал теперь на подоконнике, и Красавица то и дело с вожделением поглядывала на него. У лотошника было круглое морщинистое лицо, маленький нос и такие же уши. Он был очень медлительным, и другие игроки подстегивали его.
Позади крепкого игрока с медальоном сидел старичок лет шестидесяти, болезненного вида. Его худая жилистая шея торчала из ворота старого заштопанного пиджачка, который он надевал только по воскресеньям. Белки его блекло-голубых слезящихся глаз были покрыты лопнувшими капиллярами, но взгляд был спокойным и приветливым. Старичок с видимым удовольствием следил за игрой. Он был пенсионером и брался за любой мелкий приработок. Игра в карты по воскресеньям была единственным развлечением в его одинокой жизни. Он то и дело восторженно аплодировал ходам игрока с медальоном.
Из других зрителей одни следили за игрой с интересом, другие же просто дремали, продолжая в остерии послеобеденный воскресный отдых. Один из присутствующих время от времени подходил к радиоприемнику, выслушивал новости и потом пересказывал их другим. Некоторые клиенты, постояв немного возле играющих, уходили. Уходили и некоторые из сидевших, уступая место другим… Давиде же ни разу не встал со стула; ноги у него отяжелели, но внутри все бурлило.
Сегодня он был умыт и чисто выбрит, как будто и для него воскресенье было праздником. Волосы, обычно торчащие во все стороны, были приглажены, смочены водой и расчесаны на пробор. Этим непривычно ухоженным внешним видом и задумчивым, иногда внимательным взглядом он напоминал молодого студента со старой фотографии, несмотря на ввалившиеся щеки и бледность. На нем были немного мятые, но почти новые брюки и чистая белая футболка с короткими рукавами. Узеппе, который чаще всего смотрел на Давиде, заметил у него на руке, на изгибе локтя небольшую гноящуюся ранку. Забеспокоившись, он намеревался спросить о ней у Давиде, но не осмеливался прервать его страстную речь.
Давиде и сам не очень понимал, почему и о чем он говорит. Он пытался втянуть других в разговор о какой-нибудь глобальной (а может, личной?) проблеме. На такие вопросы нет ответа, тем более, что и сам он – непривычно, болезненно разговорчивый – пытался нащупать не решение, а саму проблему. Если обобщить его речи в тот день, они представляются мне в образе лошадей, бегущих все по одному и тому же кругу. Теперь он своим юношеским басом снова говорил о том, о чем присутствующие говорить не хотели. Он обвинял всех, и их в том числе, в нежелании вспоминать о войне и о миллионах ее жертв. Его главная мысль была такова: поскольку война закончилась, никто не хочет о ней вспоминать. Он повторял с укоризной: «Никто! Никто!..» Наконец игрок с медальоном сказал Давиде, не очень вникая в суть его речей и не слишком отвлекаясь от игры:
«Ну так ты об этом поговори, а мы послушаем». Он бросил на стол карту и воскликнул: «Туз!» Клементе, криво усмехаясь, поглядывал на Давиде с выражением, говорившим: «Ну, чего ждешь? Давай, выкладывай свою философию».
Помещение остерии, довольно просторное, имело два выхода. В углу, рядом с одной из дверей, за баром и холодильником, позади игроков в карты, у радиоприемника собралась небольшая толпа, слушая результаты футбольных матчей. В отличие от сидящих за столиками, эти, стоящие, были в большинстве своем молодыми. Они ничего не заказывали, зайдя в остерию только ради спортивных новостей. Их сменяли другие посетители, так что двери не закрывались: одни выходили, другие входили. Стоял шум голосов, говорили о футболе. Хозяин из-за стойки охотно включался в разговор. Тем временем пожилые завсегдатаи уселись еще за один стол играть в карты. Оттуда то и дело доносились возгласы: «Беру!», «Ходи!» и им подобные. Соединяясь с голосами болельщиков и голосами улицы, они создавали назойливый шум. Но он не раздражал Давиде, наоборот, внезапная тишина вызвала бы у него панику. Он ощущал необыкновенную ясность мыслей, она его возбуждала, хотя ему и казалось, что он двигается наугад, как заблудившийся ребенок, не осмеливающийся просить помощи у прохожих. Его охватил какой-то восторг, внешние шумы слились с теми, которые звучали в его душе, превратившись в единое целое.
Нетрудно понять, что это был один из его праздничных дней,но сегодня, в отличие от предыдущих, ему стало невыносимо сидеть в одиночестве в своей комнате. Он вышел на улицу, страстно желая общения. Ему хотелось видеть людей, слышать их голоса, дышать с ними одним воздухом.
У него не было никакого плана, он шел наугад. Очутившись перед остерией, он вошел в нее, поскольку она была ему знакома, он уже бывал здесь раньше.
Давиде не хотел выпивать, более того, алкоголь был несовместим с этим его праздничнымсостоянием, но он заказал немного вина, чтобы не выглядеть белой вороной среди других клиентов. Выпив, он повел себя так же, как человек, случайно зашедший на танцплощадку и почувствовавший непреодолимое желание танцевать, несмотря на сильную усталость в ногах… А ведь это была не танцплощадка… Это было…
Он сам не понимал, что вдруг толкнуло его придвинуть свой стул к соседнему столику, в тот момент единственному занятому из всех столиков остерии. Его движение было таким резким, что походило на вызов. Наверное, где бы и с кем бы он сейчас ни находился (в суде, в богадельне, при английском дворе), он поступил бы точно так же. Он подчинился необоримому желанию, одному из тех, которое заставляет человека раздеться догола на городской площади.
Наверное, ему показалось, что, повернув стул, он принял какое-то еще не ясное, но очень важное решение, хоть и неожиданное для него самого.
Только открыв рот, он понял, что самым сильным его желанием сегодня было говорить.Ему казалось, что он был тугим узлом, а все остальные путались и запинались за этот узел, который можно было развязать, только разговаривая с другими. Он заговорил, как будто бросился в бой, надеясь отдохнуть после победы. Будет это диалог или монолог – не имело значения. В одном Давиде был уверен: необходимо срочное общение!
Тем для разговора было столько, что он затруднялся в выборе. К тому же Давиде понимал, что нынешней остротой ума был обязан не здоровью, а какой-то внутренней лихорадке, которая одновременно мешала ему и помогала. Да, говорить, но с чего начать? Он заговорил о войне, надеясь, что эта тема, как Полярная звезда, укажет ему верное направление. Но даже после слов игрока с медальоном Давиде продолжал неразборчиво и нахально тараторить какие-то обвинения, вызывая лишь кривую ухмылку у Клементе.
«Война закончилась, теперь надо думать о мире», – сказал краснолицый игрок, мельком взглянув на Давиде, но тут же забыл о нем и, уставившись на своего партнера, медлительного бродячего торговца, воскликнул: «Давай! Чего ждешь?»
«Ну конечно, война закончилась, пришел мир, разумеется!» – повторил Давиде в полемическом запале и засмеялся развязно. Смех этот поразил Красавицу, она подняла уши. Между тем Давиде, поддавшись внезапному приступу дурного настроения и ерзая на стуле, мрачно сказал, глядя на краснолицего игрока, который, по правде сказать, больше не обращал на него внимания: «Такие перемирия, как нынешнее, заключались уже сто тысяч раз! И еще сто тысяч раз заключатся, а войны как были, так и будут! Называть миромподобное безобразие – это… это порнография! Это значит – оплевать мертвых. Ну, конечно, мертвых на войне подсчитывают с точностью до сотен тысяч и дело сдают в архив, а по праздникам господа во фраках возлагают венки к могиле Неизвестного солдата…»
«Жизнью пользуйся, живущий, мертвый, спи спокойным сном», – произнес пенсионер, подмигнув Давиде слезящимися глазами, но без всякой иронии, скорее с сочувствием.
«Дело сдано в архив!» – с возмущением повторил Давиде, но тут же подумал, что, продолжая злиться, он с самого начала пойдет по неправильному пути. Усилием воли он заставил себя совершить мысленный поворот на сто восемьдесят градусов, что привело к раздвоению его личности: был Давиде-Супер-Эго, который командовал, и просто Давиде, который ему подчинялся, хоть и сомневался в адекватности целей и средств. В дальнейшем этот Давиде-Супер-Эго появлялся то под видом разящего клинка, то как пародия на самого себя… В данный момент он принял облик Учителя Истории. Нахмурив брови, Давиде заставил себя собрать воедино все знания, начиная с тех, которые он получил еще в гимназии. Если он хотел подготовить поле для будущего сражения, он должен был говорить спокойно, ясно и по порядку. Поэтому он решил прежде всего выделить некоторые общеизвестные посылки, не требующие доказательств, как аксиомы в теоремах. Он начал излагать свои мысли с той же серьезностью, с какой школьником отвечал у доски: уверенно и складно, как будто читал по написанному.
1) Слово фашизм– новое, но им обозначается очень старая, почти доисторическая социальная система, менее развитая у людей, чем у человекообразных обезьян (об этом знает всякий, кто изучал зоологию). 2) Система эта основана на насилии над беззащитными (народами, классами или индивидуумами) со стороны тех, кто владеет инструментами насилия. 3) Во всем мире и на всех этапах развития человечества, начиная с доисторических, не существовало никакой другой системы, кроме этой. На современном этапе крайние проявления этой системы, характеризующиеся подлостью, глупостью и безумием, свойственными эпохе разложения буржуазии, были названы фашизмомили нацизмом.Система эта под другими, иногда противоположными, названиями существовала вездеи всегда, с самого начала человеческой Истории.
Начиная разговор, Давиде поворачивался то к одному, то к другому из присутствующих, как бы призывая их в свидетели. И хотя из его речи, произносимой негромко, среди всеобщего шума слышны были лишь обрывки фраз, он продолжал говорить с какой-то тупой надеждой:
«История человечества – это история более или менее замаскированных фашистских режимов. Греция времен Перикла, Рим эпохи цезарей и пап, степи кочевников, империя ацтеков, Америка первых поселенцев, Италия эпохи Рисорджименто, царская и советская Россия – повсюду мы видим те же отношения свободных людей и рабов, богатых и бедных, покупающих и продающих, начальников и подчиненных, вождей и стада… Система не меняется, меняются слова: религия, божественное право, слава, честь, дух, будущее – все это псевдонимы, маски… Однако в индустриальную эпоху некоторые маски не выдерживают, падают… система показывает зубы, оставляя на теле народных масс клеймо со своим настоящим именем… не случайно на языке системы человечество называют массой,что значит инертная материя…Так вот, материя эта, обреченная на рабский труд, подвергается уничтожению и распаду. Лагерь по уничтожению людей – вот новое название планеты Земля… Индустрия уничтожения – так звучит сегодня истинное название системы! Его надо начертать над воротами фабрик, над дверями школ, церквей, министерств, над небоскребами в виде неоновой рекламы… и на первых страницах газет… и на обложках книг… даже так называемых революционных… Quieren came de hombres!» [34]34
Quieren carne de hombres! – Они жаждут человеческой плоти! ( исп.).
[Закрыть]
Давиде не помнил, где он вычитал эту последнюю фразу. Он произнес ее и пожалел об этом: наверняка никто тут не понимал по-испански. С таким же успехом он мог говорить на древнегреческом или на санскрите: его речь воспринималась присутствующими лишь как сотрясение воздуха, не более. Он начинал догадываться об этом, и тут же спокойствие, запрограммированное его Супер-Эго, испарилось: Давиде судорожно задвигал руками и ногами, громко засмеялся и, возвысив голос, воскликнул: «Некоторые поверили, что последняя война была мировой революцией!»
Радио закончило передавать спортивные новости. Часть слушателей обсуждали их между собой, другие выходили на улицу небольшими группами. Юноша, подошедший к столу при последних словах Давиде (он был без пиджака, в одной рубашке), сказал ему: «Ну так сделай ее ты, революцию, если сможешь!» Давиде повернулся к нему и задиристо и враждебно ответил: «Я не из тех, кто этому поверил! Я таким революциям не верю! Настоящей революции не было! И я больше не верю, что настоящая революция когда-нибудь свершится!»
Но юноша, пожав плечами, уже отходил к группе болельщиков. «А какова она, эта настоящая революция?» – спросил из-за стойки бара хозяин, лениво глядя на Давиде, и, не ожидая ответа, тут же вернулся к разговору болельщиков, воскликнув: «По-моему, тут судья во всем виноват!»
По радио теперь передавали музыку, и хозяин уменьшил звук, чтобы лучше слышать мнение других болельщиков. От результатов сегодняшних матчей разговор перешел на последние победы сборной в международных встречах. Кто-то хвалил одного игрока, кто-то другого. Юноша, подходивший к столу, громко нахваливал игру Маццолы. Не сдержавшись, старичок с больными глазами поднялся со стула и, гордясь своей осведомленностью, воскликнул: «Однако победа в Турине – заслуга Габетто, а никак не Маццолы! Габетто два гола забил, два!» – он торжествующе покрутил двумя пальцами перед носом юноши.
По радио передавали теперь какую-то новую, становящуюся модной песню; один из молодых людей включил приемник погромче и в такт музыке стал пританцовывать, поводя бедрами. Другой, считая себя более компетентным в танцах, принялся показывать ему разные па. Часть посетителей, отвлекшись от спортивной темы, следила за ними. Шарканье ног танцующих добавилось к уже довольно сильному шуму, стоящему в остерии, который, однако, не мешал Давиде. Вся его энергия была направлена на достижение цели, которую он с трагическим упрямством поставил сегодня перед собой. В свете этого страстного желания все прочее вокруг него не имело никакого значения… Убежденный в том, что вопрос хозяина остерии требовал подробного ответа, Давиде, набравшись терпения, вернулся к своему уроку истории, к тому моменту, когда он его прервал. Прежним спокойным и размеренным тоном он заговорил о том, что эта извечная и всеобщая система угнетения по определению связана с собственностью как частной, так и государственной, что она неизбежно является расистской и реализуется через притеснения, агрессию и войны: иначе невозможно. Пресловутые «революции», происходящие внутри этой системы, должны восприниматься лишь как обращение неких тел вокруг центра тяжести, то есть в астрономическом смысле. А центр тяжести всегда один и тот же – ВЛАСТЬи только ВЛАСТЬ.
В этот момент оратор понял, что если его слова и долетают до некоторых слушателей, то только случайно, как обрывки бумаги, кружащиеся на ветру… Давиде замолчал. На лице его появилось смятенное и растерянное выражение, как у проснувшегося от шума ребенка. Но он тотчас же нахмурился, заиграл желваками и, встав, вдруг громко и с вызовом крикнул: «Я – еврей!»
Выходка Давиде ненадолго отвлекла игроков от карт. Клементе поглядел на него, скривив губы, а старичок с больными глазами сказал негромко: «А что в этом плохого – быть евреем?» Почтовый служащий тоже вставил слово, заявив серьезно, почти торжественно: «Евреи – такие же люди, как и все. Они тоже итальянские граждане». «Я не это хотел сказать», – запротестовал Давиде, краснея. Он чувствовал себя виноватым, потому что заговорил о своих личных проблемах, но в глубине души был доволен уже тем, что хотя бы кто-то ему ответил. «За кого вы меня принимаете? – снова заговорил он в некотором замешательстве, пытаясь не упустить нить рассуждений. – Раса, классы, гражданство – все это вздор, цирковые номера, придуманные Властью. Это Власти нужен позорный столб: тот – еврей, этот – негр, рабочий, раб, не такой, как все… враг! Все это придумано, чтобы отвлечь внимание от настоящего врага – Власти! Это Власть, как чума, погружает мир в безумие… Евреями, неграми, белыми рождаются случайно – (Давиде показалось, что он нащупал главную мысль), – но человеком рождаются не случайно!» – провозгласил он с вдохновенной улыбкой.
На самом деле последняя фраза была концовкой одного стихотворения, озаглавленного «Сознание», которое он сочинил несколько лет тому назад и о котором теперь вспомнил. Однако Супер-Эго не советовало Давиде декламировать теперь его собственные стихи, поэтому он решил переложить это в прозу, но говорил он так, как обычно поэты читают стихи – певуче, эмоционально и вместе с тем робко:
«От водоросли и амебы, через последующие формы жизни, через необозримые временные пространства природа направила свое движение к сотворению высшей цели мироздания – человека! Человек – это сознание: так говорится в Книге Бытия. Сознание – это божественное чудо, это – Бог. В тот день Бог сказал: Вот человек, и еще: Я – сын человеческий! Теперь, наконец, он мог отдохнуть… Сознание в высшем смысле – одно для всех, оно не делит человечество на отдельных индивидов. В этом смысле между людьми не существует никаких различий: белые, черные, красные или желтые, мужчины или женщины – все они люди, то есть высший этап эволюции жизни на земле. Сознание – это знак Божий, единственный истинный высший знак отличия для человека, все остальные титулы и награды – чепуха, болтовня и побрякушки».
«А сам-то ты в Бога веришь?!» – прервал его Клементе с кривой усмешкой, в которой читалось презрительное отношение к оратору. «Эх, счастлив тот, кто верит в Него», – вздохнул старичок с больными глазами. «Неужели не понятно?! Мне казалось, что я все уже объяснил, – пробормотал Давиде. – Верю ли я в Бога? Вопрос этот – бессмысленный сам по себе, обыкновенная словесная увертка, как и многие другие».
«Ах, увертка?»
«Да, увертка. Болтовня попов и фашистов. Они говорят о вере в Бога, в родину, в свободу, в народ, в революцию, но вся их вера – не что иное, как пустая болтовня, призванная прикрывать их истинные цели… Что до меня, то я – атеист, если ты об этом спрашиваешь».
«Зачем тогда вы о Боге говорите, если не верите в Него?» – вмешался перекупщик, недовольно надув щеки. В это время его партнер по игре, бродячий торговец, почесал за ухом, что на языке картежников означает намерение сходить определенной картой. Перекупщик сказал ему: «Ходи!» – и тот мигом бросил на стол своего козыря.
«Верить в Бога… Что это за Бог такой, в которого можно верить, а можно и не верить? В детстве я тоже примерно так думал… Но Бог не таков!.. Вот, я вспомнил, недавно один мой друг спрашивает меня: „Ты веришь, что Бог существует?“ Я подумал и ответил: „Я считаю, что только Бог и существует!“ А он, не думая, сказал: „А я думаю, что все существует, кроме Бога!“ „Ну, значит, мы придерживаемся противоположных точек зрения“, – сказали мы. А потом я понял, что мы имели в виду одно и то же».
Подобные рассуждения должны были казаться слушателям (конечно, если их действительно кто-то слушал) неразрешимым ребусом, примером еврейского богословия. Единственной реакцией на них был саркастический кашель Клементе, вырвавшийся из его больных легких, да тихое, но решительное: «Эй, Давиде!» – произнесенное Узеппе. Уже в третий или четвертый раз малыш пытался обратить на себя внимание друга, чтобы просто напомнить ему: «Мы здесь!» и ничего более, но Давиде опять никак не прореагировал на оклик Узеппе.
Он снова уселся на стул и продолжал рассуждать с видом человека, который пытается восстановить в памяти увиденное во сне: «Говорят: Бог бессмертенименно потому, что существование едино для всего сущего, а если сознанию это известно, то что тогда значит смерть? Для человека – части человечества – смерти нет: разве свет исчезает, когда ты или я закрываем глаза?! Единство сознания – вот победа революции над смертью, конец Истории и рождение Бога! Это сказка, одна из многих, что Бог создал человека, потому что все как раз наоборот: Бога должен породить человек. Рождение Бога еще только ожидается, но, возможно, это не произойдет никогда: нет больше надежды на настоящую революцию…»
«А ты что, революционер?» – снова спросил Клементе нехотя и презрительно, заранее обесценивая ответ. «Вот еще один вопрос-уловка, – произнес Давиде с горькой усмешкой. – Люди, подобные Бонапарту, Гитлеру или Сталину, ответили бы „да“. Я же – анархист, если вы об этом спрашиваете».
Теперь в словах Давиде слышался вызов, но обращен он был не к Клементе, а к какому-то невидимому собеседнику. Давиде казалось, что этот резкий, хриплый голос принадлежит не Клементе, а его собственному Супер-Эго!
«Единственная настоящая революция – АНАРХИЯ! А-нар-хия – это значит: никакойи ничьейвласти ни над кем!Любой, кто говорит о революции, связывая ее с властью, – мошенник и фальсификатор! Любой, кто желает власти для себя или для кого-то другого – реакционер и буржуа, даже если пролетарий по рождению! Да, буржуа, поскольку Власть и Буржуазия неразрывно связаны друг с другом и образуют симбиоз: где Власть – там размножается буржуазия, как микробы в сточной канаве».
«А денежки-то у них», – сказал хозяин остерии, зевая и потирая большой палец правой руки об указательный. Из группы посетителей, стоявших у радиоприемника, донесся развязный голос: «За денежки можно все купить, даже Мадонну». «…И даже Господа Бога», – добавил мрачно другой голос.
«Денежки…» – рассмеялся Давиде. Жестом террориста, бросающего бомбу, он достал из кармана две лежавшие там купюры и швырнул их с презрительным выражением лица. Легкие бумажки, несмотря на приложенную Давиде силу, упали на пол в двух шагах от него, рядом с хвостом Красавицы. Узеппе соскочил со стула, подобрал их и вернул другу, не упустив случая снова сказать: «Эй, Давиде!» Потом малыш опять проворно взобрался на стул. Красавица бурно приветствовала его, как если бы он вернулся из дальнего путешествия.
Давиде послушно взял деньги и машинально сунул их в карман: возможно, он уже забыл о своем жесте, который, однако, дал выход не всем его эмоциям. «Деньги, – воскликнул он, – это первый обман в истории человечества!» Но собеседник – обладатель развязного голоса – уже не слушал Давиде. Это был живой юноша с ослепительно белыми зубами. Прижавшись одним ухом к радиоприемнику и прикрыв другое ладонью от постороннего шума, он слушал музыкальную передачу.