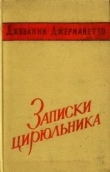Текст книги "La Storia. История. Скандал, который длится уже десять тысяч лет"
Автор книги: Эльза Моранте
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 48 страниц)
Однако он не хотел сдаваться, решив все-таки идти на завод, как обычно. Но из всей длинной лестницы подъезда (шесть этажей) ему не удалось спуститься и на несколько ступенек! Перспектива вскоре оказаться в цехе парализовала ему ноги. Воля требовала идти туда, а ноги отказывались. (Как он потом объяснил Нино, это был паралич несчастья.В любом реальном действии, даже трудном и опасном, естественным является движение. Но перед лицом неестественной нереальности – полной, однообразной, изнурительной, тупой, непоправимой – даже звезды, говорил Давиде, прекратили бы двигаться…). Так рабочая жизнь Давида Сегре, которая по его замыслам должна была длиться минимум пять-шесть месяцев (максимум – всю жизнь!), бесславно завершилась через девятнадцать дней! К счастью, его Идеяот этого не погибла, она вышла из испытания озаренной и укрепившейся, как он и надеялся. Однако нельзя отрицать, что его эксперимент, по крайней мере с физическойточки зрения, потерпел фиаско. Впоследствии Давиде, встречая рабочих, краснел и чувствовал себя виноватым. Он становился неразговорчивым, замыкался и молчал.
«Конечно, – говорил Нино, – с тех пор Давиде изменился, в то время он был еще слишком избалован жизнью…» Но тем не менее его нынешнее намерение повторить провалившийся в прошлом эксперимент смешило Нино, как детский каприз. Однако он всегда отзывался о своем товарище с величайшим уважением: с первых дней их совместной жизни в Кастелли он считал его не только героем, но и философом, предназначенным природой для какого-нибудь славного дела, – в общем, великим со всех точек зрения.
Некоторые из нынешних писем Давиде из Мантуи были написаны прекрасным литературным языком. В них он пространно рассуждал о разных ученых проблемах: искусстве, философии, истории. Нино демонстрировал их с гордостью, хотя, конечно, читая, пропускал половину. Другие же были сумбурными и путаными, написанными крупным, кривым, почти непонятным почерком. Давиде сообщал, что ему в Мантуе приходится туго, что, по-видимому, он попал в ловушку.
В конце августа он написал, что самое большее недели через две приедет в Рим.
4
Пятнадцатого августа, когда Давиде был еще на Севере, в Мантуе, у нас в Риме, в районе Портуенсе, было совершено преступление: Сантину, старую проститутку, убил ее сутенер. Сам он через несколько часов явился в полицию с повинной.
Давиде этого не знал, никто не сообщил ему об убийстве (его давние встречи с ней проходили тайно), а газет он в ту пору не читал. Возможно, впрочем, что пресса на Севере об этом и не писала. Новость появилась в римских газетах; были опубликованы фотографии убитой и убийцы. Фото Сантины было старое, и хотя она казалась там моложе и полнее, менее некрасивой, чем теперь, уже тогда на ее лице читалась та покорность животного, ведомого на бойню, которая теперь казалась знаком судьбы. Фото убийцы было сделано в квестуре в момент ареста, однако и он казался на нем моложе своих лет: ему было тридцать два года, а казалось – лет на десять меньше. Смуглый, небритый, несмотря на праздничный день, с узким лбом и глазами бешеной собаки, он был воплощением того, о ком говорят: «По нему тюрьма плачет». Лицо его не выражало никаких особых эмоций; казалось, на своем немом, вялом языке фотография говорила: «Вот я какой. Я сам пришел. Не вы меня взяли. Смотрите на меня, смотрите, я-то все равно вас не вижу!»
В газетах приводилась также его фамилия, которую Сантина никому не называла: Нелло ДʼАнджели. Говорилось, что убийство было непредумышленным и произошло в квартире Сантины. Орудий убийства было несколько: большие ножницы, утюг и даже помойное ведро – то, что оказалось под рукой. Смерть наступила от первого же удара ножницами, который разрезал сонную артерию жертвы. Однако убийца продолжал терзать уже бесчувственное тело первыми попавшими под руку предметами. Газеты называли это «raptus omicida». [22]22
Raptus omicida – экстаз убийства (лат.).
[Закрыть]
В воскресный день в тот час (между тремя и четырьмя пополудни) никого поблизости не было; соседи по дому, отдыхавшие после обеда, не слышали ни ссоры, ни криков. Убийство было вскоре обнаружено, поскольку преступник и не пытался замести следы. Он оставил дверь полуоткрытой, так что ручеек крови из-под нее тек наружу, пропитывая пыльную землю. В комнате кровь образовала большую лужу у кровати, ею были запачканы матрац и коврик, даже на стене виднелись брызги. Убийца повсюду наоставлял кровавые следы от ног и рук. Убитая лежала на кровати обнаженное (вероятно, для своего «друга», в отличие от клиентов, она раздевалась догола). И хотя в округе было известно, что Сантина благодаря присутствию солдат союзников заработала крупную сумму, денег не нашли ни в одежде, ни в других местах. Когда тело сняли с кровати, под матрацем нашли сумочку: она обычно там ее и держала. Однако, кроме удостоверения личности, ключа от квартиры и использованных трамвайных билетов, в сумочке было только немного мелочи. У убийцы же в момент ареста нашли значительное количество крупных и мелких денежных купюр. Они лежали у него в заднем кармане брюк, аккуратно уложенные в бумажнике «под крокодила», и хотя были потрепанными и грязными, следов крови на них не было. На вопрос, не отнял ли он эти деньги у Сантины, он, в своей обычной манере, притворной и наглой, ответил: «Именно так», хотя на самом деле он получил их из рук Сантины незадолго до убийства. Он не собирался рассказывать о деталях случившегося.
За исключением бумажника, лежавшего в застегнутом кармане, вся его одежда и руки, также и под ногтями, были перепачканы запекшейся кровью, смешавшейся с потом и пылью. Он и не подумал вымыться, и явился в полицию в одежде, которую надел еще утром: в тонкой льняной розовой рубашке, расстегнутой у ворота, полотняных приспущенных брюках без ремня, летних туфлях на босу ногу. На шее, на цепочке, висел медальон-четырехлистник из зеленой эмали. Он сказал, что после убийства домой не заходил, а отправился, один, в поле за Виа Портуенсе, в направлении Фьюмичино, и там проспал около часа. Из волос у него действительно торчал сухой колосок. Это было в половине восьмого вечера.
В квестуре знали, что ДʼАнджели – сутенер. Полицейским не составило труда назвать мотивы преступления, которое они классифицировали как «обычное» из-за его типичности: старая проститутка, которую он эксплуатировал, то ли отказалась отдавать деньги, то ли скрыла от него (так он думал) часть выручки, которая, по его законам, вся причиталась ему. Тогда ДʼАнджели, охарактеризованный в протоколе как человек аморальный, примитивный, с низкими умственными способностями, лишенный тормозящих реакций,наказал ее. Он, со своей стороны, облегчил задачу следователей: на их неизбежные вопросы ДʼАнджели отвечал так же, как на первый вопрос о купюрах: «Именно так», «Да», «Так и было», «Так, как вы говорите» или просто молча поднимал брови, что у южан является знаком подтверждения сказанного. В ответах этих сквозило ленивое равнодушие: ДʼАнджели предпочитал не делать лишних усилий, а предоставить следователям описывать происшедшее вместо него, пользуясь индуктивным методом. С видом облегчения, циничным и глупым одновременно, он без разговоров расписался под протоколом допроса: ДʼАнджели Нелло. Его украшенная завитками подпись заняла в ширину весь лист (так подписывались Бенито Муссолини и Габриэле ДʼАннуццио). «Убийство, отягощенное низменными мотивами». Низменные мотивыв его случае, согласно протоколу, значили сутенерство и денежный интерес.Нелло ДʼАнджели испытывал бы гораздо больший стыд от истинных мотивов убийства, если бы осознавал их.
Ему, молодому мужчине, казалось нормальным эксплуатировать старую проститутку, но – любить ее! А невообразимая реальность была именно такова: он по-своему любил Сантину.
За всю предшествующую жизнь у ДʼАнджели не было ничего своего. Он вырос в домах для подкидышей. Раз в год, на Рождество, монахини давали ему тряпичного медвежонка, которого потом забирали обратно и клали в шкаф, до следующего Рождества. Однажды, в середине года, соскучившись по медвежонку, он сломал замок шкафа и потихоньку взял игрушку. Кражу обнаружили через несколько минут, в наказание его побили щеткой и на следующее Рождество медвежонка не дали.
С тех пор он стал приворовывать. Многочисленные наказания носили странный характер: кроме побоев, его заставляли часами стоять на коленях, за обедом первое и второе ему накладывали в одну тарелку, за ним бегали с зажженными кусками газет, грозя поджечь зад, а однажды даже заставили лизать собственное говно. Поскольку его склонность к воровству была общеизвестна, ему приходилось отвечать и за чужие грехи. Он не был ни милым, ни смышленым ребенком; никто не вставал на его защиту, никому никогда не пришло на ум приласкать его. Когда он немного подрос, некоторые его товарищи по детскому дому, подкидыши, как и он, пытались иногда залезть к нему в кровать, погладить и даже поцеловать, или оказаться с ним наедине в укромном местечке. Но он знал, что это ненормально, а поскольку он хотел стать нормальным мужчиной, то с яростью отбивался кулаками от таких ласк. Кулаки у него уже тогда были железными, и его боялись. Впоследствии он не доверял друзьям, подозревая у них ненормальные склонности.
Отпущенный из приюта годам к двадцати, ДʼАнджели сразу же разыскал мать. Она была дочерью пастуха из внутренних районов Сицилии (дед ее был родом из Альбано [23]23
Альбано – городок, расположенный недалеко от Рима.
[Закрыть]). В молодости она имела ту же профессию, что и Сантина, однако теперь жила с одним мужчиной и с тремя маленькими детьми. Она сказала сыну: «Ты можешь есть и спать у нас при условии, что будешь работать и помогать семье». Он устроился землекопом, но мать не оставляла ему денег даже на сигареты, а кроме того, постоянно упрекала, что он много ест и мало зарабатывает. Однажды он, несмотря на то что она мать, набросился на нее с кулаками, а потом исчез. Через несколько месяцев он оказался в Риме.
Он подобрал собачонку, которая, возможно, масти была белой с пятнами, но из-за грязи ее облезлая шкура казалась зеленовато-черной. Он вытащил ее из ямы, куда та спряталась, побитая камнями и палками. Ценой неимоверных усилий он выходил ее: таким образом, она принадлежала ему, так сказать, в двойном размере. Он назвал ее Верный и всегда брал с собой. Однако налог он за нее не платил, и однажды появился представитель санитарной службы, чем-то вроде гарпуна затащил Верного прямо в грузовичок, где уже находилось множество собак, и увез их всех на живодерню.
После этого Нелло ДʼАнджели каждый раз, когда встречал без свидетелей бродячую собаку или кошку, мучил их до смерти. Работать ему не хотелось. Он жил, не заглядывая в будущее, благодаря мелкому воровству, не объединяясь с другими ворами: так он существовал на обочине и этого сообщества. Будучи по натуре не хитрым, он довольно часто оказывался в тюрьме Реджина Чели, [24]24
Реджина Чели – известная римская тюрьма.
[Закрыть]где проводил в общей сложности по нескольку месяцев в году. Встретив Сантину, он, в промежутках между заключениями, жил частично за ее счет.
Он был не безобразен, но и не красив: мужиковатый, невысокого роста, мрачный, нелюдимый. Девушкам он не нравился. Однако при желании он мог найти себе женщину не такую старую и некрасивую, как Сантина. Но он инстинктивно избегал молодых и привлекательных, как бешеный избегает людей из боязни укусить их. Сантина была единственно подходящей для него женщиной.
Их связывали деньги. Но поскольку, на самом деле, он ее любил, денежный интерес служил для него предлогом быть рядом с ней (сам он этого не понимал). Кроме нее, у него на свете никого не было, так же как и у Сантины – кроме него, но она, несмотря на ограниченный ум, была способна понять, что любит, а он – нет.
Каждый раз, приходя к ней, он тотчас спрашивал, угрюмо и с угрозой: «Где деньги?» Сантина сразу же отдавала ему все, что заработала, сожалея только о том, что не может дать больше. Если бы она отказалась или же обругала его, ситуация показалась бы ему более нормальной. Но как она могла ему в чем-то отказать? Только ради него она продолжала заниматься проституцией, а если бывали простои, она бралась за работу прачки, санитарки, чернорабочей. Если бы не было его, она бы потихоньку умерла, как старая собака без хозяина.
А он под предлогом денег привязался к ней, к ее старому неповоротливому телу, которое послушно отдавалось ему в своей грубоватой и странно неопытной манере, как будто за столько лет профессии Сантина ничему не научилась. Он привязался к ее грустной улыбке, к запаху бедности, исходящему от нее. Когда она лежала в больнице, он носил ей апельсины, а когда ее арестовали и держали в тюрьме, он заперся в комнате, которую снимал, в темноте, испытывая тошноту от дневного света. Когда он увидел ее снова на свободе, первое чувство, которое он испытал, была злость; он встретил ее ругательствами.
Иногда, забрав деньги и выйдя на улицу, он бродил поблизости, как бездомная собака, которой некуда идти. Его домом стал ее дом, хотя он продолжал снимать комнату в бараке в районе Триомфале. С недавних пор, когда Сантина стала зарабатывать немного больше, он чаще проводил ночи у нее. Если Сантина принимала клиента, он ждал на улице, растянувшись на грязной земле. Он не испытывал никакой ревности, уверенный в том, что другие мужчины для нее ничего не значат. Она принадлежала ему, своему единственному хозяину. Деньги она тратила только на него, ей ничего было не надо, кроме того немногого, что требовала профессия – время от времени поход в баню или в парикмахерскую – завиться. В такие счастливые периоды она позволяла себе единственную роскошь – делать ему подарки: например, бумажник «под крокодила», или тонкую льняную рубашку, или что-нибудь в этом роде. Медальон с цепочкой тоже был подарен ею.
Она стирала ему белье, готовила еду на своей маленькой плитке, доставала для него американские сигареты.
…Вот мужчина выходит из дверей комнаты Сантины. Оттуда доносится слабый шум воды. ДʼАнджели потягивается, встает, направляется к двери. «Где деньги?»
Взяв их, он мог бы уйти: она ничего не просит взамен. Но он, как младенец, насосавшийся из материнской груди, зевает и растягивается на кровати, как будто ждет колыбельную. Она тем временем достает из шкафчика макароны, лук, картошку… Он приподнимается на кровати, опираясь на локоть, и искоса разглядывает ее.
«Господи, какая ты страшная! Руки и ноги как оглобли, а зад висит, как у старого быка!»
Она не отвечает, отходит немного в сторону, на лице у нее слабая, неясная, виноватая улыбка…
«Что ты там делаешь? Чего стряпаешь? Меня уже тошнит от этой луковой вони. Ложись вот тут, на одеяло, хоть не будешь торчать перед глазами…» Так происходит почти каждый вечер. Он не понимает, какая душераздирающая тоска влечет его к этой женщине. Где бы он ни был, он чувствует потребность в ее теле. Бывают вечера, когда он, из ненависти к ней, не приходит. На следующий день она ни о чем его не спрашивает. Летними вечерами, на закате, она ждет его, сидя на ступеньке крыльца. Когда он появляется, ее простодушные оцепенелые глаза наполняются искренней, почти восторженной благодарностью. Она робко улыбается и говорит: «Нелло!» – ни слова больше. Сантина встает и, тяжело передвигая свои огромные ступни, входит впереди него в темную, прохладную комнату. «Где деньги?»
Если бы она когда-нибудь прогнала его, он бы не так ее ненавидел. Присутствие Сантины в его жизни – как болезненный лишай, все увеличивающийся в размерах.
В природе людей – пытаться объяснить себе окружающий мир: в этом их отличие от других существ. Каждый человек, даже самый неразвитый, последний из обездоленных, с детского возраста как-то объясняет для себя мир, в котором живет, и приспосабливается к нему в соответствии с этим объяснением: иначе он впал бы в безумие. До встречи с Сантиной Нелло ДʼАнджели считал: мир – это некая среда, где все люди – его враги. Единственный способ борьбы с ними – ненависть. Появление Сантины, инородного элемента, переворачивало всю картину мира и безумно тревожило его ленивый ум.
Иногда он видел кошмарные сны, в которых всегда Сантину от него уводили. Ему снилось, например, что отряд немцев, окружив дом, тащит ее к грузовику под дулами автоматов. Или: санитары в белых халатах, под предводительством полицейского, появляются с каким-то ящиком, приподнимают на Сантине платье, говорят: «Чума», кладут ее в ящик и уносят. Он кричал и метался во сне, и просыпался, испытывая к Сантине ненависть, как будто она была во всем виновата. Однажды ночью, проснувшись и увидев ее рядом в кровати, спящей, он бросился на нее с криком: «Вставай, проклятая!» Он лупил ее, а ему казалось, что это его дубасят кулаками в какой-то жуткой драке.
Он ни разу не спал без снов, и сон его был всегда тяжелым и беспокойным, независимо от того, появлялась там Сантина или нет. Пятнадцатого августа, когда он после убийства заснул на лугу, ему приснилось, что он идет по этому самому лугу к котловану. Был ни день ни ночь: мутный, непонятный свет. На дне котлована лежала упавшая туда Сантина; она не шевелилась, глаза ее были широко открыты. Он спустился в котлован, взял ее на руки, вынес наверх и, чтобы привести в чувство, раздел донага. Она лежала на лугу, у его ног; тело ее было белым, костлявым, бессильным, маленькие старые груди висели. Потом глаза ее закрылись, лицо приобрело нормальный цвет. Она подняла руку и погрозила пальцем, как будто шутила. Со своей обычной робкой улыбкой, стараясь не показывать дыру на месте недостающего зуба, она повторяла: «Ничего. Ничего…»
ДʼАнджели впервые в жизни чувствовал себя довольным и уверенным. Он проснулся. В лучах заходящего солнца хорошо были видны пятна крови на розовой рубашке. Он сразу же все вспомнил. Теперь у него не было дома, куда он мог бы прийти.
Среди многого, что он ненавидел с давних пор, была свобода. Он никогда не был свободным. Сначала – детские дома, потом короткое пребывание у матери и принудительная ежедневная работа, потом – постоянные отсидки в тюрьме. Как раньше в детском доме, так и теперь его наказывали далеко не всегда за его собственные грехи. Было известно, что он вор, поэтому он часто оказывался в тюрьме, ничего не сделав, просто по подозрению. Таким образом, даже на свободе он чувствовал себя как канализационная крыса, вышедшая на свет: первый же прохожий гонит ее прочь. Нет ничего хуже временной свободы. Вот почему ДʼАнджели, не раздумывая, сразу же пошел сдаваться в полицию. Ему было тридцать два года, после совершенного им убийства он знал, что состарится в тюрьме: это был теперь его единственный настоящий дом.
Давиде вернулся в Рим в начале сентября, раньше срока, указанного им в письмах к Нино. Приехав, как обычно, без предупреждения, он безуспешно пытался найти его по нескольким известным адресам. Напоследок он пришел на улицу Бодони. Не успев еще обратиться с вопросом к дворнику, он услышал детский голосок, который звал его: «Карло! Карло-о!» Он отвык от этого имени, но сразу же узнал Узеппе, шедшего ему навстречу из первого двора в сопровождении большой белой собаки. Узеппе ждал мать, которая должна была вот-вот спуститься. Сожалея о том, что разочарует Давиде, он бойко произнес: «Карло! Нино вчера уехал. Он уехал на лилоплане и сказал, что скоро вернется, на другом лилоплане!» Хотя ему уже исполнилось пять лет, он все еще, особенно когда радовался или волновался, плохо произносил некоторые слова и согласные звуки. Узнав об отъезде Нино, Давиде то ли вздохнул, то ли зевнул, по-другому не прореагировав на новость. Однако он тут же вполголоса сказал Узеппе: «Меня зовут не Карло, а Давиде…» «Вавиде!» – поправился Узеппе, немного раздосадованный своей ошибкой, и начал с начала, как следует: «Вавиде! Нино вчера уехал. Он уехал на лилоплане…»
Собака тем временем радостно прыгала вокруг незнакомца, выказывая ему симпатию и доверие. Когда Давиде, не имея больше причин задерживаться, пошел обратно к воротам, собака с лаем немного пробежала за ним, как бы прощаясь. В то же время Узеппе, подпрыгивая и жестикулируя, кричал ему вслед: «Чао, Вавиде!» Давиде обернулся: Узеппе тянул собаку за поводок, как лошадку за уздечку. Собака, весело крутясь, то и дело оборачивалась к малышу и лизала его в нос и щеки, а тот обнимал ее большую белую голову. Было ясно, что между ними царило полное согласие. Давиде завернул за угол улицы Бодони.
Всю предыдущую ночь он ехал в старом вагоне третьего класса с деревянными сиденьями. Поскольку вагон был переполнен, он не смог лечь и кое-как продремал, сидя в своем углу, уткнув лицо во взятую напрокат подушку.
Прозвонили полдень. Хоть он не ел со вчерашнего дня, есть ему не хотелось. Перейдя мост Субличо, он почти выбежал за ворота Портезе, направляясь к Сантине. Кроме Нино и Сантины, он в Риме никого не знал.
Дверь в комнату была приоткрыта; снаружи, у порога, стояла пара шлепанцев. Внутри какая-то женщина, потная и босая, с некрасивыми ступнями, возилась с ведрами. Она едва обернулась и уклончиво и нелюбезно сказала, что Сантина тут больше не живет. Было душно и жарко. Давиде вдруг очень захотелось пить и забраться куда-нибудь в тень, однако единственным подходящим местом в округе, которое он знал, была маленькая остерия, откуда доносились звуки радио: передавали самбу, с припевом и грохотом ударных. Один из двух столиков был занят, другой свободен. Молодой официант, наверное, был новеньким, в прежние немногочисленные посещения остерии Давиде его не видел. Все-таки он спросил о «синьоре Сантине». Молодой человек задумался, тем более, что в округе Сантину знали по насмешливому прозвищу, которое она получила из-за своих огромных ног. «А, Лапища», – вступил в разговор один из клиентов за первым столиком, – «ну та, августовская». «Об этом писали в газетах», – заметил другой клиент, искоса взглянув на Давиде. «А, это о ней!» – сказал официант. Медленно, в нескольких выразительных словах он рассказал Давиде о страшной смерти Сантины. В конце он провел ребром ладони по горлу, показывая жестом, как ей перерезали горло.
Узнав новость, Давиде не испытал никаких особенных чувств. Ему даже показалась, что он услышал о чем-то естественном и уже известном, что произошло ранее в его жизни, или о чем он прочел в книге, пробежав сначала ее последние страницы. Он выпил уже около полулитра вина. Машинально Давиде откусил кусок от булочки, которую заказал вместе с вином. Он казался совершенно безучастным; от усталости его ощущения так перепутались, что хотя поблизости не было растительности, он слышал то ли неумолчное стрекотание цикад, то ли писк насекомых. Грохот радио его раздражал, ему не терпелось выйти на улицу. Он спросил у присутствующих, не знают ли они о сдающейся поблизости комнате, она нужна прямо сейчас… Другие пожимали плечами, но молодой официант, подумав, сказал: «Сдают… там… у хромой… – помолчав, он уточнил: …где жила эта…» Он не хотел произносить имя Сантины. Предложение было высказано с колебаниями и сомнениями в голосе. Действительно, хотя в Риме трудно было найти жилье, особенно недорогое, мало кто захотел бы снять комнату, несущую на себе такую печать. Давиде вышел из остерии. Снаружи его встретило все то же затянутое облаками небо, все тот же обжигающий ветер, та же духота, да еще это бессмысленное стрекотание. Он побежал к бывшему жилищу Сантины, почти боясь, что тем временем и это последнее убежище исчезнет. На этот раз дверь была заперта, но мальчишки, болтавшиеся поблизости и следившие за Давиде с безразличием, окрашенным легким любопытством, пришли ему на помощь, позвав хозяйку. Это была все та же хромая женщина с ведрами, виденная им ранее. Давиде торопливо и с раздражением заплатил, получил ключи, заперся в своем новом жилище и рухнул на кровать. Знакомая ему комната, еще хранившая бедный запах Сантины, приняла его почти ласково, как родное гнездо. В комнате царил прохладный полумрак. Давиде не боялся привидений, он знал, что мертвые не откликаются, даже когда их зовут: бесполезно просить их появиться хотя бы под видом призраков, хотя бы в галлюцинациях.
Личные вещи Сантины, никем не затребованные, остались в наследство хозяйке дома, так что комната имела более или менее прежний вид. Кровать была та же, только покрашена в более темный цвет. Матрац был другой, как и одеяло – из жестких крученых ниток, с восточным орнаментом: такие обычно продают бродячие торговцы. У кровати вместо прежнего коврика лежал другой, еще более старый и изношенный. Столик, шкаф, кресло и изображения святых остались прежними, как и шторы: их недавно стирали, они стали почти бесцветными. Пятна крови на стенах были замазаны известью, на кресле их затерли, и они терялись на грязной обивке.
Вечером, когда жара немного спала, Давиде поехал забрать чемодан, оставленный в камере хранения вокзала Термини. Он послал также письмо Нино (как обычно, до востребования), в котором сообщал свой римский адрес и просил немедленно связаться с ним, как только тот вернется.