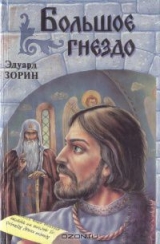
Текст книги " Большое гнездо"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
– Так всё ли уразумел? – спросил Всеволод сына.
– Всё, батюшка.
– Тогда ступай покуда и вели, чтобы кликнули Кузьму.
Ратьшич явился на зов:
– Звал, княже?
– Нет ли вестей каких из Новгорода? – спросил Всеволод.
– Нет, княже...
Ратьшич слышал уже о болезни князя, говорил тихо, боясь его потревожить.
– Не покойник в горнице, – нахмурился Всеволод. – Почто оробел?
– Дюже испугался я, княже.
– Под господом ходим, не по своей воле...
Кузьма сказал:
– Князь Рюрик доносит – ушел-де Роман в Польшу, ввязался в усобицу, ранен был...
«Наступил медведь на мозоль», – подумал Всеволод. Вспомнил князя Романа, каким знал его в детстве, – длиннорукого, с растерянным, наивным взглядом, стоящего рядом с отцом своим Мстиславом возле всхода в княжеский терем на Горе. Внизу, во прахе, угольях и золе, лежал поверженный Киев. Князь Андрей Боголюбский, сидя ка жеребце, нервно подергивал поводья... Не верил он тогда брату, а нынче Всеволод продолжает Андреем начатое.
Умен Роман, хоть и горяч, – многому жизнь его научила. И на западной окраине задумал он то же, что и Всеволод у себя на северо-востоке. Мечтает Роман соединить под собою волынский и галицкий стол. И если не помешать ему, то свершит задуманное. Владимир галицкий слаб, скоро отдаст богу душу, извели его пиры и бабы. Рюрик стареет. Подпадет Киев под Романа – одному Всеволоду с ним не справиться...
Не просты думы великого князя. Перед глазами его вся Русь. И Новгород никак нейдет из головы.
Вчера снова был у него Иоанн, сидел допоздна, склонял отречься от Ярослава, успокоить Боярский совет:
– Не упорством единым берут города...
А если бы то же самое сказал ему Микулица?.. Всеволод долго не мог уснуть, сомневался: «Не упрямство ли это?» Но уступать не хотел, раз начатое привык доводить до конца. Сердился на Иоанна. Вставал, пил квас. Ворочался с боку на бок. Утром задремал – проснулся от сильной боли в груди. Слабым голосом позвал Марию...
Вспомнив жену, Всеволод невесело улыбнулся: многое, многое стало проходить стороной. Вот и у Ратьшича забыл спросить про жену его Досаду.
– На сносях она, – засмущался Кузьма.
– Сына тебе, Кузьма.
– Спасибо на добром слове, княже...
Оставшись один, Всеволод прилег на лавку. Закрыл глаза. Притих. Слушал верещанье сверчка за стенкой и мерные удары сердца. Думал.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Кто не знает во Владимире каменных дел мастера Никитку, любимого ученика знаменитого Левонтия, поставившего на крутом клязьминском берегу церковь Успения Божьей матери?!
Пройдись по улицам, спроси любого встречного. «Никитка? – скажет встречный. – А погляди-ко на этот собор, украсивший детинец. Это и есть Никитка».
Загляни в мастерские бронников, лучников и злато кузнецов. «Никитка? – скажут бронники, лучники и златокузнецы. – Да кто же во Владимире не слыхал про Никитку?! Дивной резьбой украшены наши церкви. Это и есть Никитка!»
Войди в любой двор, в любую избу посада – и здесь расскажут о Никитке уважительно и с доброй улыбкой.
Много у Никитки друзей во Владимире и за его пределами, приезжали к нему зодчие из далеких стран – дивились его делам, разносили славу о владимирском камнесечце по всей земле...
Ехал к Никитке из Великого Новгорода в возке о трех лошадях известный мастер Авраам.
Наступали первые холода, ветры с Ополья несли ледяную крупу, подмерзшие лужицы похрустывали под колесами; словно исхлестанные плетьми, голые березки стыдливо жались друг к другу.
Возок мотало из стороны в сторону; накрывшись шубой, Авраам с тоской вглядывался в сгущающиеся сумерки: ни встречного на безлюдной дороге, ни огонька – поля, изрытые оврагами, речушки, хлипкие мосты, редкие перелески. Тишина.
Озябшая красная луна то ныряла в низко стелющиеся тучи, то сияла в черных разводьях отчужденно и таинственно.
Лошади поекивали селезенкой, широкая спина возницы покачивалась перед глазами Авраама из стороны в сторону. Час был поздний, пора было подумать и о ночлеге – до Владимира не близко, ночная дорога опасна, холод даже под шубой пронимает до костей.
– Стой! – крикнул Авраам, увидев блеснувший на пригорке огонек. Высунувшись из возка, замахал рукой.
– Тпр-ру-у! – остановил коней возница. Спрыгнул наземь, подковылял занемевшими ногами к возку.
– Видишь огонек? – сказал Авраам.
– Отчего ж не видеть? – отвечал возница, не оборачиваясь. – Места здешние мне ведомы...
– Ну так сворачивай, – нетерпеливо поторопил его Авраам.
Возница стоял нерешительно.
– Чего ж ты?..
– Не, туды я не сверну.
Авраам удивился:
– Почто?
– Не, – уперся возница, – и не проси, батюшка...
– Экой же ты чудной, – проворчал Авраам. – Аль на дороге нам ночевать?
– Хоть бы и на дороге, – отвечал возница. – Но только туды не сверну. Страшно.
– Чего ж страшно-то?
– Отродясь туды не сворачивал... Всего и слов-то: ведьмина россечь.
– Эко хватил куды, – сказал Авраам, почувствовав внезапную тревогу. Ему уж и самому расхотелось сворачивать. Но от рожденья был Авраам упрям и от сказанного не отступался. Однако замешкался, и молчанье его мужик расценил по-своему – неуклюже направился к лошадям.
– Погодь ты! – крикнул Авраам ему в спину.
– Ну чегой-то, батюшка? – неохотно вернулся возница.
– Будь то хоть ведьмина, хоть лешачья россечь, – сказал Авраам, – а зело продрог я, до косточек сиверком прохватило – невмоготу. Сворачивай!..
В иное время, может, и сбег бы от него мужик, да тут куда убежишь? Поскреб он в затылке, покачал головой, вздохнул и взобрался на коня. Возок дернуло, замотало еще сильнее, колеса загромыхали по смерзшимся комьям вспаханной земли.
Крупа перешла в снег, и скоро все вокруг сделалось белым-бело. Ветер бил им в лицо и срывал с возка меховую полсть.
«Вовремя свернули, – подумал Авраам. – В этакую-то снеговерть и с пути сбиться легко. Каково было бы добираться до города?..»
Кони стали. Мужик подошел к возку.
– Приехали, – сказал он.
Авраам выбрался на снег, поправил сползшую с плеча шубу. Огляделся.
Возок приткнулся боком к низкой изгороди; за нею виднелась осевшая набок избушка, на фоне светлого неба угадывалась корявая, словно сорванный с дерева, скрученный березовый лист, крыша. Из окошка просеивался свет.
Скрипнула на заржавленных петлях дверь. Возница перекрестился и попятился к возку.
– Эй, кто там? – спросил грубый женский голос.– Кого леший принес?..
Протаптывая сапогами дорожку в снегу, Авраам приблизился к двери.
– Я это, баушка, нечаянный путник, – сказал он, перешагивая вслед за старухой невысокий порожец. – Еду из Новгорода во Владимир, а на воле, сама видишь, какая стынь. Не пустишь ли переночевать?..
– Носит вас по миру. Разъездились, – сердито сказала старуха. – Проходи уж, коли вошел. Да только сам видишь, изба у меня мала – не хоромы.
Вдруг она зыркнула поверх Авраамова плеча и увидела возницу.
– А это еще кто с тобой?
– Мужик...
– Сама вижу, что не баба. Отколь взялся такой?
– Возница он. От самого Ростова везет меня... Смирной.
– Все вы смирные...
Мужик, шмыгая носом, смущенно постукивал лапотком о лапоток.
Авраам сел на зашатавшуюся под его грузным телом, кое-как сбитую из неструганых досок лавку, расстегнул на груди шубу, снял рукавицы.
– Дверь-то, дверь-то притвори, – заворчала старуха на замешкавшегося возницу. – Всю избу выстудишь...
Внутри было угарно и дымно, в очаге тлел умирающий огонь. На угольках стоял черный горнец и в нем что-то клокотало и булькало.
Сбросив меховой, дранный во многих местах кожушок, старуха достала с полки деревянную мису и поставила ее посреди стола. Охватив тряпицей горнец, вывалила в мису вместе с мутной водичкой подрумяненную, разваренную репу.
– Вечеряйте, страннички, чем бог послал, – сказала она и села бочком на перекидную скамью.
Авраам, глядя на стол исподлобья, велел мужику задать корма лошадям и принести холщовую дорожную суму. В суме у него был сукрой хлеба и несколько вяленых рыбин.
Все это Авраам вынул и разложил на столе. Достав из-за голенища ножик, нарезал хлеб и рыбу.
– Ешь, баушка, – сказал приветливо.
– Ишь, запасливый какой, – шамкнула сморщенным, как куриная гузка, ртом старуха.
– Ты на меня, баушка, не серчай, – сказал Авраам. – Человек я не шибко справный, да и путь позади не малый: потощала моя сума.
– Чего уж казниться-то, – махнула рукой старуха и потянулась к хлебу.
Все проголодались, ели жадно; бледное лицо хозяйки залоснилось от удовольствия, глаза повеселели. Авраам, скинув шубу, глядел добродушно. Один только возница неспокойно посматривал по сторонам.
Хозяйка заметила это, оторвалась от еды и обмахнула рот кончиком черного убрусца.
– Что глядишь, миленький? – сказала она мужику. – Уж не свататься ли вырядился? Приданое мое – два таракана в подполе да паучок-крестовичок за божницей. Аль мало за себя даю?..
Мужик поперхнулся куском и замахал руками. Старуха залилась смехом, отрывистым, как собачий лай.
– Ты, баушка, возницу мово не спугни, – строго сказал Авраам и постучал деревянной ложкой по столу.
– А чо пужать его, пужаного? – удивилась старуха. – Я его сразу заприметила, еще порога не переступил. Тутошний он, с того и пужливый... Да ты ешь, ешь, – успокоила она мужика. – Не нужон ты мне, хвост овечий. А хозяин твой находчив и умен. Кем будешь, пришлый?
– Зиждитель я. Авраамом меня зовут. А тебя как?
– Звали Любашей. А нынче не иначе как ведьмой кличут. И россечь, где изба моя стоит, прозвали ведьминой.
– Горемыка ты, а не ведьма, – покачал головой Авраам.
– Экой ты доброй человек. И глаза у тебя добрые...
– Не хвали, баушка, не то захвалишь, – смутился мастер. – Да как же ты одна-одинешенька на россечи оказалась? Кто избу тебе срубил?
– Про то долгий сказ, – промолвила хозяйка. – Да и нам не к спеху. Вся-то ночь, почитай, впереди...
И стала старуха сказывать свою жизнь. Покачиваясь на скамье, говорила глухо, задумавшись, замолкала надолго – и снова лилась ее неторопливая речь.
Эх, Любаша, Любаша – золотая коса!.. Поверит ли кто нынче, что была она первой девкой в Заборье? А певуньей, а плясуньей какой!.. И любила она не кого-нибудь, а первого Всеволодова дружинника, лихого и смелого Давыдку. Да выдал ее боярин Захария замуж за старосту своего Аверкия, слюнявого и подлого мужика...
Не откликнулся на Любашин зов Давыдка, оглох он от корысти, взял в жены боярскую дочь Евпраксию и погиб, добиваясь еще большей чести. А Захария велел за великую дерзость сурово казнить Любашу, но бежала она из Заборья – спасибо, спрятал у себя, помог ей скрыться от боярских холуев кузнец Мокей. Да вот беда – сам сложил гордую головушку от меча Захариева прихвостня Склира...
– Слухами земля полнится, – сказал возница, с удивлением разглядывая старуху. – Я ведь тоже заборский. Сказывала мне мамка про Любашу. Неужто ты та самая и есть?
– Не узнать меня нынче, соколик, – прошамкала старуха.
– Где уж узнать. От красоты твоей былой и малого следа не осталось...
– Помыкала я горюшка. Добрым людям спасибо – не дали с голоду помереть. А и злых людей немало повидала я на своем веку. Кожа моя задубела, сердце сделалось каменным...
– Да как же ты сызнова здесь оказалась?
– А так и оказалась. Прослышала я, что убил Всеволод Давыдку, – вот и возвернулась хоть глазком единым взглянуть на его могилу. Шибко осерчал на него князь, не велел хоронить во Владимире... Положила его Евпраксия во сыру землю в своем Заборье, а сама ушла в монастырь. Отыскала я могилку. Буйной травой заросла она и репейником. И не верилось, что лежит под нею ясный мой сокол.
– О Давыдке тож мамка мне сказывала, – снова прервал ее возница,– Не любят у нас Давыдку и слышать про него не хотят...
– Ох, миленький. Да что мамка сказывала! Сама я через него всю жизнь свою загубила...
Глаза старухи наполнились слезами. Авраам строго поглядел на возницу, ласково проговорил:
– Ты дале-то сказывай, баушка. Что дале-то было?
– А ничего и не было. Встренулся мне во Владимире один холоп, тож беглый. Сошлись мы с ним, две неприкаянные души, туды-сюды сунулись – нигде житья нет. Вот и перебрались на енту самую россечь. Избу мужик срубил, золотые были у него руки. Да недолго вместе прожили: задрал его, сердечного, медведь в уреме... Так и живу я одна сколь уж лет. Захариевы-то деревни и Заборье вместе с ними, сказывают, Кузьме Ратьшичу князь наш отказал. Про меня все и забыли...
Не спалось Аврааму в ту ночь, покряхтывал он, ворочался, лежа на шубе возле печи. Ворошил в памяти прошлое, задыхался, прикладывая руку к груди...
Вспоминал, как ехал по деревням, как униженно кланялись ему смерды, снимая шапки, как заглядывали в лицо исполненными тоски глазами. Чем богаче Русь, тем беднее... Вспоминал бойкие новгородские торговища, сваленные в груды шелка и парчу, дорогие меха и кожи – несметные сокровища проходят через руки простых людей, а где они?.. Утекают сокровища в заморские страны, скудеют леса и нивы, и все дальше на север, к самому Дышучему морю, идут купцы, везут на торговища белую моржовую кость, соболей и лисиц. И вслед за купцами ставят на новых землях бояре свои знамена...
С укором вопрошал себя старый зиждитель: а сам ты, Авраам, сколь раз прохаживался сыромятной плеточкой по спинам изнуренных мужиков! Сколь раз впадал ты во гнев, когда, согнутые под тяжестью каменных глыб, едва поднимали их на стены храмов ослабевшие люди. Заглянул ли ты, Авраам, хоть раз в землянки, где жили смерды, отведал ли хоть раз их жидкого хлёбова?..
Растормошил зиждитель сморенного крепким сном возницу, велел немедля запрягать лошадей. Со старухой простился коротко, пряча глаза, благодарил за хлеб-соль...
Еще до света возок умчал его во Владимир. А на пути ко Владимиру лежал в первых, нетронутых снегах белокаменный Суздаль.
2
– Никак, беда какая приключилась, – сказал возница, остановившись у городских ворот и приблизившись к возку, в котором подремывал Авраам. – Нынче Суждаля не узнать...
Разлепив тяжелые ото сна веки, Авраам повертел головой: Суздаль как Суздаль, на месте городницы, вежи высятся по сторонам от ворот, над соборными крестами кружится воронье.
– Пригрезилось тебе все, – недовольно проворчал Авраам. – Трогай!
– Да куды ж трогать-то? Погляди, батюшка, народу-то сколь в воротах. Мужики хмуры, бабы в слезах – не пробьешься...
– Эй ты! – позвал Авраам оказавшегося возле возка посадского. – Почто народ в слезах, почто в воротах толпа?
Посадский поглядел на него удивленно.
– Да ты отколь такой взялся, что ни о чем не ведаешь?..
– Издалече я. Из Новгорода, – отвечал Авраам.
– Оно и видать, что из Новгорода...
– Про дело сказывай. Мор не то в городе?
– Отдал богу душу монах наш Чурила. Оттого и скорбит народ.
– Отродясь такого не видывал, – проговорил Авраам, – чтобы по чернецу убивались люди.
– Экой ты неразумный какой, – рассердился посадский.– Да кто ж не знает Чурилы?!
– Игумен, что ль?
– Сказывают тебе – чернец.
Посадский окатил зиждителя укоризненным взглядом, провел кулаком по глазам и исчез в толпе.
Авраам, вконец озадаченный, вышел из возка.
– Чего встал? А ну, съезжай с дороги! – завопил на возницу невесть откуда вынырнувший конный дружинник. – Кому сказано?..
Перегнувшись, поймал Авраамовых коней за уздцы. Кони попятились, возок качнулся и накренился надо рвом.
– Стой! Стой! – закричал возница. Дружинник оскалил зубы и, коротко взмахнув плетью, прочертил по лицу его белый рубец, тут же наполнившийся алой кровью.
Толпа поглотила Авраама. Сжатый со всех сторон, он то придвигался вместе со всеми к воротам, то откатывался к мосту. Облепившие валы и вежи ребятишки закричали:
– Несут! Несут!..
В воротах показался и тут же исчез за спинами людей высокий гроб. За гробом шли монахи и, широко разевая рты, пели псалмы.
Охваченный всеобщей скорбью, Авраам кланялся вместе со всеми и крестил лоб.
– Праведный был старец, – шептались вокруг.
– Бездомных и сирот привечал...
– За обиженных заступался...
– Шибко грамоте обучен был. Ослеп он...
– Сказывают, книг вынесли из его кельи видимо-невидимо.
– Сам князь приезжал, те книги смотрел и велел свезти во Владимир.
– Князь и нынче здесь... Ишшо вчерась прискакал с дружиною.
– Да вона он, вон!
– Кто?.. Где?..
– Князь... Князь... – поползло в толпе.
Всеволод, понуря голову, следовал за гробом рядом с игуменом. Позади него, смешавшись с монахами, шли дружинники ...
Похоронное шествие, миновав ворота, свернуло на тропинку, ведущую к погосту. Люди двинулись следом. Голоса распевавших псалмы монахов удалялись, мешаясь с шумом толпы.
Авраам пробрался к возку, забился под полсть, затих. Всю дорогу до Владимира ехал, открыв глаза, но ничего не видя вокруг себя. В ушах его звучали еще только что слышанные псалмы, но внутренним взором своим он обратился уже к другому печальному шествию, когда хоронили в Новгороде воинов, павших в битве за шведский город Сигтуну.
Так же толпился на улицах народ, так же крестились и плакали мужики и бабы, за гробом шел владыка в скорбном облачении, а рядом с ним – посадник, молчаливый и нахохленный, как сыч, – в черной однорядке и с непокрытой головой...
Еще раньше, по весне, на этих же улицах царило радостное оживление, на Волхове, неподалеку от Великого моста, стояли насады и струги, отплывавшие вскоре в Нево-озеро, а оттуда – в Варяжское море.
Шведское войско, внезапно появившись на северном порубежье, предало огню многие деревни и села, разрушило монастыри и, захватив большую добычу, растворилось в тумане...
В Упсале праздновали победу, а в Новгороде, стиснув зубы, корабельных дел мастера рубили лодии, устилая берега Волхова золотистой сосновой щепой.
Много дней и ночей плыли насады и струги по Варяжскому морю, много дней и ночей трепали их напористые ветры, ломали мачты, рвали паруса.
В столь далекие морские походы новгородцы не ходили уже давно. Но они искали мести и, привязавшись к мачтам, жадно оглядывали пустынный горизонт.
Авраам тоже был среди них. Шведы убили у него мать и сестру.
Ни владыка, ни посадник не отпускали мастера, стоял недостроенный собор, но Авраам был непреклонен.
– Собор дострою, когда вернусь, – сказал он.
«Собор достроят другие», – подумал Авраам, отправляясь в путь. Смерть на дальних, берегах была ему не страшна.
Лучшие бронники сделали для Авраама кольчугу, лучшие кузнецы сковали ему меч, лучшие кожемяки выделали сафьян, чтобы усмошвецы сшили ему лучшие в Новгороде сапоги.
Был мастер Авраам знаменитым человеком. Провожали его в поход и Людинский, и Неревский, и Загородский, и Словенский, и Плотницкий концы – много было у Авраама в городе друзей и сподвижников...
Шли насады и струги по Варяжскому морю, кормчие правили их к шведским берегам. Бывалые были кормчие, набирали их у русских и немецких купцов, давали много золота, сулили большую добычу.
Пробирались насады и струги в ночной тишине у скалистых чужих берегов, высаживались вои на серые камни, неслышно карабкались по острым уступам, босые, скинув сапоги, без лишней одежды – в белых рубахах.
Словно выходцы с другого света, выросли они под стенами беззаботно веселящейся Сигтуны. Не успели закрыть перед ними ворота, не успели выставить на стены метких лучников...
Славно попировали новгородцы на шведской земле. Пусть поплачут и недруги, чтобы впредь неповадно им было опустошать русские берега!..
Уходили новгородцы из Сигтуны – увозили с собою много добра, щедро расплачивались с искусными кормчими.
И вез Авраам на своем струге врата от Сигтунского храма: то-то повеселит он новгородцев! Поставит он эти врата на святую Софию – и не для того только, чтобы радовать глаз, но и напоминать пришельцам с чужой земли о сожженной Сигтуне.
– Хвала тебе, мастер! – сказал, встречая его, растроганный владыка. – Бесценен твой дар Великому Новгороду.
– Хвала тебе, мастер! – сказали благодарные люди.
И поставил Авраам на святую Софию привезенные, с чужбины врата. Строители их, магдебургские мастера Риквин и Вайсмут, для шведского короля из бронзы отливали створы, украшали затейливой резьбой, а в центре нижней части створа изобразил Авраам себя самого с клещами и молотом в руках и под латинскими буквами сделал надписи на русском языке... Приходили новгородцы любоваться вратами, радовались, как дети...
...Далеко отнесли Авраама мысли от разбитой дороги – ветер колол ему лицо острыми снежинками; по левую руку дымилась Нерль, а по правую высунулись из-за пригорка заметанные сугробами стены детинца. Только тут очнулся Авраам, дрожащей рукой откинул полсть, закричал вознице, чтобы поворачивал коней в объезд Боголюбова.
Не терпелось ему взглянуть на дивную церковь Покрова, коснуться ладонью шершавого камня, помянуть поставившего ее Левонтия...
Возок накренился, осторожно скатился в ложбину.
– Ы-ых, вы-и! – замотал возница кнутом. Лошади боком вынесли на отлогий пригорок.
Из кучерявых облаков выглянуло солнце, зажгло брошенным в пойму прямым лучом ранние снега...
3
Тем же вечером сидел Авраам в избе у Никитки, утомленный баней, пил квас и слушал хозяина.
– Порадовал ты меня, Авраам, – говорил Никитка.– Оказал большую честь. Зело наслышан я о твоем мастерстве – разносят молву, о нем по земле странники...
– И меня привела во Владимир молва, – отвечал Авраам.– И так подумал я: живем мы в разных концах Руси, а творим единое. И вяжет нас воедино не токмо язык. Не токмо вера. Едиными помыслами связаны мы от Дышучего до Русского моря, от Волги и до Горбов. Те же песни поет мамка детям своим в Рязани и в Галиче, во Владимире и Новгороде. И святая София наша так же внятна русскому сердцу, как и София киевская, и собор Успения божьей матери, и Ильинская церковь в Чернигове...
– Все, что сказываешь ты, все верно, Авраам. Но шибко чего-то боюсь я. Баловала меня жизнь – про то ты ведаешь. Все задуманное мною легло либо в дерево, либо в камень. А нынче стою над Клязьмой, слушаю глас толпы, смотрю на божьи храмы – и гложет меня сомненье: дале-то куды?.. Ну, сложу еще церковь о пяти главах, и еще... Воздвигну собор, каких не бывало на Руси, – а дале-то?..
Авраам удивился:
– На то ты и мастер, а другому дело твое не по плечу. О чем скорбишь – того не разумею. Обласкан ты Всеволодом, у народа в чести...
– Связаны руки у меня, ноги в железах – не двинуться...
– Ноша у нас нелегка, – согласился Авраам.
– Не про то я, – сказал Никитка. – Разгневался, слышь-ко, епископ наш Иоанн, как привел его Всеволод во Дмитриевский собор...
– Глядел и я, дивился: зело вольна твоя церковь, зело вольна...
– Иоанн-то так же сказывал: «Испоганил ты, – говорит мне, – ликами безбожными святой храм. Не молиться в нем, а водить хороводы. Миряне пальцами в стены тычут, скалят зубы. Почто богохульствуешь?»
– И Всеволод за тебя не вступился? – насторожился Авраам.
– Вступился, но тих стал и задумчив. И новые хоромы каменные ставить на своем дворе мне не повелел.
– Могуч Софийский собор. И в том искусство великого мастера, – помолчав, заговорил Авраам, – смотришь издали – и чудится, будто вытесан собор из единой глыбы. В землю крепко врос, шеломами подпирает небо – не сдвинешь. Гордится своей Софией новгородец, трепещет недруг... Но народ наш не токмо воитель – душа в нем живая, открытая земной красоте. Ее-то и вижу я в твоих храмах, Никитка. Легки они и праздничны, как светлый утренник. Не печалуйся – ишшо призовет тебя Всеволод. Да разве доверится он мастерам от угров иль немцев?! Сгонят пастыри народ на молитву, но соединить христово стадо будет им не по плечу. Чужим не проникнется мужик, а ежели и поклонится, то только для виду. Вернется в капища, в родные леса и болота – там ему к богу ближе, а вокруг все свое... У собора твоего, Никитка, мужик не на чужбине, а в знакомом лесу. Оттого и верит... Любит он свою землю, ляжет за нее костьми, нищим пойдет с сумою, а – не предаст. Всё это прочел я на твоих храмах, Никитка, – не печалуйся.
Хорошо говорить Никитке с Авраамом, хорошо сидеть за чистым столом, попивать квасок, а то и отвлечься от беседы, поглядеть на жену свою Аленку, уютно пристроившуюся в уголке возле печки с прялкой. Ловкие руки у Аленки, бежит волнистая пряжа из-под ее пальцев, как быстрый ручеек.
Годы прошли, а всё не стареет ее красота. Не в силах избыть ее ни седеющие волосы, ни мелкие морщинки в уголках таких же, как и прежде, улыбчивых и добрых глаз.
Маркуха уехал от них с дружиной каменщиков в Юрьев, редко подает о себе вести – одной Аленке скучно: хозяйство у них не ахти какое, хоромы тоже не как у князя. Управившись до полудня, садилась Аленка за кросенный стан или за прялку. Иногда приходили соседки, сказки сказывали или пели песни.
Иногда, потолкавшись на торговище, приносили всякие новости:
– У попа Овечки поросенок в Клязьме утонул...
– Сказывают, княгинюшка наша опять же балует игуменью Досифею – поднесла ей икону в золотом окладе и с каменьями. Сама наезжала в монастырь с сынами. Меньшой-то у князя ши-иб-ко хорошенький, а Констянтин вымазал боярину Однооку ворота дегтем. Почто бы это?..
– Про Звездана слухи дошли, будто он в Новгороде со Словишей...
– Слышь-ко, Оленка, что баба Агапья сказывала: лучше нет для росту волос, как отвар из ивовой коры и дедовника. Косища-то у нее в руку – средство верное...
– Ты Омелицу-то помнишь ли? Так она зубами завсегда маялась, сердешная. Нонче как рукой сняло. Заговор, говорит, дала ей убогая старушка. Хошь скажу? Перво-наперво возьми березову почку и над нею чти: «Первым разом, добрым часом, зубная скорбь, уймись, больше на зуб не ломись! Как этим сучьям на корнях не стоять, отроков не пущать и ветками не махать, так зубам не гнить, болезнь в себе не водить. Заговор мой крепкий по сей день, по сей час, на веки веков...» А после почку-то в воду окуни – и на зуб. Враз заживет!..
Скучно Алёнке, не с кем душу отвести – сынок всё больше с отцом да с отцом. Вот и ныне собирается с камнесечцами. У Никитки для него отказа никогда нет.
– Тебя как зовут? – спросил Авраам паренька.
– Улыбой, – серьезно отвечал он.
– А почто с матерью не сидишь?
– Баба она...
– А ты мужик?
– Ага, – живо кивал Улыба. – Возьми меня, дядька, заутра с собой.
– Ты у батьки спроси.
– Батька, возьмешь меня с собой? – спрашивал Улыба, весело скаля зубы.
– Куды уж без тебя! – махал Никитка рукой.
Улыбе уже двенадцать минуло. Это для мамки он малец, а Никитка разговаривает с сыном серьезно. Маркуха был не свой, но и того вывел он в мастера. Улыба оказался тоже смышленым. Не боясь высоты, карабкался он вслед за отцом по лесам, работал топором и тесалом, умел замешать раствор и пригнать на растворе камень. С виду хрупкий, Улыба был силен и вынослив. К материной юбке не жался, не хныкал и стойко сносил затрещины отца. «Корень учения горек, да плод его сладок», – приговаривал Никитка. Ему, чать, и самому перепадало от Левонтия...
На старом княжом дворе у Золотых ворот подновляли обветшавшую церковь. Сюда и привел Авраама Никитка.
Мужики, приметив мастера, живее застучали зубилами. Когда он подходил, вставали, снимали шапки, кланялись.
Улыба юркнул за кучу строительной трухи, которой забивали пустые полости стен, взбежал по жиденбхим мосткам на леса, и скоро синий кожушок его замелькал возле самого купола, где, привязавшись веревками к кресту, работали позолотчики...
Людей из своей дружины Никитка знал всех в лицо, подходил к ним, заговаривал, иногда сам брал в руки тесало – показывал, как следует срезать камень.
Двор был весь заезжен подводами, в лужах валялись обрезки железа, в воздухе висела мелкая известковая пыль...
Под сводами церкви было сумрачно и пусто, как в бочке. Из прорезей в барабане, как в щели, цедился скупой свет. Никитка оглядел стены и остался доволен: мужики потрудились на славу. Пройдет еще совсем немного дней, и придут сюда богомазы, а к весне церковь будет не узнать – украсят её росписи и позолота, засияет алтарь, затеплятся пред иконами лампадки и свечи...
Узнав о приезде Авраама, другим вечером в гости к Никитке нежданно-негаданно наведался кузнец Морхиня. Хоть был он и чист, и в белой рубахе, но едва только переступил порог, как повеяло в избе крепким запахом горелого железа. Бедовые глаза Морхини быстро ощупали гостя.
Авраам понравился ему – человек простой, бывалый, сидит спокойно, натруженные руки положил на столешницу, улыбается открыто, в глазах – любопытство.
– Входи, не топчись у порога, – пригласил Никитка.
Морхиня улыбнулся и сел на лавку. Вошла Аленка, молча поставила на стол корчагу с медом, так же тихо удалилась. На печи ворочался Улыба.
– Вчерась встретил на исаде купца из Новгорода, – сказал Морхиня. – Узнал от него, будто пришел в город игумен Ефросим, добивался Мартирия, бунт был велик. Тако ли?..
– Тако, – ответил Авраам.
Посоловев от выпитого меда, Морхиня рассматривал гостя в упор.
– Сказывают, будто в обиде Ефросим, что не его избрали владыкой...
Авраам почесал пятерней бороду, взглянул на кузнеца косо:
– Кто сказывал?
– Пришлые из Новгорода...
– Купцы?
– А кто же еще.
Авраам обмолвился:
– А про то не сказывали, что наведываются к Ефросиму в святую обитель Иоанновы послы ежедень?
– Про то не сказывали. А вот слыхал я, будто снарядил Мартирий своих людишек к Роману на Волынь...
– На то он и владыко. Ему дале видать...
– А людишек тех схватили и ко Всеволоду отвезли... Во дворе-то у Нездинича – крепкий князев надзор. Почто сносится владыко с Романом?..
– Новгород – моя отчина, кузнец. Да тебе-то что? Почто меня пытаешь? В Боярский совет я не вхож.
Морхиня удовлетворенно покашлял в кулак. Въедливый был он мужик. Кузня его – первая, если ехать в слободу от Золотых ворот. Кто ни появится, завернет к нему: одному коня подковать, другому обода на колеса новые наклепать, а иному просто водицы испить. О разном болтают люди, пока он занят работой. В кузне у него тепло, жаркий огонь трепещет в горне. А крепкий мед развязывает языки.
Но пытать и дале Авраама Морхиня не стал. Повернувшись к Никитке, вдруг весело спросил:
– Ты Веселицу-то знал, поди?
– Как же...
– Объявился в городе...
– Свят-свят, – перекрестиля Никитка. – Это как же его с того света занесло?
– Жив и здоровехонек. Вчерась в кузню заходил, грозился: пойду ко князю с жалобой на Одноока.
– Неймется ему...
– Обобрал его Одноок, а еще и бил до смерти. Возьмет с Одноока князь виру.
– С Одноока возьмешь...
Морхиня тоже усумнился:
– Про то и я сказывал.
– А он что?
– Всё едино, говорит. А Однооку я обид своих не спущу...
– Худо кончит Веселица.
– Да хуже-то куды?!
Авраам слушал их с охотой. Кузнец все больше нравился камнесечцу.
Когда Морхиня ушел, с печки подал голос Улыба:
– Бать, а бать...
– Не спишь?
– А я тож Веселицу видал. Тощой он и страшный. Глазищи как плошки. Ребятишки в него камни бросали...
– Не твое это дело, – недовольно сказал Никитка. – Мал ты еще...







