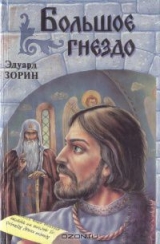
Текст книги " Большое гнездо"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц)
Возниц ждал в городе отдых после утомительной и опасной дороги, а купцов – богатое и бойкое торговище...
– Гей-гей-гей! – раздались властные крики.
Засуетились вынырнувшие из ворот воины; расталкивая людей, очистили дорогу, возы сгрудились возле моста, перекинутого через наполненный водою глубокий ров.
– Князь... Князь... – полетело над толпой тихо, словно дуновение легкого ветерка.
Князь Владимир Ярославич на трепетном арабском скакуне, подаренном ему владетелем далекого Трапезунда, в небрежно перекинутом через правое плечо алом корзне, схваченном на груди большою запоною, скакал впереди чуть поотставшей дружины – прямой и гордый. Но ни насупленные выгоревшие брови, ни спадающие по краям губ густые усы не могли скрыть играющую на его лице довольную улыбку.
Неделю тому назад, выезжая с княгиней в Холм, он еще был полон тревожных раздумий, щеки его были бледны, и под глазами лежали синие полукружия от бессонной ночи, проведенной в разговорах с ближними боярами.
Прибывший из Волыни преданный человек доносил, что давний враг его и соперник на галичском столе Роман Мстиславич, поссорившись с великим киевским князем, отправился в Польшу за помощью, грозясь вернуться с большим войском. Победа Романа неизменно несла Галичу новые бедствия.
Было время, о котором и вспомнить страшно, – уже садился однажды расторопный Роман на галицкий стол.
Случилось это не так уж и давно – в памяти людской беды той поныне не смыло.
Умирая, сказал отец Владимиров, Ярослав, роковые слова:
– Отцы, братья и сыновья! Вот я отхожу от этого света суетного и иду к творцу моему. Согрешил я больше всех. Но одною своею худою головою удержал я галицкую землю, а вот теперь повелеваю свою землю Олегу, меньшому сыну моему, отдать, а старшему, Владимиру, даю Перемышль.
Великую несправедливость совершил Ярослав, а о том не подумал, что не станет Владимир покорно ходить по Олеговой воле. Был Олег сыном безродной Настасьи, а в жилах старшего сына текла кровь сестры владимирского могучего князя Андрея Боголюбского Ольги.
Подстрекала его на княжение мать, и бояре, убившие во гневе Настасью, тоже не хотели Олега, страшась его мести. И еще не остыло тело Ярослава, еще не свезли его в собор для отпевания, еще в ушах звучало его последнее завещание, как, собравшись все вместе, изгнали они Олега и посадили Владимира на княжеский стол.
Думали, хорошего нашли себе князя, теперь заживут спокойно и без забот. Ан просчитались бояре!.. Не стал княжить по их наущенью Владимир, иную готовил себе судьбу. И назло самодовольным боярам стал насмехаться над ними, а иных притеснять. Дни и ночи пиры пировал, боярских дочерей приводил к себе в ложницу для ночных потех, отнял у попа Онофрия красавицу жену, поселил ее у себя во дворце и велел воздавать ей почести, как княгине.
И тогда возмутились бояре и стали тайно пересылаться с волынским князем Романом, дочь которого была за Владимировым старшим сыном. С боярами-то Владимир справился бы, да неспокойный попался родич. Страстно желая галицкого стола, подучил Роман бояр, как им освободиться от своего князя. И дьявол в аду такого бы не выдумал.
Пришли бояре к Владимиру и сказали, ему так:
– Княже! Мы не на тебя встали, но не хотим кланяться попадье, хотим ее убить. И ты, где хочешь, там и возьми жену...
Не простая это была угроза, протрезвел Владимир. Вспомнил, как жестоко сожгли бояре на костре отцову полюбовницу Настасью, – забрал много золота и серебра, попадью, двоих сыновей и тайно отъехал с дружиною к венгерскому королю Беле.
А в Галиче, ликуя по случаю легко одержанной победы, сел на стол Роман Мстиславич.
Только верно в народе сказывают: кто лукавит, того черт задавит. Отъезжая в Галич, отдал Роман Волынь брату своему, думая: навсегда сбежал к уграм Владимир и обратно пути ему нет.
Тут-то и пришла на землю русскую великая беда. Недаром, чтобы утвердиться в Эстергоме, отправил Бела брата своего Стефана на тот свет при помощи яда, подсыпанного в кубок одним пронырливым монахом-иезуитом (монаха того Бела потом вздернул на городской стене, чтобы все видели, как ценит он родственные чувства). Принял он бежавшего из Галича неудачливого князя ласково, винами поил и девками баловал, а после собрал войско, поставил во главе его сына своего Андрея и двинулся на Галич, сжигая, насильничая и грабя на всем своем пути. Перевалив через Горбы трупами стариков, женщин и детей устлал Бела дорогу к Днестру. Изгнал Романа, сына своего посадил на галичский стол, а Владимира, отняв у него золото и серебро, запрятал под запоры в высокую башню.
Побежал Роман обратно на Волынь, да не тут-то было. Укрылся брат его за крепкими стенами и в город не впустил.
– Ступай, откуда прибыл, – велел он сказать ему.
Но в Галиче хозяйничали угры, и, отправив жену свою в Овруч, где в это время находился тесть его Рюрик Ростиславич, поехал он за помощью в Польшу. Однако там было не до Романа – самих извела смута. Тогда вернулся Роман на Русь и стал просить Рюрика дать ему войско, чтобы сразиться с уграми за Галич.
Поддержал его и митрополит.
– Сквернят нечистые православную землю, – уговаривал он Рюрика.
Согласился князь, дал Роману войско, и Роман осадил порубежный город Плесненск, но войти в него так и не смог: разбили его угры.
Тогда во второй раз отправился он в Польшу, и Казимир, уладив свои дела, на этот раз помог Роману. Да и Рюрик за него вступился. Прогнали строптивого братца. Сел Роман снова на волынском княжении, однако мечты своей о возвращении Галича не оставил и ждал только удобного случая...
В ту самую пору бежал Владимир из венгерской неволи в немецкую землю к Фридриху Барбароссе, который, узнав, что по матери приходится он родным племянником Всеволоду, отправил его в Польшу к Казимиру.
Великое чудо явилось ему в те дни: куда б ни прибыл он, имя Всеволода повсюду открывало ему двери – далеко разошлась по миру молва о могуществе владимирского князя.
Так подошел он с польским войском к Галичу, и жители города с ликованием распахнули перед ним ворота – немало бед натерпелись они от жестоких угров. Прогнали Андрея, сына короля Белы, и снова посадили Владимира на отцов стол.
И первое, что сделал он, это отправил послов ко Всеволоду, прося его поддержки и защиты.
«Отец и господин! – взывала грамота. – Удержи Галич подо мною, а я божий и твой со всем Галичем и в твоей воле всегда».
Тогда обратился Всеволод ко всем князьям русским и в Польшу и взял со всех клятву не искать Галича под его племянником. Никто не посмел его ослушаться.
Прошло шесть лет. Много воды унес полноводный
Днестр в Русское море. Затаился озлобленный Бела за Горбами. Буйные ветры бушевали в половецких степях. Не залетали в Галич каленые стрелы, расстраивались посады, расцветала торговля.
Но нет-нет да и доносились с Волыни беспокоившие Владимира вести: распростер Роман над Галичем свои ястребиные крылья; сдерживала его одна лишь клятва, данная Всеволоду. А когда прослышал галицкий князь о ссоре Романа с Рюриком, стало ему опять неуютно и знобко. Было с чего встревожиться: стоял за спиною Рюрика направлявший руку его Всеволод, а не испугался Роман, показал и ему волчьи свои клыки...
Так посчитается ли он с Галичем? Удержат ли его Всеволодовы крестные грамоты?... Ежели помогут Роману поляки, а Рюрик уступит Торческ, то не потянет ли снова волынского неспокойного князя по старому, испытанному следу?..
И вот теперь наступило облегчение. Слава тебе господи,– обломали волку клыки – нечем ему рвать добычу. Проучил Мечислав Романа – в другой раз будет осмотрительнее. Вона как всё повернулось: не до Галича ему теперь – самому удержаться бы на Волыни.
Привычная жизнь текла своим чередом. Теплое солнышко баловало галичан. На улицах пахло житом и яблоками. В избах пекли душистые хлебы, в бочках бродило молодое вино. С Днестра несли в изобилии плетеные корзины с рыбой и раками. Во дворах забивали бычков, на вертелах шипело мясо, роняло в огонь янтарные капли жира.
В шуме и повсеместной веселой суете проходили осенние праздники. На торговище бойкие купцы разворачивали перед изумленными покупателями куски ярких тканей, наперебой предлагали медные, начищенные до ослепительного блеска котлы, тут и там высились желтые круги воска, мед расходился в бочонках, зерно в мешках, соль в рогожных кулях. Радовали глаз развешенные на шестах беличьи, бобровые и лисьи меха, завораживали взгляд изделия из золота и драгоценных камней: кольца, браслеты, колты, подвески.
Принаряжались в обновки черноглазые галичанки, звонким смехом заманивали парней.
Казалось, со всей русской необъятной земли съехались в ту осень в Галич гусляры и скоморохи – веселили честной народ, сами радовались тишине и покою...
Мечи и кольчуги не находили покупателей. Стрелы безмолвно покоились в тулах.
Кузнецы ковали орала...
2
В тот самый день, когда Роман получил известие от Рюрика из Киева, в венгерском городе Эстергоме король Бела принимал только что прибывшего из Рима папского нунция.
Святейший двор, обеспокоенный усиливающимся влиянием Византии, требовал от короля гарантий для римской католической церкви.
Бела слушал нунция рассеянно, то и дело перебивал его высокопарную речь вопросами, интересовался здоровьем папы Иннокентия, шутил и кончил тем, что отложил серьезный разговор до следующего раза.
– Надеюсь, вам понравилась моя столица? – вежливо осведомился он у смущенного его бесцеремонностью нунция. И встал, не ожидая ответа.
Нунций поклонился королю и вышел.
Тотчас же, открыв боковую дверь, Бела хлопнул в ладоши, и на зов его, словно из-под земли, вырос высокий бородатый воин с рассеченным во многих местах лиловыми шрамами лицом.
– Сдается мне, что эта лиса привезла с собою не только папскую буллу, – сказал в задумчивости Бела. – Нет ли у него для нас подарка и от венецианского дожа?
– Будет исполнено, – почтительно поклонился воин и исчез так же внезапно, как и появился.
Король знал, что теперь каждый шаг нунция будет под неусыпным контролем его людей. А для самых худших подозрений у него были все основания: Венеция, уже несколько лет ведущая с Венгрией затяжную войну за Адриатическое побережье, стремилась разорвать союз Белы с византийским императором Мануилом.
Король был подозрителен. Сам жестокий и коварный, он ждал предательства и не доверял приближенным. Яд, бывший в его руках верным оружием в борьбе за власть, мог стать таким же сильным и надежным средством в руках его противников.
Дворец короля в Эстергоме походил на военный лагерь: во дворе день и ночь толпились вооруженные воины,
каждый час сменялась стража; еду, которую подавали Беле, предварительно пробовал на его глазах привезенный из Коложвара немецкий повар, лечил его глухонемой лекарь из Валахии.
Кому-кому, а Беле было известно, что не только старший брат Стефан пал жертвой его коварства.
Когда сидел сын Белы Андрей в Галиче, то не все покорно склонили свою голову перед венграми. Простые галичане, купцы и ремесленники обратились за помощью к князю Ростиславу Ивановичу, который жил в это время в Смоленске у Давыда.
Услышав от своих воевод, что Ростислав захватил два пограничных города, что повсюду встречают его дарами и восторженными криками, как своего освободителя, Андрей струсил и собрался бежать из Галича. И как знать, не томился ли бы он сейчас в плену у русских, если бы отец его не предупредил бояр, что срубит головы заложникам, взятым в Венгрию, – боярским женам, матерям и детям.
Изменили бояре Ростиславу, отдали его дружину на растерзание венгерскому войску. Сам князь, тяжело раненный в битве, был доставлен в Галич. Но опасный противник Белы был еще жив, галичане волновались, и тогда, прислав к нему своего лекаря, тайно повелел король вместо целебных настоев прикладывать к ранам его яд...
Скончался Ростислав в страшных мучениях, растаял, как восковая свеча, на глазах у изумленных галичан.
...За толстыми стенами дворца в Эстергоме, сложенными из грубо отесанного известняка, всегда было сыро и холодно, как в крысиной норе.
Бела сидел в задумчивости, глядя перед собой в пространство пустыми, отрешенными глазами.
Вот уже почти двадцать лет находился он в этом добровольном заключении, двадцать лет страдал от истерических приступов страха, ночами бродил, босой, по гулким коридорам дворца, пугая своим внезапным появлением суеверных стражей. И почти каждый день приводила его непонятная сила к порогу опочивальни, в которой скончался брат...
Страдая мнительностью, Бела с каждым днем становился все мрачнее и нелюдимее. Даже старшего сына своего Емериха, заподозрив в связях с венецианцами, он отправил в Болгарию, в бессрочное изгнание.
Одна любовь у него осталась, единственная надежда – младший сын, выпивоха и бабник, беспутный Андрей.
Сейчас он, бежав из Галича, снова оказался на шее Белы в Эстергоме, и отзвуки его веселых оргий долетали до королевского дворца. Но король, сам воздержанный во всем, что касалось еды, питья и женщин, ни в чем не препятствовал сыну и относился к его похождениям снисходительно.
– Молодое вино должно перебродить, – говорил он приближенным, жаловавшимся ему на бесчинства, творимые сыном.
В мечтах он снова видел его на галичском столе. Плодородные русские земли давно влекли к себе взоры венгерских королей. Первую попытку покорить их предпринял Коломан, но войско его было разбито. Неудачами закончились и последующие походы за Карпатскую Русь.
Бела оказался счастливее своих предшественников. Он не объявлял русским князьям: «Иду на вы», а использовал их внутренние ссоры и усобицы. Так сделался послушным орудием в его руках князь Владимир Ярославич, и если бы он не бежал из венгерской неволи, поняв свою ошибку, к Фридриху Барбароссе, если бы ему не помог Всеволод, то Андрей и по сей день сидел бы в Галиче, а не мозолил всем глаза в охочем до сплетен Эстергоме.
Из своего замка, из своей холодной крысиной норы, Бела зорко следил за всем, происходящим в подвластном его взору мире. Ссора волынского князя Романа с Рюриком, последующий уход Романа в Польшу и тяжелое ранение обеспокоили короля: любое ослабление Романа укрепляло власть галицкого князя Владимира. И еще обеспокоило короля усилившееся в последнее время влияние на дела Червонной Руси далекого суздальского князя Всеволода. Оказалось, что власть его реальна, если даже польский король Казимир присягнул ему в верности, а Фридрих Барбаросса слал ему богатые дары и называл своим братом...
За ужином в присутствии послов Бела иногда любил щегольнуть своим благородством.
– Князь Всеволод – достойный противник, – говорил он. – Сейчас он занят решением давнишнего спора с Новгородом. Но я бы счел за честь встретиться с ним на поле битвы...
– Или подсыпать ему в вино какой-нибудь мерзкой отравы, – шепнул нунций сидящему рядом с ним немецкому графу.
Заметив на себе пристальный взгляд Белы, граф улыбнулся и, быстро зашептав бескровными губами молитву, занялся четками.
Принесли жаркое. Потом подавали сладкое. Под столами бродили собаки и, жадно чавкая, грызли брошенные гостями кости.
Чинный ужин продолжался.
3
В тот самый день, когда Роман получил известие от Рюрика из Киева, по прибитой дождем тропинке с простой ореховой палкой в руках, одетый просто и скромно, шел из своего монастыря в Великий Новгород игумен Ефросим.
Шаг у Ефросима был размашист, рясу, чтобы не мешала, он заткнул за плетеный поясок, и послушник, семенивший за ним, то и дело стонал и присаживался на обочинку переобуть лапотки.
Игумен сердился, на него, ругал всю дорогу. Был он во гневе невоздержан и зело суров. А случалось, что пускал в ход и свою палку. О том лучше всего могли поведать синяки и шишки, украшавшие нерасторопных монахов.
Остановившись в очередной раз над присевшим на пенек послушником, игумен разгневался небывало, так что лицо его, изрезанное мелкими кубиками морщинок, покрылось лиловыми пятнами.
– И почто взял я тебя, ирод, с собой, – говорил он готовым сорваться на крик голосом. – ежели ты немощен, яко разъевшаяся в миру толстая баба?.. И долго я еще буду зреть твою согбенную спину и внимать жалобным стонам?.. Чти молитву, раб, и оставь в покое свои онучи...
– Что ты, батюшка, разъярился? – быстро вскочил на ноги парень. – Моя ли в том вина, что лапти велики? Твой келарь выдал их мне на дорогу, а тесемки оборвались.
– Вот отхожу тебя палкой-то. – сказал игумен,– тогда, глядишь, и образумишься. Да слыханное ли это дело – который час толчемся на дороге, а Новгорода всё не видать...
Поостыв, продолжал:
– Умен ты зело, Митяй, оттого и взял я тебя с собой. Ровно околдовали тебя буквицы, кроме книг ничего вокруг не зришь. Но нынче разбирает меня великое сумление: задумывался ли ты о том, почто чтишь?.. То-то же. А ведь книга дана умному человеку для познания всего сущего... Иной-то – как? Ест хлебушко, пьет водицу из родничка, пашет землю и о том не думает, что век наш короток. Не успеешь родиться – уж и прощаться пора. Оглянулся назад, перед тем как лечь в домовину, – ничего не видать. Прожил свой век и покинул сей мир без сожаления. А другой, познав премудрость книжную, задумается: почто ем хлеб, пью водицу, иду по веретени? Почто один человек помыкает другим? Почто у боярина брюхо жирно, а у меня тонко? Почто обидел тиун твою девку? Почто посадили в поруб мужика? Почто владыко Мартирий кует крамолу в Великом Новгороде, а Ефросим, в худой рясе, без панагии, с железным крестом на груди, идет к нему из своего монастыря, а такой олух, как ты, не дает ему засветло добраться до города, чтобы отстоять вечерню в святой Софии? Почто?..
Светлые глаза игумена затуманились от гнева, в горле его заклокотало, и голос снова перешел на крик.
– Что глядишь на меня, яко овца? Нечто и нынче не уразумел, что молодые ноги резвее старых? У тебя ж и ноги выросли в кривулину.
И замахнулся на послушника палкой. Митяй проворно отскочил на середину дороги и побежал, прихрамывая.
– Погодь ты, – смягчаясь, позвал Ефросим. – Куды зачастил?
– Дык сам про ноги сказывал...
– Ступай сюды.
Митяй боязливо приблизился.
– Нагнись-ко.
Митяй нагнулся. Игумен ударил его палкой по спине:
– Так-то.
Успокоенно высморкался в подол рясы и осенил себя крестом. Митяй протяжно заскулил.
– Чо – больно? – ласково спросил Ефросим.
– Больно.
– По то и бью...
Дальше шли веселее. Митяй старался не отставать от игумена. Ефросим посматривал на него с добротой во взгляде.
«Ишшо поотешется, – по-стариковски мудро размышлял он. – Сердцем отходчив, душою добр».
Вспомнил, как метельной зимней ночью прибился Митяй к монастырю.
Пришел обоз с припасами из Обонежья. А когда стали монахи перетаскивать с возов в кладовую мешки и бочонки, увидели спрятавшегося за кадью с квашеной капустой Митяя.
Озорной был малец, дикой. Чернецам в руки не давался, кричал и царапался, как кошка.
– Ну-ко, вылезай, покуда цел, – сказал Ефросим. – Не то кликну кикимору, она тя приберет.
Незнаемое слово поразило Митяя. Уставился он на игумена посоловевшими от страха глазами, запищал жалостливо и тоненько, покорно дался Ефросиму. Унес его игумен в свою келью, смазал отмороженные ножки гусиным жиром, напоил теплым коровьим молоком с медом. Выходил мальца.
Дивились монахи: Митяя растил игумен, как родное дите. Одевал-обувал его, грамоте учил, возил с собою по деревням и в город, сказывал ему сказки и пел надтреснутым голосом духовные стихи. Привязался малец к Ефросиму, за отца родного любил и почитал (родителей-то его унесло на льдине в Онего-озеро, там они и сгинули). Привольно и сытно жилось ему в монастыре. Великое множество книг было собрано в келье у Ефросима – скоро научился Митяй читать бойко, а чернецам, собравшимся после молитвы и трудов праведных на монастырском дворе, сказывал о прочитанном.
Неспроста, отправившись изобличать перед доверчивыми новгородцами давнишнего врага своего Мартирия, взял Ефросим с собою и Митяя, – беседовал с ним игумен, не таясь, о сокровенном, прикидывал, как падет на голову недруга его праведное и гневное слово.
– Шибко осерчал ты на владыку, батюшка, – говорил ему Митяй. – Нешто и впрямь николи не радеет он о своем стаде?..
Ефросим останавливался, и прямой взгляд его наливался возмущением. Густые брови игумена, как два вороньих крыла, нависали над немигающими серыми глазками.
– Али пастырь есть тот, кто не радеет о сохранности овец своих? – вопрошал он с угрозой. – Отдал Мартирий стадо изголодавшимся волкам – есть ли сие праведно?.. Праведно ли есть, ежели брат идет на брата, а купцам не стало ни житья, ни покоя и от лихих людей, и от иноземцев, и от своих же бояр, кои сговорившись с татями, ограбляют их и награбленное прячут под замки в свои бретьяницы?.. Пастырь ли то есть, при коем приходят беспрепятственно на землю новгородскую свейские рыцари, забыв, как взята была Сигтуна и врата со священного храма ее свезены в Новгород и установлены мастером Авраамом в нашей Софии?.. Ныне некому оградить нас от грабежей и разбоя. Пастырь ли есть сие?..
Ни много ни мало, а целых десять лет, почитай, прожил Митяй в обители у Ефросима, и лишь однажды, весною нынешнего года, приходили под стены ее с берегов Варяжского моря шведы. Монахи своими силами отбили приступ, но села вокруг монастыря сожжены были дотла, и многие новгородцы угнаны в рабство.
– Пастырь ли есть сие?! – вопрошал громоподобным голосом Ефросим, стоя посреди лесной дороги. Налетевший с невидимого за кустами Волхова напористый ветер закинул ему за плечи длинные ржаные волосы, глаза его судорожно блестели, рот кривился.
Но, когда вышли к реке и задержались на отлогом берегу, любуясь широким водным простором с раскиданными по его темной глади белыми гребешками волн, игумен успокоился. Морщинки на его щеках распрямились, глаза подобрели.
– Ах, лепота-то какая, – прошептал он. – Славен мир божий, созданный нам вo радость и успокоение. Велика его благодать, а человеци в неуемстве своем и всегдашней корысти оскверняют ее нечистым своим дыханием...
– Почто так страшно речешь, батюшка? – вдруг отшатнулся от него Митяй. – Почто хулишь равно правого и виноватого?
– Цыц! Сгинь ты, червь, – снова наливаясь гневом, оборвал его Ефросим и, запахнув откинутую ветром полу рясы, размашисто зашагал по берегу, выбрасывая далеко впереди себя тяжелую палку.
Перед самым Новгородом, в виду его белокаменных соборов и церквей, встречала Ефросима большая толпа горожан. Люди счастливо улыбались, кланялись ему низко и с трепетом подходили под благословение.
– Слава тебе, господи, – говорили, крестясь. – Сподобился старец. Явился заступник, теперь всем нашим бедам конец.
– Научи, отче, как быть...
– Устрой чудо, батюшка...
– Сжалься...
– Укроти владыку...
Высясь над толпой, довольный Ефросим окидывал людей ястребиным взглядом.
– Бог вас покарал, новгородцы, – изобличал он громко, но без негодования. – Погрязли в суете и довольстве, избрали себе негодных пастырей... Бог вас покарал!
– Прости, отче!
– Смилостивься. Скажи слово праведное владыке. Изобличи, окаянного, и всех, иже с ним.
– Ослобони от греха. Деток наших и сирот пожалей...
Обрастая все новыми людьми, распухая на новгородских улицах, толпа направилась к детинцу. Ефросим, вскинув голову, шел впереди.
– Мартирия!.. Мартирия сюды!.. – заорали мужики, собравшись у владычных палат.
Голос игумена перекрывал всех:
– Слышь, Мартирий, кличет тебя новгородский люд, – взывал он, повернувшись лицом к крыльцу, на котором грудились растерявшиеся вои. – Почто отгородился от своего стада? Выйди!..
– Выйди!.. Выйди!.. – кричал народ.
Бледное лицо владыки припало к зарешеченному оконцу и тут же боязливо скрылось.
– Выйди, пес! – повысил голос Ефросим. – Хощет говорить с тобой вольный Новгород.
– Выйди! – эхом откликалось в толпе.
– А-а-а! – протяжно взлетел исполненный муки крик: били послуха – по голове, по запрокинутому лицу. Тяжело дышали, злобно глядели на окна.
– Почто орете?..
На крыльце показался тысяцкий – рука на мече, гордый взгляд скользит над головами мужиков. Рот гневно скошен.
– Владыку нам, – сказал Ефросим.
– Владыка немощен...
– Врешь!
Толпа зашевелилась – к подножью крыльца выбросили окровавленное тело.
– Твой послух?..
Тысяцкий отшатнулся, осенил себя крестным знамением.
– Кличь владыку, – шагнул вперед игумен. Толпа придвинулась к крыльцу.
– Христьяне, люди добрые, да где ж это видано, чтобы послуха били?! Вовсе на вас креста нет, – взмолился тысяцкий. – Истинно говорю вам, немощен владыка...
Стихло над головами. Люди топтались растерянно. Глаза Ефросима блестели безумно.
– Покажь! – брызжа слюной, выкрикнул он.
– Бог с тобой, Ефросим, – сказал тысяцкий. – Почто срамишь святое место?
– Место это погано, – оборвал игумен. – Покажь!..
– Покажь!.. Покажь! – снова ожила толпа. Люди полезли на крыльцо, толкаясь и падая; обрушили перила, ввалились в переходы, в темные углы и закоулки палат.
Мартирий лежал на лавке, наскоро укрытый коричневой сукманицей, белый и прямой, как покойник. Вокруг него смиренно стояли, сложив руки на груди, испуганные служки. Свечи горели, воняло мочой и ладаном.
Ворвавшиеся в ложницу люди, самолично узрев скорбь и великую немочь владыки, отступили к дверям. Крики стихли, послышались жалостливые голоса.
Отодвинув в сторону служек, Ефросим приблизился к ложу Мартирия. Склонился над ним – лицо к лицу, уперся бешеными глазами в полуприкрытые дрожащими веками глаза владыки, про себя подумал: «Смердит, как навозная куча», откинулся, пригнулся снова, снова выпрямился. Сплюнул.
За окнами ударили колокола, сзывая новгородцев к вечерне.
– Чада мои, – сказал Ефросим. – Помолимся в святой Софии за господа нашего Иисуса Христа. Возвысим глас наш ко всевышнему, испросим у него прощения за грехи наши великие...
– Сам служи, отче, сам! – послышались голоса.
Вслед за Ефросимом покорная толпа направилась к собору...
4
В тот самый день, когда Роман получил известие от Рюрика из Киева, во Владимире в светлой горнице у князя Всеволода сидел старший сын его Константин и, рассеянно слушая отца, сжимал в кулачке только что пойманную большую зеленую муху. У двери, выставив одно плечо выше другого, переминался с ноги на ногу поп Четка. Глаза его преданно пожирали князя, корявые пальцы рук оглаживали поднесенную к груди книгу в тяжелых досках с позеленевшими медными застежками.
– Сколь уж говорено тебе было, – ворчал Всеволод, – княжича не баловать, проказ его не покрывать, а ежели нерадив, то и наказывать или же мне доносить...
– Сын твой зело сметлив, князь, – отвечал Четка. – А проказы его не от нерадивости и лени, а от живого ума.
– Вырастишь мне дурня, – сказал князь. – Дружки его, сыны боярские, одно только и ведают, что баловать. А после отцы их идут ко мне чередой с жалобами на своих чад. Срам!
– Тебе ли ровнять княжича с боярскими отроками? – отвечал Четка. – У тех уж девки на уме, до грамоты ли им! Констянтин же и Юрий, младшенький твой, преуспели и в латыни, и в греческом, читают не токмо Святое писание, но и Досму Индикоплова, и Георгия Амартола, и Романа Сладкопевца...
– Изрядно, – подобрел Всеволод, выслушав Четку. – Ступай покуда... А ты останься, – задержал он сына.
Вскочивший было Константин снова покорно опустился на лавку, смотрел на отца исподлобья.
Всеволод встал со стольца, приблизился и сел с ним рядом.
– Экой ты дикой какой, – погладил он Константина по жестким волосам. – Почто хмуришься? Аль не по сердцу мои слова?.. Аль дума какая закручинила?.. Погоди, уж не обидел ли тебя кто?
– Не, – мотнул Константин головой.
– Тогда почто отца бежишь, сердца мне не откроешь?..
Княжич промолчал, прислушиваясь, как бьется в ладони обезумевшая муха.
– Не ворона тебя в пузыре принесла, – грустно сказал князь, стараясь поймать сыновний взгляд.– Родитель я твой, и ты моя кровь. Помнишь ли, как сказано у прадеда твоего Владимира Мономаха в его «Поучении»: «Что доброго вы умеете, того не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь; вот как отец мой, находясь дома, овладел пятью языками...» Давал ли Четка тебе книгу сию?
Константин отрицательно мотнул головой.
– Ишь ты, – улыбнулся Всеволод. – Ромеев выучил наизусть, а о прадеде и слыхом не слыхивал...
Он встал, взял со стола и протянул сыну тоненькую книжицу с окованными серебром уголками.
– Ромеи зело учены, немцы тож и угры. Но и отцы наши, и деды, и прадеды во многих премудростях преуспели и были почитаемы не токмо на Руси, но и на чужбине. Вот зри, что сказано у Мономаха...
Он развернул книгу и, строго взглядывая на сына, прочитал нараспев:
– «Велик ты, господи, и чудны дела твои, и благословенно и славно имя твое вечно на всей земле! Поэтому кто не восславит и не прославит мощь твою, твои великие чудеса и блага, устроенные на этом свете; как небо устроено, как солнце, или как луна, или как звезды, и тьма, и свет; и земля на водах положена, господи, твоим промыслом; звери разнообразные и птицы и рыбы украшены твоим промыслом, господи! Дивимся и этому чуду, как из праха создал ты человека, как разнообразны облики человеческих лиц; если и весь мир собрать, не у всех один облик, но каждый имеет свой облик лица, по божьей мудрости...»
– Книга сия, сыне, – сказал Всеволод, – всем нам во спасение, ибо начертана в ней праведная жизнь человека, какою ей должно быть...
Константин разжал ладонь – муха вылетела и громко забилась в стекла окна. Всеволод улыбнулся:
– Притомил я тебя нынче, но еще об одной книге не могу умолчать. Вот эта – показывал ли ее тебе Четка?
– «Слово о полку Игореве, Игоря, сына Святослава, внука Олегова», – водя пальцами по буквам, пробубнил Константин.
Князь могучий, Всеволод великий!
Прилетишь ли мыслью издалека
Постеречь златой престол отцовский?
Расплескать веслом ты можешь Волгу,
Можешь Дон ты вычерпать шеломом..,
По ногате брал бы за рабыню,
По резане за раба-кощея.
Ты пускать живые стрелы можешь —
Кровных братьев, Глебовичей храбрых...
Вскинул Константин поголубевшие глаза на отца, открыл рот.
– Было, все было, сыне, – кивнул Всеволод с грустью.– Никому не ведомо, кто сие сложил – Святославов ли дружинник, или какой гусляр... А может, Игорев тысяцкий?.. Был такой книгочей, лихая головушка. И не всё правда в книге сей – не был Святослав Всеволодович мудрым князем, и Игорь не без корысти ходил в степь... Но чем живу я и поныне – всё здесь: пришла пора собираться князьям воедино, а не сводить родовые счеты. Что у себя проглядим, то врагам нашим на руку – знай...
Впервые говорил так Всеволод со своим сыном. Но не настала, должно, еще пора. Мал Константин, и Святослав мал, и Юрий. Однако время торопит – проснулся сегодня на зорьке князь, а встать с ложа своего не смог: свело ему левую сторону нестерпимой болью, железными обручами сдавило затылок. Встревожилась Мария, звала знахарей и дядек. Пускали знахари Всеволодову кровь, дядьки прикладывали к сердцу смоченные в горячей воде убрусцы... «Неужто призывает господь? – со страхом подумал князь, беспомощно лежа на спине. – Неужто не дано свершить задуманное?!» К полудню ему полегчало. Но звон в ушах держался до самого вечера, кружилась голова...







