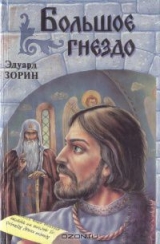
Текст книги " Большое гнездо"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
Тяжело поднялся с лавки Одноок, руками оперся о столешницу. Угрюмым взглядом осадил мужика, будто ноги подрезал, – тот и присел.
– Ну, ежели что не так...
– Так-так, батюшка. Кого хошь спроси...
– Ладно.
На княж двор идти – не к соседу лясы точить. Принарядился Одноок: лучшую одежду надел, с трудом просунул ноги в тесные сапоги, набросил шубу, на голову натянул шапку с беличьей опушкой, резвого коня велел седлать – да чтобы под дорогим седлом.
Пока наряжался да собирался, погоняя и без того расторопную челядь, зимняя ночь потерялась, солнышко взошло до половины Серебряных ворот. А прибыл боярин к детинцу – и вовсе разгулялся день: так и поливает блеском по матерым снегам.
Удивился Одноок: в любое время на княжом дворе – шум и суета, а тут народ так тесно стоит, что и коня направить некуда. Хорошо еще, что с высокого седла все далеко видать. Осмотрелся боярин, как в поле ратник, подбоченился, гневно ломая бровь, – не видит Звездана. Словиша тут, а сын ровно в землю ушел.
Стали приезжие на Одноока ворчать:
– Ты бы, боярин, коня-то поодаль оставил: все ноги нам оттоптал.
– Куды на людей-то правишь – чай, не трава...
– А вы кто такие будете? – спрашивает Одноок, вынимая ноги из стремени и спускаясь на землю.
– Из Новгорода с посадником Мирошкой ко Всеволоду прибыли.
– Да возов-то почто со сто?
– Дары с собой привезли, беседу ведут Мирошка с князем.
Стал Одноок, ворча, проталкиваться к теремному всходу: кого плечом оттирает, кого пузом. Пока добрался, вспотел – даром что на дворе мороз.
У всхода людей было помене, все нарядные – будто на праздник собрались. Важно стоят друг против друга, бороды чесаные солнышку выставили на обзор – одна другой краше. Словиша на самом верху спиной прислонился к точеной стоечке, нога за ногу перекинута, рука поигрывает плеточкой.
– Ты куды, Одноок? – отстранил он боярина. – Ко князю пущать никого не велено.
– Никак, глаза тебе застило, Словиша, – сказал Одноок. – Протри зенки-то.
– Не моги, боярин. Кому сказано?
Проглотил Одноок обиду, задержался на последней приступочке, покачал головой.
– До тебя с земли и шестом не досягнешь... В чем не уноровил, прости, – и поклонился ему шутейно большим обычаем. – Да вот скажи-ко мне, Словиша, не видывал ли ты где сынка моего Звездана?
Отпрянул от стоечки Словиша, мутные, будто спросонь, глаза вперил в Одноока:
– Мать честна...
И заорал, оборачиваясь в сени:
– Звездан!
– Тута я, – появился Звездан на всходе.
Защемило у Одноока сердце, схватился он за грудь.
покачнулся, едва посох не выронил. Поддержали его сзади служивые:
– Эко побелел ты, боярин.
– Никак, задохнулся от людности...
Слезы блеснули у Одноока на глазах, поздоровался он с сыном в охапочку, вскудрявил его мягкие, как шелк, волосы, а после отстранил от себя да как завопил надрывно:
– Ах ты, сучий сын! Вот ужо привечу я тебя, чтобы батьку гневить было неповадно!
Да и влепил Звездану затрещину, посох подъял над головой:
– Убью!
Повисли на его плечах отроки, Словиша посох вырвал из рук.
– Почто крик? – вышел на крыльцо Кузьма Ратьшич. – Кто смеет мешать князю думу с Мирошкой думати?..
Еще совсем недавно у каждого на дворе были свои дела, а тут подался народ ко всходу, не в силах перемочь любопытства: виданное ли дело – у князя свару домашнюю заводить?
– Не серчай, Кузьма, – остепеняясь, поклонился Ратьшичу Одноок. Одернул шубу, глаза отводя в сторону. – Виноват я, что не сдержался.
Кузьма быстро смекнул, что к чему. Пряча улыбку в пушистых усах, поглядел на Звездана:
– Сыскалась потеря... Глянь-ко, от счастья оторопел. Что стоишь, яко пень? Пади в ноги отцу, поздоровайся.
– Поздоровались уж, – буркнул Звездан, с опаской глядя на Одноока.
– Иди сюды, сынок, – ласково протянул боярин руку. – Приехал я на княж двор одвуконь. Заждался я тебя.
– Ты, Звездан, отца-то не гневи, – сказал Словиша – Не упирайся, повинись. А я к вам ввечор загляну. Так ли, боярин?
– Всё истинно так и есть, – с готовностью отвечал Одноок. – Приходи, Словиша. Завсегда рады будем.
Улицей ехали молча, не обронив ни слова, вошли к себе в избу. В избе тоже молчали, сидели друг против друга на лавках, положив на колени руки.
– Ты мне про себя, Звездан, не сказывай, – начал нелегкий разговор боярин.—Ты мне про Вобея скажи.
Понял Звездан, к чему клонит отец, вспомнил суму
Вобееву, набитую золотом, вспомнил, как бросился на него конюший на Великом мосту. И горько ему сделалось, что не долгой радостью радовался Одноок и гневается не оттого, что сына едва не лишился, а потому, что пошарили в его заветном ларе.
– Чего нет, того уж назад не вернешь, – сказал он со спокойной разумностью, поразившей Одноока. – Пристал ко мне сам Вобей, как надумал я уходить. А про золотишко не ведаю. Не я его брал, не мне и ответ держать. Словил я Вобея в Новгороде, да упустил: сунул он мне ножичек под ребро. Вот погляди.
И, заголившись, показал заросшую тонкой кожицей отметину.
Скова, как на княжом дворе, защемило Однооку сердце.
– Не для себя старался я, не для себя копил – о тебе думал, Звездан, – сказал он, растирая ладонью грудь. – Но нет в тебе ни почтения, ни сыновней благодарности. Осрамил ты меня на весь Володимир и про то не ведаешь.
– Сам осрамил ты себя, Одноок, – отвечал Звездан, отцом его не величая. – А то, что скрал у тебя Вобей золотишко, то не беда. Ни радость не вечна, ни печаль не бесконечна. Ишшо утешишься.
– Не тебе меня утешать, – сказал, потупясь, боярин. – Не тобою нажитое куды как легко другому прощать.
– Прости – и сам прощен будешь...
– Эвон куды хватил, – усмехнулся Одноок. – Шибко рассудительный стал. Зря я тебя учил грамоте.
– Ученого не переучить. А с сего дни ты мне не указ, Одноок. Того, что на княжом дворе было – как кричал ты и поносил меня при народе, – в другой раз я тебе не спущу. Попомни.
– Како не попомнить, – прищурился Одноок. – Твори, бог, волю свою, а моя в доме крепка. Обронил ты паруса, Звездан, – плыть тебе все равно некуды. О мое плечо попросишь опереться.
– Твое плечо ненадежно. Жаден ты на всякое зло, на добро скуп.
– А куды ни ступлю, везде – первое место мне... С чего бы это?
– Не хвались, покуда жизнь-то иным боком не повернулась.
– У меня повернешься, – сжал Одноок ладонь в жилистый кулак. – Ты, сынок, в меру мою не дошел, оттого и хвалишься.
Голос его вдруг снова стал бархатным и ласковым:
– Ну да ладно. Неча ходить вокруг да около. Словиша обещался к вечеру быть, позови ключницу...
Зябко Звездану в избе. Но не оттого, что холодно (печи в морозы топили люто), – оживало в памяти недавнее...
...Мирошка пришел от Мартирия насупленный и злой. Кинул шубу на лавку, сидел, зажав руки в коленях, смотрел на Словишу решительным взглядом.
– Снова мужики ведут разговоры. Прознали про Ефросима. Тревожатся.
Было такое. Звездан сам видел, как скапливался на торгу народ. Жгли костры, грелись. Храбрились. Подстрекали себя разными слухами:
«Ефросим-то, слышь-ко, среди нас обитается. Зорили его избу Мартириевы людишки. Нынче прячется в посаде...»
«Не, старца на Волхове видели. Сказывали, будто спихнули его в полынью и мальца с ним заодно. Шибко плакал малец».
«Сидит Ефросим у владыки в порубе – никуды не делся. Жив он».
«Кабы жив был, так объявился... Весточку послал...»
«Стерегут его».
«Проклял Новгород Ефросим – вот и весь тут сказ. Ушел в свою обитель. Осерчал».
Гулкие голоса разрывали морозную неподвижность:
«С Мартирия спросить, куды подевал игумена».
«Мирошку потрясти. Он с владыкой заодно!..»
«Сговорились они старца извести!..»
«Всеволоду продались...»
Люди знающие говорили так:
«Слушок до нас докатился, будто звал к себе Мирошка на двор Бориса Жирославича, Никифора-сотского и Иванка с Фомою. Подбивает ехать ко Всеволоду, всем миром стоять за Мстислава Давыдовича. Ярослав-де нам не люб...»
«Не возьмем Ярослава!..»
Волновалась толпа – то на торгу гудела, то, зашевелившись разом, откатывалась на Великий мост...
– Все, – сказал Мирошка, – завтра же снаряжаю обоз ко Всеволоду.
– Пустое задумал ты, – пробовал отговорить его Сло виша. – Князь наш Ярослава тебе нипочем не уступит...
То, что на крайний случай было припасено, Мирошка никому не сказывал. А ведь не кто иной, как сам же Словиша, его, по Иоаннову наущенью, на ту мыслишку натолкнул – брякнул про Всеволодова сына да и прикусил язык: будто бы случайно изо рта выпало.
А Звездан как услышал, что ехать пора настала, так и оробел – раньше-то только и было, что разговоров – когда-никогда, а возвращаться во Владимир, – нынче же всего одна ночка впереди осталась.
Не стал мешать ему Мирошка прощаться с Гузицей. Оно и видно, что парню не по себе, да и сестра словно бы остамела.
Сладко целовал Звездан девушку в податливые уста, крепко прижимал к груди, плакал, когда ночь была на исходе. Отступила тьма, прорезался в ставни узенький лучик.
– Прощай, Гузица.
– Прощай, Звездан.
– Когда-то еще свидимся?..
Вились-развивались по лесам да вставшим рекам длинные пути-дороги. Торжок проехали, а все не смолкает тоска. Слышится ему голос Гузицы: «Ой, лишенько мне. Ой, кровушка заходится».
В душной ли избе, у лесного ли огонька – стоит перед глазами Звездана Гузица: «Едва узнав, кинул меня, соколик».
На владимирском порубежье во сне приходила, кроткой улыбкой к себе заманивала, к щеке прикладывала жаркую ладошку.
Просыпался Звездан, вскакивал, шарил рукой по холодному ложу.
Гуляла метель по полям, по рекам – задувала робкие следы саней. Словиша радовался, горячил коня: «Сроду такого не бывало, чтобы стронулся на поклон сам новгородский посадник. Крепко припек его Всеволод. Да и нам хвала. Ловко обошли Мартирия – знамо, локти кусает владыко, да поздно».
2
Не пришел к Однооку Словиша, а ждали его с великим нетерпением. Всеволод призвал дружинника в свои покои, был озабочен, расспрашивал про дела новгородские, слушал внимательно.
Мирошка, бывший у него перед тем, юлил, заверял в верности Новгорода, жаловался на бедность, но на Всеволодовы прямые вопросы, возьмут ли они к себе Ярослава, отвечал уклончиво.
Князь быстро смекнул, что не зря тряс боярин свое брюхо по зимним неторенным дорогам, не зря навез с собою в дар столько мягкой рухляди, серебра и золота – думал его умилостивить, думал: кто-кто, а он, Мирошка, сможет уговорить Всеволода.
– Не бранись, княже, а выслушай меня со вниманием,– сказал он наконец, приступая к главному. – Не супротив тебя хочу говорить, а за людишек наших, коих ты, про то я ведаю, любишь, яко своих родных сынов. Совсем измучила их смута, великая ненависть пала промеж них, а заморские купцы правят подале от наших пределов – неспокойно стало на дорогах. Кому охота терять свой товар? Новгороду же без торговли не бывать. На том стоим издревле.
– Не только без торговли, – спокойно поправил Мирошку князь. – Не проживет Новгород и без опольского хлебушка. Ставили уж и брат мой Андрей, и я заслоны подле Торжка. Упрямы будете – поставлю сызнова. И не потому, что не люблю новгородцев и беды им желаю – все мы люди русские, – потому что пастыри их боле о своем радеют, нежели об общем благополучии...
– Что ты такое сказываешь, князь! – ужаснулся Мирошка. – Мы всегда ходили по твоей воле, а ежели кто и противился, то это не мы...
– Гонцов к Рюрику тож не вы посылали?
– Был грех, – признался Мирошка. – Но ежели дашь ты нам Мстислава Давыдовича, то и смуте конец.
– Ярослава берите, – нахмурился Всеволод. Не нравилось ему как юлил Мирошка, как оглядывался на Никифора-сотского, сидевшого угрюмо в своем углу. Иванок и Фома жались на лавке, в беседу не встревали, но всё слушали и мотали себе на ус. Хорошо это приметил Всеволод и копил на них смутный гнев – вот такие, поди, и орут на вече громче остальных, сбивают с толку простаков. Один только Борис Жирославич нравился ему. Глядит спокойно, глаз от князя не воротит...
Наскучило Всеволоду торговаться с Мирошкой. Дернул он плечом и встал.
– Не сложилась наша беседа, посадник.
Все тоже встали. Мирошка, пересилив себя, упал ему в ноги:
– Не отказывай нам, княже. Всем миром тебя просим. Не хочешь Мстислава, так и быть по сему. Дай нам сына своего во князья.
Вспотел Мирошка, светлая капля повисла на носу. Все завопили разом:
– Просим сына твово, княже. Пущай сын твой владеет Новгородом!..
Вона куды клонил посадник! Насторожился Всеволод. Речи вроде знакомые. Кажись, Иоанн склонял его к тому же...
– Куды как просто удумал ты, посадник, – улыбнулся Всеволод, снова опускаясь на столец. – Отколь ветер подул?
Мирошка вздохнул облегченно. Вздохнули и Иванок с Фомой. Никифор-сотский и Борис Жирославич остались стоять, как каменные. Мирошка сказал:
– Ниотколи ветер не дул. Самого только что осенило: будет у тебя в Новгороде свое неусыпное око.
– А ежели возвернешься ни с чем? – пригасил надежду Всеволод.
– Забросают новгородцы каменьями, – честно признался Мирошка. – Ни с чем возвращаться мне нельзя.
– Никак нельзя, княже, – впервые разинули рты Иванок с Фомой.
– Вона как ласково заговорили, – посмеялся над ними Всеволод. Помедлив, сказал раздумчиво: – Что до срока кручиниться? Слышь-ко, Кузьма, – оборотился он к стоявшему за его спиной Ратьшичу.
– Слышу, княже.
– Всё ли уразумел?
– Как не уразуметь, княже, – проговорил с ухмылкой Кузьма.
– Ну так исполни, что ныне скажу: посадника Мирошку Нездинича да Фому с Иванком из города не выпущать...
– Все исполню, княже, – с готовностью откликнулся Кузьма. – В поруб кинуть али ино повелишь?
Медля с ответом, Всеволод хитро прищурился. У Мирошки вытянулось лицо, Фома с Иванком испуганно отпрянули.
– Да где это видано, княже, чтобы послов кидали в поруб? – пролепетал посадник, беспомощно глядя на неприступного Кузьму.
– Какие же вы послы? – удивился Всеволод. – Послы приходят с княжеской печатью, а вы – сами по себе...
– Дары принял по обычаю, встречал, како предками заведено...
– Дары, Кузьма, вернешь с Борисом Жирославичем и Никифором. Пущай везут, откуда взяли. У нас и своих мехов некуды подевать.
– Срамишь не меня, княже, – сказал, укрепляясь в правоте своей, Мирошка. – Срамишь Великий Новгород.
– Ростов тож был великим, – осадил его Всеволод. – А нынче кто в нем сидит?.. Ничо, совладал с Ростовом, с вами тож совладаю. Ишшо под скомороший гудок напляшетесь. Ишь, за какой обычай взялись: того хощем, а тот нам не по нраву. Ровно девка на выданье, которая ото всех нос воротила да так и осталась вековухой. Мартирий, владыко ваш, превыше князя себя возомнил. Так я и тебе, Мирошка, и ему напомню: не я из вашей руки кормлюсь, а вы из моей!.. Не будет вам князя, окромя Ярослава.
Грозно говорил с вольным Новгородом Всеволод.
– Верно сказываешь, княже! – не утерпел просиявший Кузьма. – Будя им воду-то мутить.
– Ты вот что, – сказал Всеволод, отдышавшись. – Ты Мирошку-то с ентими в поруб не суй. Пущай ходят на воле. А приставь к ним Словишу – они старые знакомцы... И нынче же снаряжай гонца к Ярославу: ступай, мол, в Новгород – так Всеволод повелел.
Уходили послы с княжого двора будто в воду опущенные. Словом друг с другом не перекинулись. Только в отведенной им избе подле Волжских ворот очухались, когда уж Кузьма вышел и топот его коня затих на бугорке.
– Лихая грядет година, братья, – говорил Мирошка, кляня себя за уступчивость и за то, что падал перед Всеволодом на колени. – Плохо просил я князя, не с того конца начал веревочку тянуть, старый дурак.
– Полно виниться-то тебе, – успокоил его Фома. – Како ни тянул бы, всё едино бы вытянул. Не потому Всеволод упрямится, что плохо кланялись, а потому что задумка у него така: не тебя одного, боярин, зрит он на коленях, а всю нашу вольницу. И мыслю я, что ныне перечить ему срок не настал. Взбаламутил народ Ефросим, покачнул Мартирия, а окромя владыки опираться нам более не на кого.
– Вечер плач, а заутра радость, – вслед за Фомою принялся уговаривать Мирошку Иванок. – Перетерпим покуда – не год и не два еще простоит над Волховом Новгород. Не так уж много воды утечет, как все переменится. А покуда упрямиться нам нечего. Пущай Никифор с Борисом сами скажут слово на вече, пущай встречает народ Ярослава хлебом-солью. Переможем. Нам не привыкать...
Как пришел во Владимир обоз новгородский о ста возах, так и отправился в путь обратный. Сдержал свое слово Всеволод – не велел принимать даров. Сам следил, чтобы и шкурки беличьей где-нибудь не затерялось.
Отъехали новгородцы – и снова водворилась во Владимире благостная тишина.
Падали снега, заметали санные пути озорные ветры.
Скоро про Мирошкино посольство и думать все позабыли.
3
Сидя на низенькой скамеечке у ног Досифеи, Пелагея вязала носок и говорила елейным голосом:
– Праведна ты, матушка. Про то все вокруг сказывают. Была я давеча в городе, слушала, как про тебя в народе толкуют. Хорошим людям роток не заткнешь, а правда всё едино наружу вылезет...
– Да что же там такое про меня говорят? – спрашивала, улыбаясь, игуменья.
– Ох уж и как сказать, не решаюся, – вздыхая, отвечала Пелагея. – Добра, мол, и доверчива. Молитвами себя иссушает, за черниц вступается, в обиду не дает, а про то не ведает, что пользуются ее кротким нравом, что иные из монахинь, отправляясь в мир,за спиною ее творят непотребное...
Сказала – и замерла, глазами стриганула по лицу игуменьи, но тут же снова уткнулась в вязание. Быстро замелькали в ее руке спицы.
– Что-то мне невдомек, Пелагея, – сказала игуменья с досадой и нетерпением. – Яснее выразись, да покороче. О ком речь твоя?..
Пелагея вроде и смутилась.
– Языце, супостате, губитель мой, – пролепетала она, еще ниже склоняясь над вязаньем. – Забудь, о чем сказывала, матушка.
– Нет уж, постой, – возвысила голос игуменья, – веди, коли начала, до конца.
На добрую ниву упало, будто случайно роненное, зерно.
– Ослобони, матушка...
– Сказывай!
– Да мало ли что бабы говорят...
– Растопырила слово, что вилы, так не молчи, – донимала Пелагею игуменья. Всполошилась она, теперь не унять.
– Говорить беда, а молчать другая, – кротко промолвила Пелагея. – Про кого сказывать буду, тебе и невдомек.
– Уж не на Феодору ли возводишь хулу? – догадалась игуменья.
Тут и вовсе сделала вид, будто застеснялась, Пелагея. Уронила спицы, спрятала в руки зардевшееся лицо.
– Ой, что наделала-то я! – запричитала с раскаянием. – Како Феодоре погляжу в глаза?
– Врешь ты все, Пелагея, – с трудом проговорила игуменья. – Напраслину возводишь. Нет пропасти супротив завистливых глаз. Давно приметила я, что не по душе тебе Феодора.
– Слепа ты, матушка, по доброте своей, – пролепетала Пелагея. – Да будь что будет – все, как на исповеди, скажу. Лик у Феодоры ангельский, веришь ты ей – про то я знаю. Правду сказывает тебе в глаза, а о главном помалкивает. Ты ее допроси-ко с пристрастием, не слыхивала ли она чего про Веселицу?..
– Вроде знакомо мне имя сие...
– Как же, как же, – заторопилась Пелагея. – Не раз, поди, слыхивала. Купчишка был во Владимире, да весь вышел. Нынче у Мисаила обитается...
– Не он ли избу жег у Одноока?
– Про то не ведаю. А будто бы так, на торгу болтают... Далеко ниточка-то вьется.
– Озадачила ты меня, Пелагея, – растерянно пробормотала игуменья.
– Феодору-то призови... А еще лучше – бабу нашу, вратаря-то, потряси.
– Ее-то трясти почто? – удивилась Досифея.
– А как же? – уже не скрываясь, подливала масла в огонь монахиня. – Всё через нее и шло.
– Да неужто оскверняла Феодора обитель?! – так и привстала игуменья.
– Хаживал Веселица-то к нам на двор, хаживал...
Досифея задохнулась от гнева – экая срамота! А ведь едва не приблизила она к себе Феодору – хорошо, господь вовремя остановил.
– Кликни-ко бабу, – повелела она монахине. Пелагею словно ветром выдуло из кельи.
Явилась сторожившая монастырские врата высокая баба с костистым мужичьим лицом, поклонилась Досифее поясно. Глазки бегают затравленно, глядеть на игуменью не хотят.
– Куды воротишься, почто на меня не глядишь? – спросила Досифея.
– О чем ты, матушка ? – притворно удивилась баба.
– Экая смирная какая, – сказала игуменья, – святее ангела...
– Загадками сказываешь, матушка, – прочистила горло баба. Не нравился ей ласковый голос игуменьи. Руки Досифеи хищно сложены на коленях, спина напряженная, прямая.
– Да уж не запирайся, сестрица, – проговорила стоявшая у двери Пелагея. – Чего там!
– А я ничего, – растерянно оглянулась на нее баба. Мужичье лицо ее вытянулось, над верхней губой выступили капельки пота.
– Ежели правду будешь говорить, то игуменья тебя, может, и простит, – сказала Пелагея.
Видать, не один только опознанный грех водился за бабой. Сморщив низкий лоб, она думала напряженно, беззвучно шевеля губами.
– Долго ждать-то ишшо? – спросила, теряя терпенье, Досифея.
– Дык я ведь...– потопталась баба. – Дык я ведь...
– О Феодоре сказывай, – помогла ей Пелагея.
– О Феодоре-то? – прищурилась баба. – Да что о Феодоре-то?..
– Как Веселицу водила, как отворяла ему врата обители в полночь-заполночь, – говорила за нее Пелагея.
– Отворяла ли врата? – допытывалась игуменья.
– Дык я ведь...
– Отворяла, сказывай?!
– Отворяла, – созналась баба и спешно перекрестилась. Лицо ее стало маленьким, с кулачок, – почернело, усохло, покрылось мелкими морщинами. И вся она осунулась и обмякла, так что одежда вдруг словно повисла на ней, как на огородном пугале.
– Не вели гнать, матушка! – вдруг завопила она, падая на колени. – Бес попутал. Явился во образе смиренной монахини, речьми сладкими совращал, услаждал слух мой серебром и златом.
– Единый ли раз отворяла Веселице врата, сказывай? – продолжала, как и прежде, неподвижно сидевшая Досифея.
– Многожды, многожды отворяла, – лбом колотила в половицы баба. – Прости заблудшую, матушка!..
– Бог простит, – сказала игуменья. – Изыди.
– Ась?
– Изыди, говорю, – повторила игуменья.
Баба еще раз приложилась лбом к половицам, встала и, часто моргая глазами, попятилась из кельи.
– Эй, погоди-ко, – остановила ее игуменья.
– Что велишь, матушка? – сминая в руках подержанный плат, вся обратилась во внимание баба.
– Про то, что была у меня, никому не сказывай, – строго-настрого наказала игуменья. – Феодоре не обмолвись.
– А я уж было в тебе изуверилась, – сказала она Пелагее, когда баба вышла. – Думала, из зависти наговор, а вот оно как обернулось. Знать, и меня ввела Феодора во грех. В смирение ее поверила, приблизить хотела...
«Вовремя я обмолвилась», – подумала Пелагея со злорадством.
– Нынче бы их не спугнуть ненароком, – забеспокоилась игуменья. – Как бы чего не пронюхали...
– Словечко-то промеж нас сказано. Упреждать Феодору некому, – успокоила ее Пелагея.
Взгляд у монахини прямой и преданный. Движенья легки и вкрадчивы. Голос понижен до шепота.
Ближе к вечеру наведалась она к Феодоре. Вошла неслышно, остановилась на пороге.
Феодора, не видя ее, по буквам, вслух, читала Евангелие. Прикусывая губы, старательно водила по книге пальцем, морщилась и сердилась на себя – плохо давалась ей грамота, да и мысли были далеко: близился назначенный час – скоро появится Веселица. До книги ли ей, когда сердце исполнено трепетного ожидания!..
Тонкая свеча на столе издымилась, ветер, задувавший в щелястое оконце, полоскал узенькую каемку пламени.
Стоя в дверях, Пелагея невольно залюбовалась Феодорой – хоть и в иноческом смиренном одеянии, а была она дивно хороша. Лицо – как спелое яблочко, брови вразброс, будто ласточкины крылья, светлая прядка волос выбилась из-под платка, затенила белый, как у боярыни, без единой складочки лоб.
Пристальный взгляд ее оторвал Феодору от книги и сладких дум. Ресницы ее дрогнули и, приподнявшись, отворили синь-глубину прекрасных доверчивых глаз.
– Ах ты, касаточка моя, – молвила Пелагея, бесшумно подступаясь к Феодоре. – На дворе-то месяц в снегах полощется – такая благодать!.. А ты сидишь, пригорюнилась, на лице печаль...
– Нечего мне печалиться, – ответила, пытаясь подняться, Феодора, но рука Пелагеи надавила ей на плечо. – Да нездоровится что-то.
– Уж не жар ли у тебя? – забеспокоилась монашка, прикладывая ладонь Феодоре ко лбу.– Горишь вся, спасу нет... А ну-ка, глянь сюды.
Но глаза Феодоры были чисты, а в прищуре еще и лукавы. Смешинка плавала в глубине зрачка.
«Радуется, – подумала Пелагея. – Час назначенный недалек...»
– Прилегла бы ты, отдохнула, – посоветовала она Феодоре. – К утру-то все и пройдет... Кваску бы испила.
«Не обмолвилась баба», – успокоенно думала Пелагея. Глядела на Феодору с нежностью. Ворковала в ушко.
– Да что это нынче с тобой? – удивилась Феодора.
– Весною снега запахли. Солнышко-то вычернило санный путь – скоро зиме конец...
О весне ко времени говорила Пелагея. И всё в глаза Феодоре заглядывала, всё в глаза.
Отстучало на дворе медное било – вздрогнула Феодора, со страхом поглядела на Пелагею. А ей только того и нужно, только взгляда этого она и ждала.
4
Кто скажет, на какой излучине, на каком повороте дороги ждет человека счастье? Иной раз кажется, беда накрыла тебя черным крылом – и нет просвета. Но вдруг пойдет валить удача – уж и некуда вроде, а она всё прет и прет...
Веселице же на этот раз с самого начала только не везло.
Последняя была у него ветхая сермяга – и та ночью у печи прогорела: пали на нее с очелка случайные угольки. Стал кобылу седлать – лопнула подпруга.
– А, чтоб тебя! – выругался Веселица и сел, пригорюнясь, на пенек. Мисаил в ту пору из лесу еще не вернулся – ушел пострелять зайцев, да припозднился что-то. Солнышко на ночлег собралось; из чащи потянуло холодком – не выбраться нынче Веселице к Феодоре: лыжи-то старец с собою прихватил.
Сидел Веселица на пеньке, почесывал затылок, но ничего хорошего не выскреб. И такая взяла его тоска, что выть захотелось. Все ему здесь опостылело, ни на что бы глаза не глядели.
Ломал он себе голову, что бы такое выдумать. А выдумывать ничего и не надо было. Ежели бы выдумал, то еще бог знает, как бы все повернулось. Досифея-то слов на ветер не бросала – ждали уж его на монастырском дворе нанятые мужики с кольями, баба-вратарь поглядывала на дорогу с нетерпением: хотелось ей выслужиться перед игуменьей, тяжкую провинность свою смыть чужой кровушкой...
Ехал по лесу, по извилинам да по кочкам, заплутавший в чаще княжеский возок. В возке княжичи сидели, а по бокам от возка скакали Четка и Ратьшич.
– Сызнова тебя не в ту сторону понесло, – ворчал Кузьма, пригибаясь под отяжелевшими от снега ветками.
– Куды ж ее увело? – дивился Четка, всматриваясь в нетронутый снег. – Была дорога – и нет. Сколь раз по ней проезжал...
– Послушался дурака – вот теперь и плошай, – сказал Ратьшич.
– Ничо, боярин, во Владимир и малая тропка приведет, – и себя и Кузьму успокаивал Четка.
По лесу расползались вечерние тени. Возок встал.
– Теперь куды? – спросил правивший лошадьми мужик.
Четка носом потянул воздух.
– Чо голову-то задрал? – разозлился Кузьма. – Ты под ноги гляди: аль не видишь, что забрались в болото?
– Дымком, кажись, нанесло, – сказал Четка. – Эй ты, – обратился он к мужику, – нет ли тут жилья поблизости?
– Жилье-то есть, – отвечал неторопливо мужик, – да место гиблое... Куды ни сверни, везде топь да вадеги.
– Нешто и дороги никакой нет?
– Как же, есть и дорога. Чуть ране свернули бы – тут тебе и Мисаилова изба. Да нам-то почто к отшельнику?
– Не твое дело, – сказал Ратьшич. – А ну-ка, поворачивай.
Свернули на тропинку. Недолго покувыркались на сугробах, выехали в реденький березнячок. Сквозь белые стволы вдали завиднелась избушка. Кони покорно объезжали молодые деревья. Увязая в снегу, возок мягко кренился, полозья с трудом продирались сквозь белые буруны.
Кузьма Ратьшич с Четкой, обогнав возок, первыми выехали на поляну. Возле избы на пеньке сидел грустный парень.
– Ты кто такой? – сдерживая коня, наехал на него Ратьшич.
Вскочил Веселица с пенька, захлопал глазами: сон это или явь? На всякий случай сдернул с головы шапку.
У коня пар идет из ноздрей, всадник – в дорогом полушубке, на боку – меч, в руке – верткая плеточка. Одна бровь строго приподнята, другая приспущена; глаза смотрят насмешливо.
А как глянул Веселица на другого вершника, так и голоса лишился от испуга: признал он в нем того самого попа, у которого увел кобылу. А про то и запамятовал, что вытаскивал его из воды.
«Вот и пришло время расплачиваться», – подумал он, оглядываясь по сторонам.
– Ты головой-то не крути, – остерег его Кузьма.– Ты на вопрос мой честь по чести сказывай.
– Веселица я...
– А что ж не всел? – пошутил Кузьма, спрыгивая с коня и перекидывая через переднюю луку поводья.
Четка, позадержавшись в седле, глядел на Веселицу со вниманием.
– Слышь-ко, воевода, – окликнул он Кузьму.
– Чего тебе?
– А парень, кажись, мне знаком...
– У тебя кажный второй во Владимире знакомец, – сказал Кузьма, однако тоже пристально посмотрел на Веселицу.
– И кобылка мне знакома, – продолжал Четка. – И седло... То княж конь!
– Натрясло тебя, поп, – вот и привиделось.
Веселица медленно понятился за угол сруба.
– Кузьма! – заорал Четка. – Хватай его, не то сгинет в чаще!
Сам кубарем повалился с коня, бросился Веселице под ноги. Переплетаясь, покатились оба в снег. Сел Четка верхом на Веселицу:
– Теперя не сбежишь...
И – оборачиваясь к Кузьме:
– Вот он самый и есть, что Констянтина из Лыбеди вызволил.
– Да неужто? – радостно удивился Кузьма, подходя поближе. – Ну-ко, Веселица, сказывай подобру, ты ли это?
– Ну я, – сказал Веселица, отряхивая с дырявой сермяги снег.
Четка прыгал вокруг, размахивал руками, наскакивал, легонько ударяя его то в бок, то в плечо.
– Он это, он, Кузьма!
– Ладно, – сказал Кузьма раздумчиво. – За то, что помог ты княжичу, честь тебе и хвала, а за то, что коня увел...
– Без надзору была кобылка, – занудил Веселица. – Ты уж на меня не гневайся...
– Всякому делу свой счет, – остановил его Кузьма. – И ответишь ты не мне, а самому князю. Садись-ко да перед нами правь, кажи дорогу ко Владимиру...
– Да как сяду-то я, коли подпруга лопнула? – сказал Веселица, еще надеясь, что Кузьма передумает. – Заутра сам приду, не сумлевайся.
– А нам опять плутать по лесу? Э, нет, – погрозил пальцем Кузьма. – Ты мужичок хитрой, а мы и того похитрей. Отдай ему своего коня, Четка, а сам ступай в возок.
Четка сунул в руки Веселице поводья, шепнул ему: «Не робей» – и сел в возок.
– Трогай! – шумнул Кузьма.
Веселица огляделся вокруг, надеясь увидеть Мисаила. Но старец все не шел, и на поляну уже опускалась ночь...
Когда они подъехали ко Владимиру, небо было усыпано звездами, и среди них яснолико красовалась полная луна.
Как раз в это время и должен был Веселица трижды, по-условному, постучать в ворота монастыря.
Пелагея только что покинула Феодорину келью, а игуменья в последний раз наставляла бабу, сторожившую у ворот:







