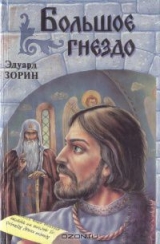
Текст книги " Большое гнездо"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц)
В закиданном до середины снегом оконце под всходом показалось чье-то лицо.
Игуменья поджала губы и, гремя ключами, отворила ведущую в подклет тесную дверь. В ноздри ударило прокисшим запахом перепревшей соломы и старого дерева. Нога поскользнулась на мокрых ступенях, Досифея прикрыла ладошкой нос, чтобы не осквернять дыхания, и сошла вниз. Глаза медленно обвыкали во мраке.
Елейным голосом Досифея спросила:
– Скорбишь, Феодора?
– Скорблю, матушка, – отвечала монахиня, потупив глаза.
– Не таишь ли зла, не богохульствуешь ли?
– Зла я, матушка, не таю. Грехи свои отмаливаю по наложенной тобою строгой епитимье.
– Вечор, как привели тебя отроки, поносила ты Одноока, винила его в жестокосердии...
– Не в себе была, матушка, – повинилась Феодора.– Шибко осерчала я на отроков и на боярина, ныне – винюсь...
Игуменья кивнула и, постучав посохом, села в угол на лавку. Монахиня стояла перед ней, изображая смирение.
– Вступая в обитель нашу, давала ты перед богом клятву свято блюсти устав, – строго выговаривала Досифея.
– Давала, матушка, – вторила ей Феодора.
– Почто же скорбишь? Аль не приглянулось тебе в обители?
– Сестер я почитаю. Тебе ж молитвы возношу за великие твои благодеяния, – отвечала монахиня.
Игуменья прикрыла глаза веками, цепко сжала поставленный между колен посох.
– А не хитришь? – спросила вкрадчивым голосом. – Не грешишь ли вновь, принимая на себя лик ангельский?
– Не грешу, матушка. Все так и есть истинно. Согрешила я, потому и несу наказание со смирением и без ропота. А нынче не грешу...
– Княгиню, защитницу нашу, давеча обидела.
– Вина лежит на мне великая.
– Кайся!
– Каюсь, матушка...
Игуменья встала, перекрестила склонившуюся перед нею Феодору. Вздохнула, стуча посохом, вышла из подклета, затворила ключом дверь.
Раскаяние Феодоры понравилось ей. Поднимаясь по всходу к себе в келью, Досифея подумала, не настала ли пора приблизить к себе молодую смиренницу. Сестра Пелагея, коей доверяла доселе она свои тайны, стала болтлива и заносчива. Другие монахини были алчны и сребролюбивы. Иные даже прелюбодействовали.
Феодора пришла в монастырь от великой скорби. Смиряя плоть, ищет она себе не радости, а спасения...
Не проста была Досифея, лукава – видела сквозь землю на три аршина, а Феодориной души разгадать не смогла.
Когда еще была Феодора Малкой, когда еще не постригли ее в иноческий сан, ушла она из деревни, ослепшая от внезапно свалившейся беды.
Долго плакала она перед тем и скорбела на могилке мужа своего, бывшего лихого Юрьева дружинника Зори, стоя у хором боярина Разумника, прижимала стиснутые в кулаки руки к груди, слушала пьяные крики. Тогда не было в ней места для тихой скорби, как не было в ней тихой скорби и сейчас. Ночью, лежа на постели в своей избе, затыкала подушкой разинутый для крика рот.
Забыть ли такое, смириться ли?.. Под утро пришел к ней хмельной меченоша Кузьмы Ратьшича, ослабевшую, валил на пол, насильничал мстительно и зло. Хотела она от горя и стыда повеситься, да сил в себе не нашла: молодость смертную тоску поборола...
Ввечеру отправилась во Владимир, не зная, к кому и зачем. У Боголюбова повстречала ласковую старушонку.
С той встречи и началась ее новая жизнь. Нашептала ей старушонка в уши о тихом монастырском житье, о благости и смирении. На израненное сердце пали вкрадчивые слова...
Когда постригали ее, истинно верила она во спасение. Но, поселившись в монастыре, совсем иное увидела. Жили монахини завистливо и грязно. Усердно молясь, доносили друг на друга игуменье. Чтя бога, в миру богохульствовали. Обкрадывали сестер своих и глумились над слабыми. А в приписанных к монастырю деревнях творилось то же, что и в вотчине у Разумника – изнурялись холопы от не посильных работ, проклинали Досифею. Была игуменья злее злого тиуна. Жадна и сребролюбива.
Привела раз Феодору Пелагея к игуменье в келью, велела молчать. Откинула крышку ларя – и зарябило в глазах: полон ларь был золота и дорогих каменьев.
– Да как же это? – прошептала Феодора внезапно высохшими губами.
Пелагея смеялась над ней:
– Доверчива ты. Воистину святая. Да святость твоя – от беса, а не от бога. Жалеешь ты убогих, заступаешься за сирых. Сестер вразумляешь... Почто?
– Не за ради сладкой жизни пришла я в обитель, – сказала Феодора. – А нынче что зрю?
– Гляди, игуменье не промолвись, – предостерегла Пелагея, и глаза ее сделались неприступны и злы.
– Порушаешь ты во мне некрепкую веру, – прошептала Феодора.
– Слепа ты была...
– А прозреть – лучше?
– Ишь заголосила, – усмехнулась Пелагея. – Лучше – забота не моя. Но игуменью ты не тревожь...
– Чем прогневила я тебя?
– Покуда ничем. Однако чую: приглядывается к тебе Досифея. Мне на замену готовит.
– Страшно говоришь ты, Пелагея.
– Страшнее мыслю.
Жутко сделалось Феодоре. Сиротливо и холодно. Пелагея, дыша часто, говорила на ухо:
– Ты меня держись. Я тебе и кус какой, и печать, ежели что: вратарь – баба бедовая, да меня слушается.
Много соблазнов насулила ей Пелагея. А напоследок еще раз строго-настрого предупредила:
– Досифее не обмолвись. Гляди!
Предсказание ее скоро сбылось: перевела игуменья Феодору в особый чин. Теперь она так же, как и все, творила общую молитву и молитву келейную, читала с усердием божественные писания, но к заутрене ее будили позже других. Она вязала вместе с прочими такими же рукодельницами носки и рукавицы и относила их в город к Лепиле, а баба-вратарь пропускала ее в монастырь и из монастыря в любое время...
Сидя в подклете на воде и хлебе, о многом передумала Феодора. Хоть и винилась она перед Досифеей, а вины за собой не знала. И молитвы ее были пресны, и все чаще, обращаясь лицом к иконе, всноминала она Веселицу.
Наяву, что во сне, на обоих беда напала. Не знала Феодора, что в тот самый день и час шел Веселица на лыжах к монастырю, объятый тревогой.
Бежали лыжи по рыхлому снегу, проваливались в сугробы, с отяжелевших сосновых лап падал на плечи его серебристый дождь. Но ничего не замечал вокруг себя Веселица, солнышку на синем небе не радовался, думал: «Хоть в монастыре, хоть на дне морском – сыщу Феодору, скажу, не таясь, что растревожила она меня, а почто – и сам не ведаю. Только бы взглянуть ей в лицо, только бы увидеться...»
Стены монастырские высоки, врата сбиты из крепких досок, за вратами – тишина. Растерялся Веселица.
– Кар-р! – вытянув шею, крикнул сидящий на вратах ворон. «Хорошо ему, – позавидовал Веселица. – Летит, куда хочет».
– Кар-р! – насмешливо подтвердил ворон и, свалив голову на сторону, посмотрел на Веселицу красным печальным глазом.
Веселица запустил в него снежком, угодил в икону божьей матери над вратами – ворон вздрогнул, взмахнул крыльями и полетел к лесной опушке.
Шла от опушки на пригорок неспешной походкой улыбчивая монашка. Остановилась возле Веселицы, оглядела с головы до ног.
– Что-то не встречала я тебя в наших краях, добрый молодец, – сказала она, продолжая улыбаться. – Да так смекаю некрепким своим умишком: привела тебя к нам не радость, а печаль. Почто стоишь у ворот, снег бросаешь в икону божьей матери?
– За икону – прости: в ворона метил. А привела меня сюда и впрямь не радость, – ответил обнадеженный ласковым обращением монашки Веселица.
– Так что же – сказывай.
– Да что сказывать-то? Сказ мой короток: живет в вашем монастыре сестра Феодора. Слыхала ли?..
– Как не слыхать, – живо откликнулась монашка. – Да нынче посадила ее игуменья на покаяние – грехи великие отмаливать. Согрешила она, ох как согрешила...
– Да что сотворила-то Феодора? Что сотворила-то? – забеспокоился Веселица. Сердце любящее – вещун: не зря спешил он к монастырю.
– Эвона как побледнел! – подивилась монашка.– Лица на тебе нет. Да не волнуйся шибко-то. Отмолит Феодора грехи – свидитесь...
– Нынче свидеться хочу, – схватил Веселица монашку за рукав.
– Ишь, чего захотел, – высвободилась она. – Прыткой ты, как я погляжу. Вот кликну людей – они те надают затрещин...
– Люба мне Феодора, оттого и сам не свой, – признался Веселица. – А ты на меня не серчай. Почто звать людей? Сам уйду...
И стал надевать лыжи.
– Погодь, не егозись, – вдруг смягчилась монашка. – Как звать-то тебя?
– Веселицей...
– Вот и ладно. Ступай-ко домой, Веселица. А про то, что был ты здесь, я сестре Феодоре шепну...
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Княгиня Мария пришла к Досаде на роды. Появился на свет мальчуган-крепыш, огласил ложницу пронзительным криком, – стоя за дверью, Кузьма Ратьшич слушал малыша с успокоением. Наконец-то!.. Долго ждал он этого часа.
Потом его впустили к роженице, он сам держал на руках маленькое, почти невесомое тельце ребенка, с тревогой заглядывал в личико, угадывал свои черты.
– Не урони, – слабо говорила Досада, следя за Кузьмой испуганным и счастливым взглядом. – Не тискай шибко-то, мал он еще...
Кузьма смеялся, баюкал ребенка, раскачивая его на руках, нежно посматривал на жену.
– Ничо, пущай привыкает, не девица, чай...
Вскоре на двор к Кузьме пожаловали гости. Услышав шум, ржанье и похрапывание многих коней, хозяин выскочил на крылечко, почти лицом к лицу столкнулся со Всеволодом. Князь обнял Кузьму, расцеловал его, впереди всех вошел в избу,
В сени набились дружинники, говорили наперебой и громко, шутя ударяли Ратьшича кулаками в бока и по плечам, возбужденно смеялись.
Кормилица вынесла им на показ новорожденного, маленький сверток бережно переходил из рук в руки.
– Весь в батьку, – говорили дружинники, чтобы угодить Кузьме.
– Веселой, ишь как глазками-то стрижет...
– Добрый сын всему свету на зависть.
– Вырастет – славный будет вой...
Кузьма светился от похвал.
В горнице тем часом нагнанные со всего двора слуги проворно накрывали на столы, стараясь не потревожить дружинников, пробегали мимо, гремели чашками, обдавали прилипшими к одежде запахами жареной рыбы, мяса и чеснока...
Застолье затянулось. Не жалея, в великом множестве палили свечи. В избе стало угарно и жарко – Кузьма велел отволочить оконца. Крики и песни дружинников полошили улицу, с улицы наносило в избу морозный воздух, над головами пирующих клубился пар...
Досада слушала шум и пьяные крики, покоилась на просторном ложе обессиленная, глядела в темноту, то радуясь, то грустя.
Жила она эти годы словно замороженная, но вот скатилась по ее щеке первая слезинка, теплой капелькой пощекотала губы, и впервые пробилось сквозь лед благодарное чувство к Ратьшичу.
Терпелив был Кузьма, любил ее крепко – жил с холодной женой, но словом злым ни разу не попрекнул. А мог бы!..
Бывало, замечала она, как удалялся он из ложницы белый от гнева. Сжимал до хруста зубы, тушил в себе внезапный гнев, уезжал надолго. Возвращаясь, снова ласкал ее, заглядывал с надеждой в глаза, но себя в них не видел.
Всё замечала она, но холодности своей не могла пересилить. Мечтала о немыслимом, ждала, у окошка сидя, чуда: мерещилось ей, будто доносит ветер издалека частый перестук копыт. Вот сейчас распахнутся ворота, и, пригнувшись под вереей, въедет во двор долгожданный всадник. Спрыгнет с коня, бросит поводья отроку, взбежит на крыльцо. Скажет: «Здравствуй, Досада!», переступит через порог, прижмет ее к сердцу, и замрет она в его крепких руках...
– Принесли Всеволоду печальную весть из Царьграда, – сказала как-то Мария, глядя на нее из-под опущенных ресниц. – Будто помер Юрий Андреевич на чужбине...
Вспыхнула Досада – не захотела поверить княгине, дерзко заговорила шепотом:
– Не верю... Не верю... Злой наговор это. Жив Юрий. Жив!..
– Может, жив, а может, и вправду помер. Послал Всеволод гонца в Киев к митрополиту. Скоро вернется.
Две недели прошло, не возвращался гонец. И Мария будто забыла о разговоре.
Успокоилась Досада, но как-то вечерком кликнула ее к себе княгиня. Вошла Досада в терем – и сердце забилось подстреленной птицей: Мария сидела на лавке, а перед нею стоял молодой дружинник князя.
Тут вспомнила Досада, что видела на княжом дворе коня, что кто-то даже вроде бы обронил на всходе, что прибыл гонец из Киева. Но мало ли прибывает ко Всеволоду гонцов из разных концов земли!.. Тогда она и не дрогнула, проходя через сени, а тут подкосились ноги.
– Не верила ты мне, Досада, так выслушай гонца,– сказала Мария чужим голосом.
– Все истинно, боярыня, – кланяясь, молвил гонец. – Помер Юрий, схоронили князя на царьградском кладбище. Мир праху его...
– Мир праху его, – перекрестилась Мария.
Досада ойкнула и повалилась на пол. Гонец кинулся поднимать ее, княгиня кликнула бабок.
Много шума наделала Досада в тереме, еще больше всполошила Кузьму. Прискакал он с далекого погоста где собирал для Всеволода дань, всю ночь просидел он у ее ложа.
Словно с другого света воротилась Досада в привычный с детства мир. Но хоть и был привычен окружавший ее мир, а многое в нем внезапно переменилось. Не стало у сердца холодного ледяного комка, отошла мучившая ее годами боль, мысли высвободились из бредового плена...
Неуж это с нею все было?! Неужто не видела она ране ни этого солнышка, ни этих снегов, ни звезд, ни месяца? Неужто не слышала доброго голоса кормилицы, ласкового шепота Кузьмы? Неужто не выходила на крыльцо,
не любовалась плывущими в синеве корабликами белых облаков?..
И если грусть еще порою и застилала ее взор, то быстро проходила. Под сердцем шевелился живой комок, настойчиво и грубо напоминал о себе. Был он родной плотью, кусочком ее существа. Прошлое уходило, таяло, забывалось.
Новое рождалось в трепете и муках.
И когда она услышала детский крик, когда увидела склонившихся над нею озабоченных мамок и держащую в руках крохотное существо Марию, – откинулась на подушках и мирно ушла в тихий и светлый сон...
Славно погулял Всеволод с дружинниками у Кузьмы. Пили меды и брагу, песни пели и плясали, утром слушали гусляров. Гуслярам тоже наливали медов, охмелевший Кузьма щедро оделял их подарками.
Кланялись Кузьме и князю одуревшие от неслыханной щедрости гусляры, обещали песню сложить про боярина.
– Вы про боярыню песню сложите, про дите мое,– упрашивал их Кузьма.
– Не сумлевайся, сложим и про боярыню, – пообещали гусляры. – И про дитё твое сложим. Дай-то бог вам, добрые люди, счастья и многая лета...
И снова наливали в чары гуслярам медов, и снова пели охрипшие гусляры, сменяя друг друга.
Сдержали слово свое гусляры – тем же утром, еще хмельные, сказывали на торгу о Кузьме Ратьшиче:
Ох ты гой еси, Кузьма, добрый молодец,
Ручки белые, ножки резвые...
Ты глядишь вокруг ясным соколом,
В поднебесье бьешь черна ворона...
Будь здоров, Кузьма, со Досадушкой,
Со Досадушкой, с соколеночком,
Со своим сыночком-робеночком...
– Ай вовсе обробли, гусляры? – смеялись над ними мужики на торгу. – Ране-то вы иные песни сказывали...
– За иные-то песни, – говорили гусляры, – медов сладких не поднесут. Спины у нас не деревянные, битые-перебитые...
– Так ступайте отсель, – грозились мужики. – Не хотим про Кузьму слушать. Душегуб он и зверь. Не сокол, а худая галка.
Людская молва впереди человека бежит: кому трубит славу, а кому и позор.
Но не слышал слов тех Кузьма – радостью своей упивался. И, провожая Всеволода с дружиною, говорил князю:
– Милостью своей одарил ты меня, княже. Вовек доброты твоей не забыть.
– Полно тебе, Кузьма, – отвечал разомлевший Всеволод.– Еще и на других родинах попируем. Ты Досаду-то береги.
– Как не беречь ее, княже!..
Ехал князь через торговище, правил коня в толпе, слышал, как переговариваются за спиной дружинники:
– Не чает в Ратьшиче души наш князь. А меды-то у Кузьмы прокисли...
«Нет пропасти супротив завистливых глаз, – печально размышлял Всеволод. – Не вылакает собака реки, так всю ночь стоит над рекой и лает... Верны ли мне люди сии?.. Ежели другой поманит послаще куском – не переметнутся ли?..»
В Кузьму он верил. Не выдаст его Кузьма, на чужие дары не прельстится...
2
Давно не хаживал Никитка на княж двор. С той самой поры, как поставил он Дмитриевский собор, как осмотрели храм князь с епископом Иоанном, не звал его к себе Всеволод, сам к нему, как прежде, не наведывался.
Стали появляться в его хоромах другие мастера. Разные слухи доходили до Никитки будто видели на княжом дворе двух зиждителей из Галича, один приезжал из Царьграда, а одного привезли с собой доверчивые купцы из славного города Магдебурга.
Того, что из Магдебурга прибыл, повелел князь во гневе гнать от себя на все четыре стороны, даже коня не дал на дорогу. Вроде бы между делом, вроде бы просто так стал плюгавый немец склонять Всеволода в папскую веру, хаял византийский обычай, поносил божьи церкви. Златые горы ему сулил, называл почтительно «цесарем»...
Царьградский мастер оказался стариком с заносчивым нравом. Звал его Всеволод к себе на пир, угощал хлебосольно, ни вин, ни медов не жалел – наутро застали дружинники хлипкого старика в страшных корчах: схватило ему живот. Едва выходили ромея, едва увезли из Владимира. До сих пор сомневался князь, довезли ли его до Царьграда, не кончился ли по дороге. Беда!..
А двое из Галича оказались и не мастерами вовсе. Ели-пили себе в удовольствие, а потом потихонечку и сбежали. Говорят, далеко им уйти не пришлось – схватили добрых молодцев возле Рязани и отправили в Галич под крепкой стражей: пущай-де свой князь разбирается, у Всеволода и без них довольно забот...
Робел Никитка, ступая на княж двор. Думал, не допустит его до себя Всеволод. А тут еще Авраам – стыдно будет перед новгородским мастером.
Но князь допустил к себе и Никитку, и Авраама, ласков был и обходителен, угощал дивными плодами и сладостями из южных стран, до коих сам был великий охотник, слушал не перебивая и со вниманием.
В хоромах было жарко, князь сидел в рубахе, подпоясанной шелковым шнурком, в коротко подстриженной русой бороде блестели седые нити, волосы на голове гладко расчесаны на прямой пробор.
Глаза, устремленные на Никитку, были по-былому добродушны, но плавала в них едва заметная холодинка, которой раньше камнесечец не замечал.
– Слушаю я тебя, Авраам, и радуюсь, – говорил Всеволод. – Любовью к отчине исполнены твои слова. И так думаю: сидите вы оба передо мною – один из Владимира, другой пришел из Новгорода, а нет меж вами вражды.
– Просты и мудры слова твои, княже, – сказал Авраам, кланяясь.– Ехал я из далеких краев, страхов натерпелся на дорогах – самому захотелось взглянуть на дела рук моего собрата... Не отпустишь ли и ты со мною Никитку в Новгород?
– Отпусти, княже, – робко вступил в разговор Никитка.
Всеволод смотрел на него с усмешкой.
– И не проси, – сказал, покачивая головой. – Но не потому не отпускаю я тебя, Никитка, что зло затаил. Есть у меня иная задумка. И знаю, будет она тебе по душе.
– Не томи, княже, – подавшись вперед, взволнованно проговорил Никитка. – Неужто счастье снова оборотилось ко мне ясным своим ликом?
– Шибко-то не радуйся. Прогневил ты Иоанна, – сказал, нарочито хмурясь, Всеволод. – Про то ведаешь...
– Да тебя прогневил ли?
Князь промолчал, тонкими пальцами постучал по изогнутым подлокотникам кресла. Лицо его оставалось невозмутимым.
– Вот тебе мой наказ, – снова заговорил Всеволод, упер немигающие зрачки в Никиткины глаза. – Поставишь новую церковь и монастырь заложишь над Лыбедью... Сможешь ли?
– О чем вопрошаешь, княже? – удивился Никитка.– И церковь поставлю, и монастырь заложу...
– Хочу княгиню порадовать. И собор тот и монастырь в честь ее нареку...
Что встревожило Никитку во Всеволодовом взгляде? Почему вдруг отступила мгновенная радость? Не быстры, как прежде, холодны и неприступны были глаза князя. Устало опустились веки, обмякла ладонь – пальцы лежали на подлокотниках кресла мертво и неподвижно.
– Вот и выходит, что нет тебе пути в Новгород, – сказал Всеволод со слабой улыбкой...
Ушли мастера. И снова тишина водворилась в тереме. С утра оглушила она князя: едва пробудившись, едва открыв глаза, почувствовал он на себе ее мягкое прикосновение.
Поздней ночью, разорванная на куски веселым застольем, пряталась она по темным углам и щелям, и князь не страшился ее. Вино колобродило в его жилах, вокруг сидели раскрасневшиеся бояре, скалили зубы дружинники, суетились слуги, бренчали гусли...
Потом тишина обрела плоть. Падая в пропасть на жесткой лежанке, откинув отяжелевшую голову, князь чувствовал, как она бесшумными волокнами набивалась ему в уши, в рот и в ноздри, залепляла глаза и, зловеще укачивая его, проникала внутрь сквозь кожу расслабленного, немощно распятого на шубе неподвижного тела...
В тишине проявлялись уродливые лики, без крика разевали рты, кривили губы и гримасничали, и из тьмы, из непроницаемого облака, стали сперва робко, а затем все настойчивее просовываться скрюченные пальцы, слепо шарили по его груди и лицу – холодные, неживые, враждебные...
Утром Мария спрашивала, держа голову князя в прохладных ладонях:
– Да что с тобою? Отчего не весел?..
– Снова худо мне, Мария, – отвечал Всеволод. – Совсем худо... Уж не приспело ли? Уж не призывает ли меня господь?..
– Еще что выдумал.
– Неможется мне...
– Отдохни.
– Слабость в руках и ногах: мочи нет... Людей видеть не хочу, – бормотал князь. – Лики страшные приходили в ночи...
– От медов это. Не молод ты – поостерегся бы...
– Сыновья-то неразумны еще, – говорил Всеволод с горечью. – На кого землю свою оставлю?
– Эко заладил одно, – успокаивала Мария, а сама пугалась случившейся в князе перемены. – Поехал бы на охоту... Виданное ли дело – всё в пирах да заботах.
– В ночи-то смутно было. Нынче лики стал различать: будто Давыдку видел, будто Юрия... Не знамение ли это? Не кличут ли меня они на страшный суд?
– Пустое все это. Не верь снам, – угадывая его мысли, сказала княгиня. – Наговорили на тебя худое люди, вот и встревожился.
Глаза князя беспомощно скользили по лицу Марии, ища поддержки.
– Может, сыновей к тебе кликнуть?..– улыбаясь, ворковала княгиня.
– Не до них мне...
– Иоанн в тереме, сам на беседу звал.
– Ты останься.
Мария осталась, слушала горячечную речь князя, прижимаясь лицом к его руке, гладила ему плечо и старалась заглянуть в глаза.
Всеволод избегал ее взгляда, но понемногу смягчился, былые страхи отступали, таяли в свежем утреннем воздухе.
– Добрая ты у меня, – говорил он, начиная отзываться на ласки жены – Сколь уж вместе живем, а не слышал от тебя злого слова. Тяжко тебе со мной?
– Старость – не в радость. Годы-то так и бегут, – говорила Мария. – Давно ли привезли меня во Владимир, Давно ли встречал на дворе, а уж детей-то сколь взрастили... Скоро внуки пойдут.
– Славных народила ты мне сынов... Только вот балуешь их...
– Да как же без баловства? И деревцо, ежели не холить, не баловать, засохнет на корню. Дети они...
– Княжичи.
В ложнице быстро светлело. Убранные морозным узором окна розовели. Мария встала, потушила свечи. Подняла небрежно брошенный на лавку кожух, укутала им плечи мужа, провела ладонью по влажным волосам князя.
– Зови Иоанна, – сказал Всеволод, распрямляясь.
– Поспать бы тебе еще...
– Будя, наспался уж, – отмахнулся князь.
Мария бесшумно вышла. На пороге появился Иоанн. Лицо свежо, в глазах – сытость и довольство. «Засиделся во Владимире-то», – подумал Всеволод, разглядывая епископа.
Иоанн прищурился, перекрестил князя, подбирая полы длинной однорядки, сел против Всеволода, сложил тяжелые руки на коленях. Ждал.
– Новостей не слышу из Новгорода, – сказал князь с раздражением. – Почто Словиша молчит?
– Ефросим пришел ко владыке, – медленно произнес Иоанн.
Всеволод вскинул глаза, тяжелым взглядом пронзил епископа:
– Позже всех узнаю...
Иоанн мягко сказал:
– Не серчай, княже. Вечор прибыл гонец. Тебя беспокоить не стали.
– Говори, – коротко бросил Всеволод.
Иоанн усмехнулся:
– Бунт велик был в Новгороде. Сказывают, толпы пришли на Владычный двор. Мартирий укрылся в хоромах. Бесновался игумен, обвинял владыку в подлоге. После сам молебен служил в Софийском соборе...
Всеволод оживился, вскочив, прошелся по ложнице из конца в конец. Сцепив руки за спиной, остановился перед епископом. Теперь, когда он стоял вблизи, лицо Иоанна уже не казалось ему таким самодовольным и сытым: синие подглазины, на лбу – мелко собранные морщины, выдавленная через силу улыбка печальна и слаба.
– О чем думаешь, княже? – обеспокоенно спросил епископ.
– Недолго осталось ждать, – словно не расслышав его вопроса, проговорил Всеволод.
– Чего ждать-то? – не понял Иоанн.
– Ты в Ростов скачи,– вдруг быстро заговорил Всеволод, пригнувшись почти к самому его лицу. Дышал тяжело и неровно. – Шли людишек своих к Ефросиму. Пущай беспокоят старца, пущай нашептывают: князь Всеволод, мол, за тебя. Мартирию не место во Владычных палатах, Рюрику не до него. А у иных князей и без того хватает забот... Мирошку Словиша побеспокоит. Скачи.
– Не угнездится Ефросим на Софийской стороне, – покачал головой епископ. – Без бояр на владычный стол ему не сесть. Людишки побунтуют и разойдутся по домам. Плохо кончит игумен.
– Про то и без тебя ведаю, – сказал Всеволод. – Нешто вижу я Ефросима на Софийской стороне?.. Он кашу заварит. Владыке ее расхлебывать. А Боярскому совету решать, кого брать к себе на княжение. Покуда на меня не обопрутся, не знать им спокойного житья. Придут, поклонятся. Я же дам им Ярослава...
– Сызнова ты за свое, князь, – попытался робко возразить Иоанн, но тут же испуганно осекся.
Всеволод наклонился еще ниже, приблизил к нему сузившиеся от сдерживаемого гнева глаза.
– Вижу я тебя насквозь, Иоанн, – прошипел он в лицо епископа. – Ежели бы не знал, что верен ты мне яко пес, подумал бы: а не хаживают ли на твой двор Мартириевы посланцы, не складывают ли к ногам твоим даров великих, дабы смущал ты князя в его твердых замыслах...
– О чем говоришь ты, княже?! – вскочил Иоанн, бледнея от страха и возмущения. – Почто возводишь на меня хулу? Иль не служил я богу и тебе верой и правдой все эти годы?
– Служил, – спокойно сказал Всеволод. – И ныне служишь. А того не разумеешь, что взбесившуюся собачью свору плетью укрощают, а не лаской. Единожды уступлю я Новгороду – после всегда придется уступать.
– Но ежели пошлешь ты сына свого на новгородский стол, нешто, как и прежде, не останешься хозяином?
– Останусь, – сказал Всеволод. – После, может, и пошлю. Но нынче от сказанного не отступлюсь. Не из рук Мартирия примут они сына моего – из моих рук.
Иоанн провел рукавом по мокром лбу, сникнув, опустился на лавку. Сидел молча, перебирая на коленях однорядку. Всеволод дышал тяжело. В груди стесненно колотилось сердце. Верно он угадал, вона как всполошил Иоанна. И тупой болью откликнулось почти забытое: нет Микулицы, отлетела его душа, а как не хватало князю его мудрого совета!..
На том и кончился разгозор Всеволода с епископом.
Иоанн удалился растерянный. На прощанье вяло перекрестил князя, шевеля поблекшими губами. Синяки под его глазами стали еще темнее и глубже, щеки податливо впали...
«Ничего, переможется», – подумал Всеволод почти весело. Исчезла слепота и вялость в мыслях, сердце забилось ровнее и чаще.
И когда он беседовал после обильного обеда с Никиткой и Авраамом, от ночных, встревоживших его видений не осталось и малого следа.
3
Попы – народ недобрый и завистливый. И то, что Четка был взят из худого прихода и приставлен обучать грамоте Всеволодовых сыновей, вызывало в них недоумение и злобу.
Слыл Четка среди своих собратьем человеком серым и неприметным, службы справлял в старенькой церквушке на краю Гончарной слободы, ни за венчание, ни за отпевание мзды не брал. Еще недавно была у него жена, попадья Овдотья, – бог прибрал ее; Четка грустил, но воли себе не давал, не пьянствовал и не прелюбодействовал, как другие попы, а просиживал ночи напролет за книгами, ползая остреньким носом по загрубевшим листам. Великая грамотность, однако, добра ему не приносила: он часто
вступал в споры с протопопом Успенского собора и даже с самим епископом Иоанном, по-своему толкуя те или иные места Священного писания, за что не раз наказуем был строгой епитимьей, а однажды даже бит посохом... Никто и в мыслях не держал, что может Четка привлечь к себе вниманье князя. Скажи такое – померли бы со смеху попы.
Вот почему и не встревожились они, когда приехал за Четкой Кузьма Ратьшич, а только еще раз позлорадствовали: знать, снова натворил невесть что непутевый поп, знать, снова срамил Иоанна – так пусть же получает за дерзость свою сполна...
Так-то гадали, да прогадали попы – привалило их худому собрату неслыханное счастье!.. Не зря сидел Четка над книгами, покуда пили они меды и брагу, не зря изобличал Иоанна – сам Иоанн его и приметил, сам и посоветовал Всеволоду взять ученого попа к своему двору.
Увез Кузьма Четку – и след его простыл. Лишь много времени спустя, стал он появляться на улицах Владимира, сопровождая молодых княжичей на прогулках.
Путаясь в толпе, попы смотрели на Четку с завистью, старались попасться ему на глаза. Тайные мысли были у них: а что, как еще осталось на княжом дворе теплое местечко? Что, как признает их Четка да и шепнет Ратьшичу: мол, есть у нас и еще достойные – не пожелает ли князь и на них взглянуть?..
Смешные были попы, суетливые и недогадливые. Протопоп – тот больше знал и дале их всех глядел.
– Дураки вы, псы алчущие, – сказал он им. – Как пили вы брагу с прихожанами да прелюбодействовали, Четка времени зря не терял. Не токмо Святое писание знает он – зело учен ваш собрат и умом изворотлив. А вы и двух молитв выучить не смогли – куды же вам на княжой двор? Вас и из приходов гнать надобно...
Тут только просветлило попов, тут только поняли они всё и тогда взъярились на Четку всею братией.
Да толку-то что – разве его ныне достанешь? Ныне ест-пьет он во Всеволодовом тереме – и не постную похлебку и не разбавленное водою вино: рядом с князем живется ему сладко.
Воистину дураки дураками и останутся, и многим то было невдомек: не на радость и не на сладкое житье забрал князь Всеволод в свой терем ученого Четку, а на еще большие унижения и муки. Бил Четку, случалось, во гневе протопоп; бил его и на княжом дворе Кузьма Ратьшич. Бил протопоп посохом, а Ратьшич бил его плетью. А еще бил Четку сам князь, ежели провинится. Вины же за Четкой ежедень – видимо-невидимо: то один княжич встал бледен, то другой не выучил псалтирь, то третий оцарапал щеку. Даже то, что числиться должно было за дядьками, все равно вменялось Четке в вину...
Больше всех изводил его Константин: был он вертляв и непослушен, дергал Четку за бороду, поджигал ему рясу и совал в постель холодных лягушек и жаб. На прогулке за ним глаз да глаз нужен: того и гляди – угодит в лужу или влезет на дерево... А жаловаться на него князю – ни-ни: с самого же Четки Всеволод и спросит. Никогда не знаешь, где и подстергает тебя беда.







