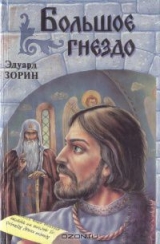
Текст книги " Большое гнездо"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
Мужик был из людей торговых, обоз его ушел вперед, а у него конь расковался.
– Ладно, – сказал Словиша. – Поехали с нами. Но только гляди, кони у нас быстрые. Ежели не поспеешь, ждать тебя не будем, – дело у нас срочное...
– Поспею, – согласился мужик.
И верно, жеребец у него был сноровистый, шел легко, будто земли не касаясь. Мужик лихо держался в седле.
Не понравилось это Словише.
– Погляди, – сказал он Звездану. – А не князево ли у коня тавро?
И верно, такими печатями метили только в табунах у Давыда.
– Ловкий мужик, безвредным купчишкой прикинулся.
– Ничо, – сказал Звездан, – на иную хитрость хватит и простоты.
Тихо они перекинулись, мужик разговора их не расслышал. Красуясь сбоку от них в седле, расспрашивал, будто от скуки:
– А вы, добрые люди, кто такие будете?
– Я Всеволодов дружинник, а он – Давыдов, и едем на ловища за княжескою нуждой, – ответил Словиша.
– Да нешто и Всеволодовы ловища по Днепру?
– Экой ты, купец, занозистый, – усмехнулся Словиша. – Все тебе расскажи да покажи. Коли взяли с собой, так скачи, помалкивай...
Еще больше раззадорил он мужика. Верно, подумал он: нет, не обманулся, те самые это людишки и есть, которых он поджидал у кузни.
– Едем давно, а всё незнакомы. Зовут-то тебя как? – спросил Словиша.
– Зовут меня Донатом.
– А меня – Словишей, а его – Звезданом.
Радостью блеснули глаза мужика: все так и есть. Этих двух он и ждал из Смоленска. Ночью, провожая в путь с княжого двора, наставлял его сотник: «Словишу со Звезданом ищи. Гляди, не проморгай. А сыщешь, так высмотри, куды держат путь, с кем встренутся, какие речи станут промеж собой говорить. Все слушай и примечай – Давыд тебя отметит.
– Хороший у тебя конь, Словиша, – сказал Донат.– Отродясь такой масти не видывал.
– А и не увидишь боле, – похвастался Словиша. —
Коню моему цены нет. Везли его из-за моря булгарскому хану, да, глянь, мне достался.
– Да как же достался-то?
– Про то я никому не сказываю. Купец так наказывал: возьмешь коня, а за что про что – говорить никому не смей. Коли скажешь раз, охромеет твой конь, два скажешь – на обе ноги падет, а с третьего раза и вовсе останешься без коня.
– Значит, заговоренный он у тебя.
– Может, заговоренный.
– Ишь, – засмеялся Донат, – сказки сказывать ты молодец. А мне не отдашь коня? За ценою не постою...
– Ты – купец, зачем тебе боевой конь? – удивился Словиша.
– Дело наше, купецкое, не простое. Боевой конь для купца – верный товарищ.
– Да и у твоего ноги быстрые, – заметил Звездан. – И твой не простой породы.
– Моего коня дарили мне в Киеве, – гордо сказал Донат.
– Оттого и тавро на нем Давыдово, что ль? – спросил Словиша.
Опешил Донат, поводья чуть не выпали из его рук.
– Ну так что, Донатушка, – наехал на него Словиша. Звездан с другой стороны объезжал купца. – Правду будем говорить али и дальше поедем рядышком, будто верно по одному делу скачем?
– Не дури, Словиша, – сказал, оправляясь, Донат (оказывается, не робкого он был десятка), – про что речь свою повел, мне догадаться трудно. Сказывай прямо, ежели что не так. А загадками меня не мучай.
– Видал, каков гусь, – перекинулся Словиша со Звезданом усмешливым взглядом. – Может, отпустим купца? Али с собою возьмем?
– С собою брать его нам несподручно, – сказал Звездан.
– Слышал, Донатушка? – обратился Словиша к попутчику. – Выходит так, что дале тебе с нами не по пути.
– Дорога у нас обчая, – ответил Донат, – а коли вам со мною не по пути, так ступайте сами.
– Ласки в глазки, а хитрость твою мы видим насквозь, – покачал головою Словиша. – Ну-ко, выбирайся из седла.
– С разными татями доводил меня бог встречаться, а таких вижу впервой.
Говоря так, Донат осторожно разворачивал коня.
– Ну-ну, не замай, – пригрозил ему Звездан, – берясь рукой за поводья.
– Ты чего? – зло проговорил Донат.
– Велено было тебе слезать. Аль помочь?
– Ваша взяла, – сказал Донат и спешился. Стоя между дружинниками на дороге, затравленно ощупывал их острыми глазками.
– Что дале-то с ним делать будем? – спросил Словиша Звездана. – Жаль рубить мужика.
– Жаль, – согласился Звездан.
– Не рубите меня, люди добрые, – попросил Донат. – Берите коня, а пеший куды я за вами?
Дружинники задумались.
– Ты и пеший нам в опаску, – сказал Звездан. – Встретишь кого из своих али сам отберешь коня. Давай свяжем его, – повернулся он к Словише.
– Свяжем, а сунем куды?
– Пущай в кустах отлежится. А на обратном пути он нам не страшен. Отпустим, пущай молится за нас: другие-то, чай, давно бы его прибили...
Пока связывали Доната, пока волокли его в кусты (тяжел был!), он все благодарил их неустанно:
– Спасибо, люди добрые, уважили. Дай бог вам счастья!
– Нишкни ты, – пнул его под бок Словиша, – чего разговорился?
Дружинники привалили мужика к сосне, прикрыли ветками – издалека не видно.
– К вечеру жди, – пообещали ему, сели на коней, повели его коня в поводу и облегченно поскакали дальше.
До условного места еще не близко было, и одолели они трудный путь, когда солнце перевалило за полдень.
На пригорке впереди них показались верховые.
– Попридержи коня, – сказал Словиша, – не ровен час, в Давыдово нерето угодим.
– Да как же признаем мы своих? – удивился Звездан.
– Про то князь нам не сказывал, а поглядим, что дале будет...
С пригорка их тоже заметили. Два всадника отделились и поскакали им навстречу. Сдерживая вороного жеребца, откидываясь назад, скакавший впереди вой громко прокричал:
– Эй, вы кто будете?
– Мы от Всеволода, а вы? – спросил Словиша.
Не отвечая, всадник подъехал ближе. Рассеченное темными шрамами лицо его было неулыбчиво.
– А при вас ли княжеская печать? – спросил он, протягивая руку со знаком черниговского князя в большой полураскрытой ладони.
Словиша показал Всеволодову печать. Всадник внимательно разглядел ее и вынул из-за пазухи пропыленного кожуха свернутую трубкой грамоту.
– Не велено ли что сказать князю? – спросил Словиша, пряча грамоту.
– Говорить ничего не велено, – отвечал всадник и развернул коня.
Коротка была беседа. Не успели дружинники и двумя словами перекинуться, как отряд скрылся за пригорком...
Возвращались с еще большими предосторожностями, понимали, ежели грамота попадет в чужие руки, быть беде. Но дорога, как и утром была пустынна, а Донат на давешнем месте дожидался их, похрапывая под сосновыми лапами.
– Заснул, что ли? – усмехнулся Словиша, расталкивая дорожного знакомца.
– А и вправду заснул, – удивился Донат и сладко зевнул.
– Вставай-вставай, неча разлеживаться, – поторопил его дружинник. На устах Словиши играла добрая улыбка.
Не удержался от улыбки и Звездан. Чем-то нравился ему случайный попутчик: всякий ли на его месте уснет, а ему хоть бы что.
– Бери своего коня, – протянул ему поводья Словиша, – да скачи посередке. Ежели рыпнешься, будем рубить. Понял ли?
– Как не понять...
К Смоленску подъезжали в сумерки. В виду обнесенного деревянным тыном посада остановились.
Донат спросил:
– А мне куды?
– Погоди, покуда не въедем в ворота, а там езжай к своим деткам.
– Доброй ты...
– Не всякое деяние благо. Ишшо спросит с тебя Давыд.
– Авось и пронесет...
Как и было сговорено, Донат попридержал коня, а потом тихой рысью направился вслед за дружинниками.
Еще два дня погостило Всеволодово войско в Смоленске, на третий день, растянув обозы, двинулось обратно – к Москве.
В грамоте, переданной через Словишу со Звезданом, черниговский князь клялся Всеволоду в дружбе, просил мира и обещал кликнуть из Новгорода своего сына. На том клятву давал и при епископе целовал крест...
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Плохо притворенная дверь мельницы визжала и хлопала. Ветер налетал порывами, рвал усталые листья на деревьях, корежил и сбивал с крыши почерневшую от дождей щепу.
Поминая черта и лешего, Гребешок перебрался через спящую теплую Дунеху, натянул на исподнее порты и направился к двери. Ветер был так силен, что дверь не сразу поддалась под его плечом. Мельник замешкался.
Дунеха на лежанке сонно пробормотала:
– Зипун-то набрось, зябко.
Гребешок пошарил в темноте рукой, набросил висевший возле двери на гвоздике зипун, отворил дверь. Ветер бросил ему в лицо охапку листьев, распахнул полы зипуна. Гребешок наклонил голову и боком выскользнул за порог. Дверь тут же захлопнулась с сильным стуком.
В вершинах деревьев гудело, низко шли тучи, то и дело загораживая лунный свет. Двор то освещался, то погружался в кромешную тьму. Сложенная из кругляков мельница, казалось, вот-вот готова была раскатиться по бревнышку.
Заслоняясь от ветра руками, Гребешок с трудом пересек двор, вошел в мельню и привычно огляделся.
Буря оголила часть крыши, и Гребешок, задрав голову, подумал, что с утра ему прибавится забот, а если ветер не стихнет и к утру, то придется перестилать все заново. Стропила раскачивались и визжали, словно живые, мелкая мучная пыль клубилась и застилала глаза.
Гребешок поднялся по шаткой лесенке к жерновам, потрогал рукой составленные у стены мешки с рожью. День предстоял трудный, много нужно было перемолоть зерна, но это его не печалило, а только радовало. «Хорошо, – подумал Гребешок, – урожайный нонешний выдался год...»
В углу, где мельник обычно ставил деревянные лопаты и голички, которыми подметал пол, что-то пошевелилось и неразборчиво проворчало. Гребешок замер, приглядываясь, но ничего увидеть не смог, повернулся обратно к лесенке, однако поднятой ноги на приступок не опустил, оглянулся и вскрикнул: прямо над ним, взъерошенная, нависла большая тень.
– Батюшки-святы, – прошелестел онемевшими губами Г ребешок.
Все, что дальше случилось, походило на сон. Этакие страхи только во сне приходят, да и то ежели хватишь лишку браги али медовушки. Крепкая ручища сдавила Гребешку плечо, и осипший голос сказал:
– Не признал, мельник?
Гребешок ни слова не вымолвил в ответ – его била знобкая дрожь, а ноги словно кто отрезал от тулова. Язык шевелился, но ничего, кроме невнятного мычания, не мог извлечь из перекошенного судорогой рта.
– Эк перепугал я тебя, мельник, – произнесла тень и встряхнула Гребешка за шиворот.
– Ты, что ли, Вобей? – понял пришедший в себя мельник.
– Я...
– Отколь нечистая тебя нанесла?
– Отколь нанесла, не твое дело, – сказал Вобей. – Весь вечер за мешками таюсь, все тебя высматривал.
– Дык с Дунехой я...
– Знамо, – оборвал Вобей, присаживаясь возле мельника на корточки. Высветлившийся месяц облил мертвенным сиянием лицо бывшего конюшего. Гребешок вздрогнул – таким страшным и неживым показалось оно ему. Уж и впрямь не мертвец ли поднялся из колоды, бродит по знакомым местам, беспокоит людей?..
– Будя дрожать-то, – сказал Вобей. – Сам небось с нечистой силой знаешься...
Гребешок быстро перекрестился, отодвинулся от Вобея.
– Слух дошел, будто сгиб ты в Новгороде..
– Жив ишшо, – хохотнул в темноте Вобей. – На, коли не веришь, пощупай.
Он взял холодную руку Гребешка и ткнул себя ею в грудь. Под рубахой у Вобея было горячо и влажно.
– Ну?
– Воистину, жив.
– То-то же...
Но живой Вобей был опаснее мертвого. Слышал Гребешок, как очистил он Одноока, а такое боярами не прощается. Лихой человек Вобей, ему и жизнь загубить – все равно что раз плюнуть.
– Почто меня разыскал, почто по лесам бродишь? – спросил мельник.
– На все твои «почто» ответ у меня один: нет мне во Владимире приюта, а дальше податься некуды. Буду жить у тебя.
– Погубить меня вздумал?
– Рано ишшо. Ишшо покормлюсь у твоих хлебов... А там погляжу, там видно будет.
Угрожал Вобей, над мельником издевался. Держал его руку в своей, будто в волчьей пасти.
– Господи, помилуй, – прошептал Гребешок, пытаясь высвободить руку. – И допрежде не давал ты мне спокою, как был конюшим, и снова на мою голову. Хоть Дунеху не тронь...
– Дура она у тебя, сама придет...
– А ты не озоруй.
– Ладно. Не по мне эти потешки. – Вобей помолчал. – Не бойся меня, мельник, я тебя не трону. И Дунеху не трону. На что она мне?..
– А как народ нагрянет?
– Не бойсь, днем меня и с огнем не сыскать, а ночью доброго человека не нанесет...
На дворе все так же мело жухлые листья и иголки с еловых лап. Гребешок привалил дверь мельни бревнышком, кутаясь в сермягу, вошел первым в избу, покашлял, высекая огонь.
– Дунеха, эй, Дунеха, – пошевелил он жену.
– Чего тебе? – с неохотой проговорила она.
– Вставай не то... Гость у нас.
– Какой ишшо гость? – лениво пробормотала Дунеха и, не подымая головы с подушки, перекрестила рот.
– Вобей вот пожаловал, – сказал мельник.
Жена резво приподнялась на локте и уставилась на расположившегося возле стола, по-хозяйски уверенного мужика.
– Здорова будь, Дунеха, – сказал Вобей, подмигивая.
Баба ойкнула и потянула на грудь свалившуюся дерюгу.
– Ну, чо рот разинула? – набросился на нее Гребешок. – Чай, не чужой человек. Вставай, да поживее.
Дунеха опустила на пол ноги, напялила рубаху – Вобей не спускал с нее глаз.
Гребешок сказал:
– Помни про уговор...
– Как же, помню, – не переставая улыбаться и не спуская по-прежнему глаз с Дунехи, кивнул Вобей.
Баба, быстро двигаясь по избе, накрыла на стол. Гребешок сел пртоив Вобея, долго и пристально смотрел, как он ест. Дунеха вернулась к лежанке, села, быстрыми пальцами переплела на груди косу.
Насытившись, Вобей отодвинул миску с пареной репой, срыгнул и грязным ногтем поковырял в зубах.
– Ране-то лучше угощал, хозяин.
– Ране гости за полночь ко мне не хаживали.
– Теперь будут хаживать, – пообещал Вобей и по-привычному ухмыльнулся.
Дунеха прыснула и раскатилась мелким рассыпчатым смехом. Гребешок нахмурился, смахнул ладонью хлебные крошки со стола. Подождав, пока жена успокоится, спросил гостя:
– Куды укладывать тебя, и в толк не возьму. Сам видишь, изба наша мала.
– Пущай ложится с нами вместе, – сказала баба.
Гребешок почесал пятерней в затылке:
– И тo – хоть с собою ложи...
Долго судили-рядили, но так ничего не придумали: ни подстилки, ни шубы лишней у Гребешка не было, а сермягой – только укрыться.
– Хоть и в тесноте, но не в обиде, – сказал мельник. – Бабу к стене положим, я посередке, а ты с краю...
Так и легли. Тесно было. Жесткая лежанка жгла бока. Дунеха дышала ровно, но не спала, Вобей уснул сразу.
«Эвона как поворотило его, – думала о нем баба с жалостью. – А ведь был мужик справной, не то что мой Гребешок...» Ткнувшись носом в стенку, со сладкой истомой вспоминала, как в былые дни наведывался Вобей на мельницу с целой сворой Однооковой дворни, как ходил по двору, поигрывая плеточкой и покрикивая на услужливого и покорного Гребешка. Светлые это были дни, радостные. Прогнав мельника с подводами в город, Вобей сильными руками тискал Дунеху на этой самой лавке, под этими самыми образами. Так же бесстрастно, как и ныне, высился над лампадкой деисус, так же ветер подвывал под дверью, так же верещал в углу сверчок...
Вздохнула Дунеха, покрылась гусиной кожей от нетерпенья, приподнялась на локте взглянуть на спящего Вобея.
Не смыкавший глаз Гребешок влепил ей затрещину:
– На кого пялишься?
Дунеха обидчиво хмыкнула:
– Чего дерешься-то? Водицы испить я, в груди жжет...
Гребешок выругался, но дал жене выбраться. Перелезая через Вобея, баба прильнула к нему грудью – Вобей даже не шелохнулся. Дыхание затрудненно вылетало из его раскрытого рта.
2
После частых ветров и дождей, зарядивших во Владимире на Михеев день, ненадолго встала перед первыми заморозками тихая и ясная погода. Радуясь солнышку, спешили крестьяне до холодных утренников закончить озимый сев. За Лыбедью до позднего вечера влачились по пашне понурые лошаденки (лучших коней Всеволод взял в поход), мужики покрикивали на них, налегали на орала. Бабы и ребятишки шли следом, кидали в борозду семенное зерно. Во время короткого отдыха, удалившись в тенек, лакомились оставшимся с овсяниц деженем на сладком меду, ели с кислым молоком блины. Последнее лакомство это было в году. По всем приметам зима должна была наступить ранняя и с большими морозами. А еще говорили старушки, будто филин по малу кадей хлебушка набухал с овина...
Пристрастилась Олисава, переплыв в лодочке за Лыбедь, подолгу сиживать на отлогом бережку, на жарком солнцепеке.
Солнышко колышет зайчики на медленной воде, поникли над речкой тронутые первой желтизною ивы, а по другую сторону город взбегает на крутизну холма прихотливо извивающимися улочками, бросают искры золоченые купо
ла церквей и соборов, выше всех вздымается Всеволодов детинец, а над посадами, над слободами, над рекой летят и летят прощально курлыкающие журавли...
Через Лыбедь перевозил Олисаву в лодочке веснушчатый и рыжий, как солнышко, сын ключницы Агапьи Василек. Ласковым он был пареньком и ухоженным. Рубаха на нем всегда чистая, хоть и не новая, штаны кежевые с ровненько вшитыми заплатками, белые онучи и маленькие, по ноге, лапотки. Краснел Василек от каждого обращенного к нему слова, глаза прятал и сам с Олисавой никогда не заговаривал.
– Ты боярышню нашу не беспокой, – наставляла его мать, ключница Агапья. – Не твое холопье дело в хозяйские разговоры встревать. Но гляди зорко. Ежели что боярышне по душе, тут же сполни. На покорстве весь род наш в люди вышел. Не то гнул бы ты сейчас спину на пашне, а не бездельничал в боярском терему...
Материна наука на пользу была Васильку.
Подобрав ноги под нарядную рубаху, сидела Олисава на бережку, камушки бросала в воду, загадывала про Звездана: ежели доброшу до середины – вернется до Успенья, а не доброшу, то и на Семен день не жди.
Размахиваясь пошире, далеко забрасывала камешки боярышня, радовалась скорому возвращению суженого.
– А ну-ка и ты брось камушек, – говорила она Васильку и тоже загадывала: ежели переметнет через речку – скоро свадьбе быть.
Но не зря наставляла своего мальца Агапья – дальше боярышни, чтобы не обидеть, кинуть камушка он не мог, и до середины не добрасывал. Дивился Василек: и отчего сердится Олисава? Никак в толк не мог взять ее хитрую задумку.
Бросала, бросала боярышня камушки, а тут возьми да и сорвись с безымянного пальчика золотой перстенек. Покатился по траве, упал в воду – вот досада.
– Не печалуйся, боярышня, – сказал Василек и даже обрадовался. – Не пропал твой перстенек, я его мигом достану.
Развязал лапотки, размотал онучи, рубаху и штаны снял и в одном исподнем – бултых в реку.
Вода в Лыбеди холоду набрала, будто огнем обожгло Василька. Но не выскочил он на берег, окунулся еще глубже, пошарил тут, пошарил там, ткнулся ладошкой в осоку – нащупал перстенек.
Олисава вскочила, захлопала в ладоши:
– Ай да Василек!.. А еще кину – достанешь?
– Как не достать, боярышня! Кинь еще, – дрожа от холода, отвечал Василек.
Подальше бросила Олисава перстень. «Ну, – подумала, – теперь нипочем не достать».
Долго был Василек под водой – уж перепугалась боярышня. Да только зря она волновалась – вынырнула рыжая голова на быстрой протоке, глаза улыбаются, перстень в зубах Василька желтым огоньком светится.
Хорошую забаву нашла Олисава, много раз еще нырял за перстеньком Василек. Совсем посинел парнишка, а хохочет, радуется, что развеселил боярышню.
И боярышне весело: звонким смехом закатывается Олисава, а еще смекает про себя – где-то был здесь поблизости коварный омуток?.. Бросила она перстень в мутную воду:
– Сыщи-ко!
Про омут тот Василек знал: опасное это место завсегда стороной обходили ребятишки. Но боярышни ослушаться он не смел. Окинул Олисаву покорным взором, забрел в реку по колено, перекрестился и сунулся головою в волну.
Тут мужики, оравшие пашню, стали стекаться к берегу, кланялись боярышне, сняв шапки. Раздумчиво говорили:
– Засосет мальца... В прошлом годе Акиндея тут же засосало.
– Акиндей пьян был, оттого и засосало...
– Исстари водится на Лыбеди водяной. Кажись, на ентом месте он и княжичей надумал прибрать.
– Не, то место подале будет, возле самых ворот.
– А здесь гнездо его поганое, не иначе...
– Н-да, засосет мальца.
Страшное сказывали мужики, но никто и не подумал лезть за Васильком в воду. Боярышня развлекается – дело енто ее, рассуждали они. Не ровен час, на свою голову расстараешься.
– Вона, вона малец! – закричал кто-то.
Все подались к берегу.
– А и впрямь выплыл... Ай, да ловок! Давай, давай сюды, – размахивая руками, подманивали мужики Василька.
Но не было в зубах у парнишки колечка, не светилась, как прежде, желтая звездочка.
– Ишь, упрямой какой, – с одобрением говорили мужики. – Нырнул сызнова.
Во второй раз исчезла в черном омуте рыжая голова Василька.
– Ты покличь-ко его, боярышня, – заговорили в толпе. – Вода нынче холодна, как бы и впрямь не потоп малец. Жалко...
– Василек! – слабо позвала перепуганная Олисава.
– Эй, Василек! – загалдели мужики.
Ни звука в ответ. Только трепыхнулось что-то под кустами, будто метнулся потревоженный сом.
– Кажись, спину показал, – прошептал кто-то с хрипотцой.
– Неужто он?
– Он самый и есть, водяной-то... Радуется!
– Ах ты, господи, – запричитали бабы.
– Кшить вы! – прикрикнули из толпы. Люди грудились, затаив дыхание.
Но все закричали разом, когда снова увидели Василька. Голова его была облеплена илом, словно обросшая мхом кочка.
– Греби, греби сюды! – обрадованно кричали мужики.
Василек обреченно вышел на отмель, опустив руки, дышал глубоко. Посиневшие губы вздрагивали:
– Не нашел я твоего перстенька, боярышня. Утоп он...
– Благо, ты не утоп, малец, – с сочувствием заговорили вокруг. Бабы хлопотали:
– Глянь-ко, замерз, сердешный. Ты исподнее-то сыми.
Подхватив одежку, Василек припустил к лесочку быстрой прытью – переодеваться.
– Эй, мужики! – появился на тропинке, сбегающей с пригорка, обросший сивой бородою остроглазый и приветливый человек. – Аль утоп кто?
– Не, слава богу, никто не утоп.
– Так почто шум? – вплотную подошел незнакомый мужик.
– Да вот боярышня кольцо в омуте обронила...
– Твое, что ль, кольцо? – спросил мужик Олисаву.
– Мое.
– А дорогое ли?
– Золотое, с камушком.
– Ha-ко, – сунул мужик стоявшему рядом с ним холопу неструганый батожок. Сам сбросил зипун, стал стаскивать с себя рубаху.
– В омуте кольцо-то, – предостерегли мужика из толпы.
– А нам ничо, – подмигнул мужик Олисаве черным глазом. – Достанем твое колечко, боярышня, не печалуйся.
– А водяного не боишься? – остерег кто-то во второй раз.
– Может, я сам водяной, тебе-то почто знать?
Толпа отпрянула, никто не произнес ни слова. Мужик вошел в реку, зябко передернул лопатками.
– Э-эх, благословясь! – выдохнул он и скрылся под водой.
В толпе стали осторожно переговариваться:
– Кто такой?
– Пришлый!..
– А ликом, кажись, знаком.
– Уж не Вобей ли? – предполжил кто-то.
– Куды там, Вобей ишшо в запрошлом годе сгиб...
– Да верный ли слушок?
– Сам Одноок сказывал...
– Одноок скажет!
Мужик фыркал и плескался в омуте, как рыба. То здесь пощупает дно, то там. Перстенек маленький, в донный ил зарылся, шутка ли сыскать его в реке! А то и вовсе снесло течением...
Долго нырял мужик, всем наскучило. Толпа стала медленно расходиться: у всех своих дел невпроворот – вона еще сколь пашни оралом не пройдено. Мужики стронули отдохнувших кобыленок, бабы и ребятишки подхватили коробья с зерном.
Одному только старосте делать нечего: как прилип он к берегу, и все про себя смекает: «Вобей али не Вобей? Дай-ко поближе взгляну».
Наконец мужик размашистыми саженками подплыл к берегу, отряхнулся, направился к своей одежке.
– Достал ли колечко-то? – спросил староста.
– Не, – спокойно отвечал мужик.
– А в ладошке чо?
– Отлипни, старой.
– Ты ладошку-то раскрой, – наскочил на него староста петухом. – В ладошке колечко-то!.. Эй, люди!
Мужики неохотно остановили лошаденок.
– Идите сюды! – позвал их староста. – Нашел ин он колечко-то, а не отдает...
– Ну, чо расшумелся, чо?! – мужик застегнул на груди зипун, поднял с земли батожок, замахнулся на старосту.
Отшатнулся староста, заслонился рукою, заблажил:
– Вобей енто, Вобей! Признал я его.
Но Вобей, не оборачиваясь, уже шел размашистым шагом к леску...
3
Давно отслужили в Успенском соборе вечерню, разошлись богомольцы, опустело торговище, закрылись в посаде мастерские, потухли горны. Закрыли Золотые, Серебряные, Медные и Волжские ворота, возле боярских усадеб, постукивая колотушками, прохаживались одни только ночные сторожа. Отшумели пиры, разбрелись по домам бражники. Тихо во Владимире, тихо и благостно, псы и те побрехивают с ленцой...
Спят бояре на пуховых перинах в высоких теремах, видят приятные сны; спят на лавках под шубами бронники, тульники, бочечники, древоделы и мостники, клобучники, белильники и камнесечцы; сползлись в свои смрадные норы лихованные: снится им хлеба краюха да кваса жбан.
Не плещут весла на Клязьме, прижавшись к исадам, сонно покачиваются на спокойной волне большие и малые лодии, поникли спущенные ветрила...
Лишь за рекой, на болонье, полощутся тут и там разбросанные огни костров – это холопы, сменяя друг друга, пасут в ночном боярские табуны. Каких только коней не встретишь на лугу: и вороных, и гнедых, и буланых. Есть там и ливийские красно-коричневые жеребцы, и златогривые красавцы из Византии, и сухопарые кони со змеиной шеей, привезенные булгарскими купцами с далекого Востока. За каждого из них не одной гривной кун плачено, за каждого холоп в ответе.
Нынче поредели табуны: многих коней взял с собою князь, но Однооков табун почти не тронут. Ушли с ним в поход худые лошаденки, а лучшие кони, краса и гордость боярского табуна, остались во Владимире.
Сидели холопы вокруг костра, запекали в углях репу, рассказывали про свое житье – о чем еще мужику говорить? Жаловались на великие тяготы, но не роптали, поругивали жен своих и соседей, но бед на их голову не призывали. Мирились и с женами, и с соседями, и с тиунами, и со старостами. Всё богом в мире устроено, а им пасти лошадей...
– Глянь-ко, – сказал кто-то, – кажись, саврасого к реке понесло. Пугни-ко его, Гаврила...
Чернобородый детина неохотно встал и направился во тьму. Слышно было, как он добродушно поругивался и отгонял коня от воды. Потом все стихло. Кони стояли вокруг костра, глядели в огонь красными глазами.
Гаврила вернулся, почесал затылок:
– У саврасого бабки побиты, надо бы поглядеть. Шепни, не то, конюшему, Тимоха. Хромает он...
– Пущай хромает, не моя забота, – отвечал Тимоха, пошевеливая веточкой в костре почерневшую репу. – Вон у гнедого мягкое копыто, а до сих пор не подкуют. Мне, что ль, вести его в кузню?..
– Оно так, – сказал Гаврила, садясь поближе к огню. – А жаль хорошего коня.
– Твое дело стеречь, вот и стереги... Спокойно ли вокруг?
– Да спокойно. Надысь, как сгонял саврасого, вроде бы челнок на Клязьме привиделся... А то тихо.
– Тихо, – передразнил его Тимоха. – А челнок – чей?
– Бог ведает, я не спрашивал...
Лицо у Гаврилы было плоское, с далеко отставленными друг от друга сонными глазами. В унылой бороде висели сухие травинки.
Тонкий и юркий Тимоха живо вскочил от костра и заковылял по лугу согнутыми в колесо ногами.
Долго его не было. Когда возвратился, Гаврила дремал сидя, покачиваясь из стороны в сторону, большой, взъерошенный. Тимоха потряс его за плечо.
– Чаво ты? – встрепенулся Гаврила.
– Вставай, слышь-ко...
Гаврила потянулся и покорно встал, сон все еще пошатывал его.
– Кажись, челнок-то к нашему берегу пристал, – сказал Тимоха.
– Пущай стоит...
– Да как же пущай стоит-то, ежели на ентой стороне?! – потряс мужика Тимоха.
Так и не проснувшись, Гаврила пробормотал:
– У саврасого бабки побиты...
– Леший на тебя! – выругался Тимоха. – Аль вовсе со сна одурел? Вот завсегда с тобою так. Утром скажу конюшему, чтобы другого прислал на луг мужика, тебя попроворнее.
Гаврила открыл глаза и с удивлением уставился на Т имоху.
– Ты – чо?
– Челнок, говорю, на нашем берегу.
– Какой челнок?
– А тот, что давеча на реке видал.
– Да нешто к нам прибился? Кого бог принес?..
– Не сказался гостюшко. А так смекаю я, что человек недоброй. Почто не идет к огню?
Мужики с опаской посмотрели во тьму. Но все вокруг было тихо. Лошади фыркали и похрумкивали траву.
– Поглядеть бы, – сказал Тимоха.
– Он те поглядит!..
– А топоры на что?
Взяв топоры, мужики тихонько двинулись от костра к берегу. Жались друг к другу пугливо, умеряли небыстрый шаг. Потом и вовсе встали, затаив дыхание, прислушались.
– Привиделось, разве? – прошептал Тимоха. – Отселева челн видал, а нынче нет его.
– Можа, бревно приволокло? – сказал Гаврила.
– Можа, и бревно... А так явственно зрил – ну как есть челн.
– Зря будил ты меня, Тимоха, – упрекнул Гаврила. – Теперя не усну... Чаво расшумелся, как воробей на дождь?
– После поздно бить сполох.
– А и зазря неча в трубы трубить... Жилами спокою не нажить, а чего бог не даст, того и не станется. Пойдем обратно к костру – зябко тут...
От реки надувало холод, волна шелестела по белому песку и откатывалась в темь.
Сдаваясь на уговоры Гаврилы, Тимоха сказал:
– Глянем-ко поближе. Ежели нет челна, так и с плеч долой...
Плескался ветер в темных кустах, мерещилось всякое. Сжимая топоры, мужики обшарили весь берег. Тимоха вздохнул облегченно.
Шли обратно, не опасаясь.
– Эко пугливой какой ты стал, – подшучивал над ним Гаврила.
– Станешь пугливой, как отведаешь боярских батогов. В запрошлом годе увели у Сидяка кобылу, так холопа его забили насмерть.
– Ничо, у нас не уведут.
Снова сели к костру, выковырнули из-под угольев поспевшую репу. Перекатывая черные комочки с ладони на ладонь, подшучивали над своими страхами.
Вдруг из-за протоки, взорвав дремотную тишину, раздался громкий топот. Тимоха репу швырнул в костер, взвился на ноги:
– Увели-и!
Побежал по луговине на топот, спотыкаясь и падая. Гаврила рядом с ним размахивал руками, бежал тяжело, с грудным надсадным дыхом – ругался сполошно.
На светлой закраинке неба мелькнула на миг и скрылась за холмом темная фигура всадника.
Тимоха упал на землю, схватившись за голову, катался в мокрой траве.
Гаврила рядом стоял, опустив враз обессилевшие руки.
– Вот те и бревно, вот те и саврасый с бабками. По ходу я угадал – лучшего коня из табуна увели, половецкого атказа. Спустит с нас Одноок шкуру, живыми с его двора не уйдем...
– Батюшки-святы! – всплеснул руками Гребешок, увидев подъезжающего к мельнице на коне Вобея. – Да где же ты, шатучий тать, этакого атказа раздобыл?
– У боярина Одноока за гривну кун купил.
– Врешь.
– А ежели вру, так почто спрашиваешь? – задиристо сказал Вобей и спрыгнул наземь.
Ранний был рассвет, едва брезжило. Разминаясь после долгой езды, Вобей подрыгал ногами, похлопал себя по бокам.
– Вижу, Гребешок, понравился тебе конь.
От страха у мельника все похолодело внутри. Пять ден смирно сидел Вобей, один только раз высунулся – вернулся, будто из болота, мокрый, но веселый. Показал Гребешку перстенек:
– Хорош?
Перстенек был с рубином.
– Невинную душу загубил? – спросил упавшим голосом мельник.







