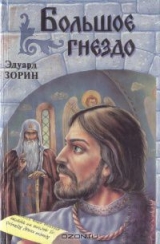
Текст книги " Большое гнездо"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
Мужики растерянно повалились перед владыкой, не подымая глаз, пугливо вздрагивали согбенными спинами, дышали надсадно.
– Выйди, – приказал тысяцкому Мартирий.
Дверь бухнула, мужики вздрогнули и еще ниже пригнулись к половицам. Владыка отбросил кота, заговорил глухо:
– Игумена обратать не могли, а ишшо похвалялись давеча: "Немочен Ефросим, нам ли с ним не справиться?"
Отвечал сам за мужиков, издеваясь:
– Где уж нам!... Едим за двоих, пьем за троих, а сердца у нас заячьи... Тьфу!
– Резвой он, Ефросим-то, – боясь разогнуться, робко оправдывались мужики. – А ты говорил – смиренник...
– Говорил, да что с того? – снова гневно повысил голос Мартирий. – Муха и та кусается. Знамо, не окуньков ловить отправлялись на Волхов. За то и плачу, за то и одариваю. Окуньков-то кто хошь наловит: заслуга не велика.
– Прости нас, владыко...
– Прости, – послышалось вразноголос.
– Простить-то прощу, а что с того?
– Ишшо послужим.
Спины мужиков медленно распрямлялись. Застучав коленками, подползали мужики к владыке, тянули руки:
– Прости, отче.
– Эко завыли,– брезгливо поднялся Мартирий с лавки. – Вот кликну тысяцкого. Да в батоги. Да в поруб. В землю. Навеки. Анафеме предам. Прокляну!..
Оторопели мужики, смотрели на владыку опаленными страхом сухими глазами, крестились.
Перевел дух Мартирий (сам устал от многих слов), снова сел на лавку.
– Ладно, – сказал, смиряясь. – Погожу звать тысяцкого-то. Живите...
– Дай бог тебе, владыко...
– Снял с души камень...
– Отходчивый ты...
– Доброй...
– Да мы за тебя... Да мы тебе... Женкам своим... Деткам... Свечку во святой Софии...
– Благодарствуем!
– Будя! – резким голосом оборвал их невнятное бормотанье Мартирий.
Мужики будто только и ждали окрика, смолкли все разом. Стоя на коленях, уставились на владыку, как на икону. Тщились узреть чудо. Всхлипывали, дышали прерывисто.
«С кем дружбу вожу?» – думал Мартирий, разглядывая их с презрением.
Ране-то, еще до того, как стать владыкой, жил он чисто и праведно. Поучал братию скромности и воздержанию. Уважал законы человечьи и божьи. Скоромного не едал, вин не пил, спал на жесткой лежанке, читал священное писание и умилялся подвигам Христовым. Мечтал и сам о подвиге на поприще православной веры. Готовил себя к вечной загробной жизни.
Но дьявол увертлив и многолик. Сбил его с пути истинного, и, когда пришли к нему бояре и посадник, когда стали просить владыкой в осиротевший без пастыря Новгород, не ответил отказом, не удалился гордо в свою келью. Думал так: нынче в монастыре своем навел он правильную жизнь, отчего не подвигнуться на угодное богу? Сам Христос выходил к народу, обращая его во святую веру, выходили к народу апостолы его. Что, как и над ним простерлась его десница? Что, как и ему выпала счастливая доля?... Придет он к несчастным и униженным, отверзнет им ослепшие очи, лицом обратит к сияющему свету божественной истины?..
Не прогнал бояр Мартирий, впервые тогда взалкал разрушающего душу невидимого яда. Разлучился с братией своей, уехал в Новгород, ища не спасения, но славы.
Апостольской славы жаждал он и так мыслил. А жил и дела свои творил по наущению коварного искусителя. Не по правде избран был во владыки, не по правде карал и миловал. Не по правде стоял на высоком месте в Софийском соборе, творил молитвы и исповедовал, служил обедни и всенощные.
И ненависть его к Ефросиму была ненавистью к себе самому, к своему чистому и праведному прошлому.
Так сидел Мартирий, прикрыв ладонью глаза, и думал. И мужики, стоя перед ним на коленях, недоуменно переглядывались: что случилось с владыкой? Не поразила ли его внезапная хворь?..
А заглянули бы к нему в душу – ужаснулись. Кинулись бы прочь с Владычного двора в страхе и беспамятстве.
Но не было мужикам дано столь высокого дара. Да и кому он дан? Все живем в незнании – и тем счастливы...
Счастливы были мужики, что не наказал их Мартирий, разве что заставил поползать на коленях, но на коленях мужикам ползать не привыкать: набили они себе давно уж крепкие мозоли. Перед богом – на колени, перед князем – на колени, перед владыкой – на колени, перед боярином – на колени, перед воеводой и перед тысяцким, перед сотником и тиуном, перед огнищанином и старостой – перед каждым на колени...
«Ишь как опечалили владыку», – подумали мужики, терзаясь нечистой совестью.
И сказал им Мартирий:
– Падет на вас проклятие, ежели задуманного мною не исполните...
– Исполним! – ответили растроганные мужики.
– Ефросима боле не тревожьте...
– Не потревожим, владыко, – вторили голоса.
– Сыщите случай и приведите ко мне отрока его Митяя...
– Приведем, владыко.
– Но сделайте сие тихо и незримо, аки ангелы...
– Аки ангелы... – подхватили мужики.
– Аминь, – сказал Мартирий и поднял руку для благословения. Но что-то вдруг смутило его, рука повисла в воздухе и опустилась.
Мужики, толкая друг друга, попятились к двери.
Выходя последним, Вобей успел разглядеть: Мартирий поднялся с лавки, бросился перед иконой, осеняя себя крестным знамением.
3
Мирошка с утра сидел у себя в горнице, будто неживой. Все-то ему вдруг сделалось немило: и день выдался ненастный (вьюжило), и печи худо протопили (истопника боярин бил поленом), и квас принесли из погреба прокисший («Что ты, батюшка, взъярился? Квас как квас»,– сказала ключница. Мирошка замахнулся на нее пустой братиной), и мясо показалось непрожаренным (раньше сам любил, чтобы с кровью).
Сидел Мирошка, пригорюнившись, глядел из оконца во двор, вздыхал глубоко и скорбно закатывал глаза.
Нерасторопные мужики сгружали с возов кули с мукой и зерном из Владимира. С вечера был у посадника купец, торговались до перхоты в горле. Задешево взял у него Мирошка хлеб, а нынче показалось, что можно было бы, заупрямься он, и еще, хоть маленько, сбить цену. Купец был верткий и скользкий, как уж, – пока судили да рядили, выведывал у посадника разные разности. Но и Ми рошка себе на уме – быстро смекнул, что к чему: нынче со Всеволодом ухо держи востро. В Новгороде обернулся человек купцом, а вернулся во Владимир – обернулся дружинником. Уж больно долго беседовал он со Словишей. О чем – не слыхать было, а только после повеселели у Словиши глаза...
Мирошка еще немного повздыхал, снял с гвоздика шубу, набросил на плечи, спустился во двор.
Заметив его на всходе, мужики забегали резвей.
«Глаз да глаз за ними нужен», – подумал боярин. Подошел к переднему возу, откинул рогожку, запустил пятерню в душистое зерно. Пересыпал пшеничку из ладони в ладонь, прикинул в руке на вес. Зерно было отборное – одно к одному.
Возница сидел на мешках, подвернув под себя ногу, улыбался и жевал хлебный мякиш.
«Тоже плут, – неприязненно определил посадник.– Недалеко от хозяина ушел. Радуется, что на чужом дворе, – вот и зубоскалит. Своему-то дал бы сейчас по загривку, а ентого не тронь».
Холодный ветер сметал с крыш мелкий снег, откидывал полы боярской шубы. Мирошка поежился, потоптался перед возами, притворно зевнул.
Сидевший на возу мужик пошевелился и открыл набитый мякишем рот с черными, проеденными гнилью зубами:
– Чтой-то невесело у вас в Новгороде. Ась?..
– Чай, не пиры приехал пировать, – буркнул Мирошка.
– Знамо, – протянул мужик. – Пришли в Новгород с товаром.
– Дело ваше торговое...
– А ишшо помолиться хочу во святой Софии. Баба моя на сносях...
– Что – баба? – не понял Мирошка. Глядя на суетившихся с мешками на спинах мужиков, он слушал возницу вполуха.
– Баба на сносях, говорю. Просила шибко: помолись, говорит, во святой Софии, чтобы сыночка нам бог послал... От дочки-то – одно озорство, а польги никакой. Сыночек как-никак в хозяйстве подмога...
Мужик говорил неторопливо и добродушно.
Мирошка поморщился, вспомнив про Гузицу. «А верно мужик сказывает, – подумал он. – Мозгами-то, как жерновом, ворочает, а всё верно». Была до недавнего времени Гузица во всяком деле ему подспорьем. А нынче, как появился в тереме Звездан, переменилась так, что и не узнать. Бывало, пальца ей в рот не клади – откусит с рукой, теперь же ходит тихая и задумчивая. Сердце Мирошки дрогнуло: свят-свят, уж не отяжелела ли?.. Стал припоминать былые сестрины повадки, еще больше расстроился, наорал на мужиков:
– Ноги, что ль, вам укоротили? Куды старшой глядит?!
Подскочил старшой. Руки шапку мнут, зализанные волосенки косицами стекают на плечи. Нижняя губа мелко подрагивает, в бороде – остинки и мучная пыль.
– Како повелишь, боярин?
– До вечера возиться будете, али как?..
– Мигом управимся!
– То-то же...
Мирошка запахнул разъехавшуюся на груди шубу, медленно поднялся на крыльцо. Гузица не выходила у него из мыслей. Эко истомилась вся: что ни день, что ни утро – всё перед зеркалом. То косу заплетает, то расплетает, то щеки румянит, то сарафан примеривает. А то еще в обычай взяла растирать бурачок с медом и мазать им лицо от веснушек. Девки только тем и заняты, что крутятся возле нее, глаза закатывают, хихикают, шушукаются. Мирошке и воды-то некому подать, не то что квасу. Вон и ключница стала дерзить – поделом пугнул ее посадник: пущай наперед остерегается.
За обедом в избе мрачные мысли Мирошки обратились к Звездану. Сидит, как молодица, глаз не подымет – чистенький да хорошенький. Не мужик, а херувимчик, только крылышек недостает. Рыбу ест осторожно, как кошечка, отставляет мизинчик, пальчики облизывает с улыбкой. Ямочки на щеках – одно загляденье.
Словиша, хоть и неприятен посаднику, потому как – око и уши Всеволодовы, а всё ж мужик. В нем и сила, и стать, и умом гибок, и напорист в меру, и уживчив – куды не нужно, не лезет, знает свое место и дело. Ясно, в другие-то времена гнал бы и его Мирошка от себя куда подале (теперь-то язычок он прикусил), но, ежели бы Гузица вкруг него вертелась, он бы ярился помене...
Давеча застал он сестру свою со Звезданом в сенях. Темно было. Так, незамеченный, слышал Мирошка всё почти – слово в слово.
– Ладушка моя, – шептал Звездан. – Как же без тебя-то буду?..
– Сокол мой ясный, – вторила ему Гузица.
– Брось Мирошку, вместе уедем к моему батюшке...
– Да по душе ли ему придусь?.. Нашел он тебе небось другую ладу, – отвечала Г узица.
– Свет мне без тебя не мил... Зорюшка ты моя ненаглядная!
– Обними меня крепче, Звездан.
«Ах ты, коза сладкоустая, – выругался про себя Мирошка. – Скольким уж мужикам про то же самое говаривала. Скольким уж голову кружила. Недаром идет про нее по Новгороду тайный слушок. Недаром...» Вспомнил посадник со стыдом, как однажды краснел на Боярском совете, когда намекнули ему близкие к Мартирию людишки про Гузицу: всем, мол, хорош Мирошка и через сестру свою породнился, слыхать, со всем Новгородом. Тогда не дал боярин спуску своему обидчику: припомнил, как воровали его холопы коней в чужом табуне. Замахнулся посохом. Едва их разняли. После Мартирий выговаривал:
– Ты, Мирошка, на себя много-то не бери. Даром что посадник – ан завтра захотят другого.
На что Мирошка тоже отвечал с достоинством (и нынче приятно вспомнить):
– Память у тебя коротка, владыко. Когда б не моя Гузица, еще како бы все обернулось... В твоем-то монастыре хлеба куды как погорчее будут. За меня держался ты, за меня и впредь держись. А людишек своих, что лижут тебя в ино место, призови к ответу и лаять меня принародно не позволяй...
Мартирий-то, он страшен издалека, а вблизи его и не видно. Как наведался в Новгород Ефросим, как приехал от Всеволода Словиша, так вся позолота с него сразу и сошла.
В прошлую бессонную ночь осенило Мирошку, будто железом каленым обожгло: неча отсиживаться, как слепому щенку, ждать, поскуливая, ясной погоды – самому настала пора ехать ко Всеволоду. Взять именитых да речистых людей с собой, богатых даров (не скупиться, не торговаться помалу – цена-то не какая-нибудь, а вся новгородская вольница!) да и повести с ним беседу умную и степенную. Для начала шумнуть на Мстислава, а после – как бог даст. Только на Ярослава не соглашаться – уж больно гневались на него новгородцы, – в случае чего просить у Всеволода сына. За родное дите у какого отца сердце не помягчает?..
К вечеру Мирошка оттаял. Укрепившись в своем решении, на сестру поглядывал почти милостиво, да и Звездан не бесил его, как совсем недавно за обедом.
Мысли собирались одна к другой – словно бусинки нанизывались на шелковую нить.
Кого взять с собой во Владимир? – рассуждал посадник. Перво-наперво Бориса Жирославича – в Боярском совете слово его весомо, да к тому же и книгочей (грамотных людишек любит Всеволод). Новгородский сотский одноглазый Никифор тож будет к месту – как-никак, а тонкий намек: и в Новгороде, дескать, водятся богатыри, не только во Владимире (глаз-то Никифор потерял, когда брали Сигтуну), так что за вольницу свою, ежели что, постоим. От купечества возьму Иванка, подумал Мирошка, – обходителен Иванок и хитер. Да еще Фому-чернеца, пущай беседует с Иоанном...
Когда за окнами совсем стемнело и повсюду в тереме зажгли свечи, у ворот послышался шум.
– Это кого еще на ночь глядя принесло? – проворчал Мирошка.
Дворский Замятня постучал в дверь, вошел, кособочась, – следом за ним просунулась долговязая фигура Ефросима.
Вот так гость! У посадника лицо обмякло.
– Ты ли, отче?!
Борода у Ефросима разметана, глаза блуждают, никак не остановятся на Мирошке, на веках – струйками – не то слезы, не то растаявший снег.
– Собака, пес шелудивый! – в горле у Ефросима заклокотало.
Вскочил Мирошка, вытолкал дворского за дверь, остановился, прислонясь занемевшей спиной к стене. Только что радовался снизошедшему на него покою – так вот же тебе!
Ефросим плюхнулся на лавку, обмахнул лицо рукавом, шмыгнул, забормотал невнятно.
К брани его посадник давно уж привык, все привыкли в Новгороде. Но чтобы плакал игумен – такого еще никто не видывал, Мирошке первому довелось.
Оттого и стало ему неуютно и страшновато. В горнице полумрак, в дымоходе завывает ветер, – аж мороз продирает по коже... Глаза игумена сверлят Мирошкино лицо.
«Умом тронулся Ефросим, – подумал посадник. – Ей-ей...»
– Митяя мово, Митяя-то мово почто?! – уставился на него безумным взглядом игумен.
– Ты толком сказывай, отче, – дивясь, остановил его Мирошка. – Что-то никак я тебя не пойму...
– Заодно ты с Мартирием – знаю.
– Может, и заодно. Да Митяй-то при чем? – рассердился посадник.
И удивлялся, и сердился он искренне. Глаза Ефросима становились всё более осмысленными.
– Ладно. Ишшо поглядим.
Он встал, выпрямился, лохматый и угрожающий, двинулся к порогу. Ударил дверью так, что зазвякали в углу иконы. Ветром, ворвавшимся в горницу, задуло свечу на столе. Рявкнули во дворе собаки и стихли. Все стихло.
Был – и нет Ефросима. У Мирошки только теперь от испуга подогнулись коленки.
Сел на лавку, ладонью растер онемевшее лицо. Ну и денек!..
4
Любил Митяй толкаться на новгородском торговище. Суету любил, разноцветье товаров, разноголосье толпы.
Празднично-призывны были и зычные окрики нахальных зазывал:
– Вот зеленые бусы из Хорезма!
– Обояр и атлас!..
– Мечи из Багдада!..
Трясли бараньими пузырями с налитыми в них бобровыми благовоньями, торговали красным шифером и пряслицами, солью и пшеницей, конями и мастикой, золотым и серебряным узорочьем, обручами, колтами, перегородчатой эмалью, мечами, поршнями, лаптями и козьими шкурами...
– Кому кожушок?.. Продаю задешево!
– Возьми, мужичок, оберегу...
Настойчивые руки отовсюду теребили Митяя – одни тянули в свою сторону, другие – в свою. Вертел головой Митяй, радовался, а путь держал, разгребая плечом толпу, к Софийскому собору. Хотелось ему еще раз взглянуть на чудесные Сигтунские и Корсунские врата, тихо постоять пред скорбным ликом Христа Вседержителя, полюбоваться строгими фигурами, со свитками в руках, пророков Соломона и Даниила, посмотреть хоть издалека на позолоченные потиры – сосуды для причастного вина, изготовленные златокузнецами Братилой и Костой. Много наслушан он был о их мастерстве, а недавно сам наведывался с Ефросимом в посад, сам видел, как работают мастера... Стоят перед их кузней в очереди бояре и купцы, боярские и купеческие жены и дочери, терепливо ждут исполнения заказа: кому колечко, кому чашу, кому – украшения к мечу, а кому оклад на икону... Льется в затейливые формы расплавленное золото, тоненько постукивают молоточки. У Братилы на голове холщовая ленточка, чтоб не мешали волосы, Коста лыс и улыбчив, редкая бороденка острижена накоротко.
Шел Митяй через Великий мост, не оглядывался. Да и что ему оглядываться – ничего не оставил, ничего не потерял. А то, что крадется за ним мужик в драном зипунишке, то, что переглядывается с невидимыми в толпе другими такими же серыми мужичками, – ему и невдомек было. Молод был Митяй и доверчив, как дитё.
За Великим мостом у могучей стены детинца избы ютились на косогоре вразброд, тесная тропка в высоком снегу извивалась меж заборов и плетней, то терялась за хлевами и житницами, то выныривала вновь. Весь народ на торгу или в избах – ни души во дворах, струятся над крышами голубые дымки. Срубы кряжисты, в землю вошли до половины, на крышах кособоко громоздится снег – сползает, свесив почти до земли острозубые сосульки, запекается на солнце пузырящейся корочкой.
За одной из изб, там, где тропка поглуше, вышел из-за угла мужик с черной, прокопченной бородой. Оскалил зубы, положил руку Митяю на плечо. Сзади, из-за сугроба, еще двое вывалились – у обоих пар изо рта, как дым из лошадиной пасти.
Ослаб Митяй от страха, пал покорно в снег, взбрыкнул ногами:
– Не трожьте, дяденьки!..
Мужики долго не возились, сунули Митяю тряпицу в рот, руки скрутили за спину, поволокли на себе через сугроб, в крытый возок бросили. Тот, что с черной бородой был, сказал товарищам:
– Нынче будет доволен владыко.
Возок раскачивало, скрипели полозья, мужики молчали. Не видно было, куда въехали. Но скоро остановились.
Вытащили Митяя из темноты возка на слепящий снег, поставили на ноги, подталкивая сзади, погнали на высокий, чисто выметенный всход с резными перильцами.
Господи, да как же сразу-то он не признал: так и есть – Владычный двор! Вон и София рядышком тускло поблескивает свинцовыми своими шеломами.
Давно ли бранился перед этим крыльцом Ефросим, давно ли изобличал перед толпой Мартирия, давно ль следили мужики грязными лаптями и поршнями в ложнице у владыки... Тогда лежал архиепископ на лавке, прозрачный и немощный, шарил испуганными глазами по мятежной толпе. Нынче стоял он в шелковом одеянии до полу, с блестящей панагией на шее и тяжелым посохом в крепкой руке. Глядел насупившись, сурово. Властным взглядом пронзил затрепетавшего от робости Митяя.
– Пади! – возмущенно зашипели сзади державшие его за руки мужики. – Владыко пред тобой.
Опустился на колени Митяй, глаза потупил. Владыка ударил об пол посохом.
– А вы изыдите! – грозно повелел мужикам.
– Встань, отрок, – ласково сказал он Митяю. Протянул руку, выдернул кляп, брезгливо швырнул тряпицу в угол. Тонким ножичком ловко перерезал путы на руках Митяя. Сказал сдержанно:
– Страх из сердца изгони. Не тебе я ворог, а игумену твоему Ефросиму. Сядь.
Сидеть в присутствии владыки простому послушнику не пристало. Помялся Митяй, но сесть не решился.
– Хорошо, – сказал Мартирий. – Смиренье – богу угожденье, душе спасенье. Гордому бог противится, а смиренному дает благодать. Переломлю я твоего игумена.
Обидно стало Митяю за Ефросима, любил он своего старца и за праведность почитал.
– Почто ломать его, владыко? – робко спросил он. – К людям старец приветлив и справедлив. Душа у него чиста и непорочна.
– И твоими устами глаголет Ефросим! – вскричал Мартирий, вдруг сразу меняясь в лице. – Как я порешил, так и будет. Не позволю игумену мутить новгородский люд!..
– Меня-то зачем в путы взял? – удивился Митяй. – Я игумену не указ.
– Любит он тебя, – улыбнулся владыко. – Любит, вот и взял...
– Про то не ведаю, любит ли. Но слова твои к чему, никак не разгадаю...
– А вот помысли-ко,– настаивал, хитро щурясь, Мартирий. – Сказывали мне, будто ты смышлен.
– Смутно говоришь, владыко.
– Кому смутно, а кому и яснее ясного.
Только тут осенило Митяя.
– Верно предсказывал Ефросим: коварен ты, владыко, и бога в душе твоей нет.
Вздрогнул Мартирий, поднял над головой посох, но вовремя пересилил внезапно вскипевший гнев.
– Дерзок, зело дерзок ты, отрок, – покачал он головой. – Едва не ввел меня во грех. Спасибо богородице – она, она остановила.
– Эй, слуги! – крикнул Мартирий и приказал явившимся на его зов людям: – В темницу его, да стерегите в оба!..
5
Вьется белый санный путь вдоль Волхова. Скользят по нему возки и розвальни, скачут воины, идет простой новгородский люд – кто в лаптях, кто в чоботах, кто в меховых сапогах. Идут на морозе, торопятся, набиваются на ночь в деревеньки переночевать под ветхим кровом у чужого спасительного огня.
Сидят в прокисших избах, тесня хозяев, хлебают жидкую ушицу, сгребают ложками в жадные рты горячее сочиво, храпят, раскидавшись по лавкам, рассказывают терпеливым хозяевам в благодарность за ночлег веселые, а чаще грустные байки – про свою неприкаянную жизнь, про соседей и земляков.
Заночевали поздним декабрьским вечером в одной из таких изб игумен Ефросим с Митяем.
Вышли они из Новгорода на рассвете, ни с кем не простясь, – тихо, как вороги. Впереди – Ефросим, Митяй – позади ковылял. Ворчал игумен:
– Нынче снова с тобою беда. Почто отстаешь, негодник? Почто вихляешь, яко неподкованная кобыла?..
– Ноги у тебя длинные, отче, – скулил виновато Митяй.– Погодил бы... Куды нам поспешать? Все одно домой путь держим.
– Оттого и поспешаю, аль невдомек? Стосковался я, Митяй, по родной обители. Тихо там, печи топлены, монахи кротки, пастыри усердны...
Остановился Ефросим на взлобке волховского высокого берега.
– Ужо вам! – погрозил он кулаком виднеющимся за морозной пеленою свинцовым куполам Софии. – Тьфу на тебя, Великий Новгород!..
Плюнул и зашагал, не оборачиваясь, с силой втыкая суковатую палку в твердый наст...
– Эко осерчал ты, отче.
– Небось осерчаешь... А ты, смиренник, почто на игумена своего скалишь зубы, – остановился он, – разглядывая Митяя, словно увидел впервые. – Мало насиделся в темнице у Мартирия? Ишшо захотел?..
– Свят-свят, – перекрестился Митяй.
Вчера это было, всё свежо в памяти – явился игумен, прямо от Мирошки, к Мартирию на Владычный двор.
Пропустили его в хоромы без лишних вопросов и разговоров – ждали. Держа прижатой ко груди рукою железный крест, вошел Ефросим размашисто, остановился, перешагнул через порог, дерзко взглянул на восседавшего в высоком кресле Мартирия. Служки, стоявшие по бокам от владыки, в растопыренных зипунах (под зипунами надеты кольчуги, за поясами – короткие мечи), обеспокоенно зашевелились.
– Здрав будь, владыко.
– И ты будь здрав, Ефросим.
Глаза в глаза. Непотребные, злые слова клокотали у игумена в горле. Но выкрикнуть их он не посмел, сдержался, крепче сжал рукою железный крест.
Не за себя пришел говорить Ефросим, хотя и знал: за себя – тоже. Однако не было за его спиной разгневанных людей, не слышались крики и гул толпы. За дверью прохаживалась стража, сопели, изнывая под тяжестью кольчуг, готовые по первому зову поспешить на помощь владыке служки.
– С чем пожаловал, Ефросим? – нарушил затянувшееся молчание Мартирий.
Слабый голос его был исполнен ангельской кротости. Но глаза, как буравчики, остро сверлили игумена.
– Скажи прямо, владыко, почто держишь отрока моего в темнице? – сказал Ефросим.
– Коли знаешь про то, и разговор наш будет короток, – ответил владыка. – Взял я его, дабы тебя спасти от греха великого.
Тут бы, по нраву, и взорваться игумену. Но снова сдержал он себя, Мартирию не позволил над собою потешиться. Отвечал спокойно, по присказке:
– Где гнев, там и милость. Что хочешь ты от меня, владыко?
– Многого не прошу. Да малое придется ли тебе по душе?
– Сказывай, – согласно кивнул игумен.
– Митяя я тебе хоть сей же час возверну. Мне он не надобен, хоть и дерзок в словах и помыслах, но то не его вина, – сказал не спеша Мартирий. – Ты же поклянешься мне на кресте, что покинешь Новгород и навсегда удалишься в обитель...
– Милостив ты, владыко, – усмехнулся Ефросим. – Худшего ожидал. Прости. А клятва моя – вот она: во имя отца и сына и святого духа...
Он вдруг сорвался, перешел на крик:
– Не будет ноги моей в Новгороде!.. Проклят город сей и все, кто в нем! Холопы и рабы, лисицы многоликие – сгиньте!.. Пожирайте вольный хлеб свой и друг друга, топчите святыни, надругайтесь над слабыми, перед сильными ползайте на брюхе в грязи и навозе... Возрадуйтесь, что свободны, что нет над вами бога милосердного. Сгиньте!..
Кому высказывал он правду, в страданиях вымученную, перед кем метал бисер?!
Только улыбнулся Мартирий и хлопнул в ладоши. Служки привели Митяя, вытолкали их обоих за дверь, проводили за ворота и наглухо закрыли створы.
С тем и ушел Ефросим из Новгорода. Не нужен он был никому, и ему никто не был нужен. Остался у него Митяй, смышленый отрок, – ему и отдаст он остаток своих дней...
В избе, где ночевали, трое было случайных людей: пожилой скоморох, купец-удалец да седой мужичок без прозванья.
Скомороха звали Радко. Сказывал он про себя невеселую быль:
– Жизнь изжить – других бить, и биту быть.
Сам я из Новгорода родом, а много мотался по всей Руси. Дело наше не простое, хлеб горький. Бывал я и в Чернигове, и в Киеве, и в Рязани, и во Владимире. В Суждали бабу схоронил, Вольгой ее звали. Шибко болело у меня сердце, так свербило, что силы нет. Да только скомороху разве до слез?.. Ходили мы с Карпушей, сыночком моим, да с Маркелом-горбуном по деревням, тешили людей веселыми байками, кормились чем бог пошлет... Карпуша мой весь в матушку-покойницу вышел: красивенький был и шустрой. Вот и приглянулся он князю Всеволоду – взял он его к себе в меченоши. Последней радости меня лишил, последнего утешения. Маркел-то вскорости помер, а про Карпушу я долго ничего не слыхивал. Один остался, как перст. То к обозникам прибьюсь, то к купцам... А как встанем на отдых, скоморошины сказывал. Шибко любит народ наш веселое слово. Ты вот игумен, а и в твоих глазах бесы. Значит, правду говорю... Так-то и ходил я по Руси. Лаптей одних сколь истоптал – не счесть. Но тянут годы к родному порогу – не хочется спать вечным сном в чужой земле, своя душе ближе, да и к раю дорога, сказывают, со своей-то земли короче. Вот и решил я вернуться в Новгород, а перед тем сынка повидать. Думал, коли взял его к себе Всеволод, – нынче ходит он у него ежели не в передних мужах, то в важных дружинниках... Приплелся во Владимир, туды-сюды сунулся, сыскал знакомого камнесечца, Никиткой его зовут. Стал про Карпушу расспрашивать... Эх-ха, лучше бы не ходить мне ко Владимиру. Помер Карпуша-то мой, не дождался батьки своего, непутевого скомороха. Пил я, гулял на запоздалой тризне, чуть разума не лишился. Едва выпроводил меня Никитка из Владимира, дал припасов, одежу вот эту самую, чоботы и отправил в Новгород с купцами... Тако я здесь и сижу, в этой самой избе, а что дале делать – не знаю. Сила у меня уже не та, да и с памятью стало худо – перестали новгородцы слушать мои скоморошины. Иду вот на Нево-озеро, будто бы сестрица у меня в тех краях объявилась. Годков двадцать, почитай, не виделись. Признает ли?..
– Да, – сказал Ефросим, зажигая в светце новую лучину. – Давно это было, а помню я тебя, Радко. Вот ведь как свидеться довелось. Помню, как сшибался ты на Великом мосту с крикунами, про все помню. И скоморошины твои не забыл...
Купец-молодец сидел во время разговора на лавке, слушал внимательно, однако помалкивал.
Стал свою историю сказывать мужик без прозвания:
– С реки Юга я, что за Устюгом, из деревни никому не ведомой – всего-то она в три двора.
Горько тут скоморох говорил про свое житье. Мое житье тоже не слаще. Остался и я без жены, с малым сынком Офоней. Пристал к ватаге лихого ватамана Яволода. Озоровали мы на Волге, а после подались под Устюг, на вольные земли. Там ватага и распалась, ушли кто куда. Пристал я к тамошним мужикам, бежали они от боярина Захария, завели тут свое хозяйство. Не сразу приняли они меня, долго приглядывались. А у меня руки по земле стосковались – стал я пашню пахать, рядом с ихними избу свою поставил. Весеннему солнышку радовался, зимою не тосковал, сына растил да хлебушко жевал. Много ли мужику надо? Никто не трогал нас, не стояло над нами ни старосты, ни тиуна. Все, что ни возьму с поля, – все мое. Все, что в лесу ни добуду, – тож мое. Да только недолго так жили... Пришли и к нам боярские да княжеские люди, стали по лесам да пашням зарубки делать, заметки оставлять. Перегородили землю запретными знаменами, оброком да вирами замучили. И сделались мы снова холопами. Тиун наезжал к нам, как на вражью землю – опорожнял хлева и житницы, Офоню моего отвез в Устюг – там он и сгинул в безвестности... Был бы жив Яволод, вернулся бы я к нему снова, да порубили лихого ватамана под Городцом. Вот и бежал я из своей деревни, вот и мыкаюсь по белу свету, но нигде пристанища мне нет. Куда нынче податься – не ведаю...
– Бежал ты, мужик, от своего хозяина, – сказал Ефросим, – и сие – грешно. Ни солнышку всех не угреть, ни боярину на всех не угодить. А так уж положено на земле от бога: кому пашню орать, кому меды пить. За муки же твои, холоп, сторицею воздастся на небесах. Терпи – и вознагражден будешь...
– По третьему разу всегда вырубишь огня, – вступил в разговор молчавший досель купец-молодец. – Послушал я тебя, мужик, и тако скажу: не верь ты монаху. Бог не убог, а Никола милостив. Пойдем ко мне в обоз, не пожалеешь. Бывалые людишки мне нужны.
– Да ты кто таков? – рассердился Ефросим. – Почто человека смущаешь? Чему учишь?
– Не тебе, мних, встревать в мирскую беседу, – смело глядя ему в глаза, проговорил купец. – Ступай себе с богом в свою обитель, а мы обойдемся и без тебя.
– Да знаешь ли ты, кто я? – заорал Ефросим, хватая со стола глиняную мису и замахиваясь ею на купца. – Ефросим я, а ты коровья лепешка!..
И ударил по столу так, что черепки запрыгали.
Лишка хватил игумен. Переполох поднялся, ажно ветер по избе. Сроду таких надсадных гостей не видывали хозяева.
И очутились Ефросим с Митяем среди морозной ночи на улице. Сунули их в сугроб да там и оставили.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
Утром прибежал к Однооку свой человек из детинца, сдернул шапку и – с порога:
– Слышь-ко, боярин! Прибыл во Владимир из Новгорода Всеволодов дружинник Словиша, новгородцы тож, а с ними – Звездан.
Радуется мужик – за хорошую весть боярин пожалует его чарой.
– Брешешь, – буркнул для порядка Одноок, хотя сразу поверил. – Не просох ты после вчерашних медов.
– Светел был – то верно. Но Звездана видел, как тебя ныне зрю.







