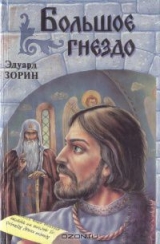
Текст книги " Большое гнездо"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
Тут в кустах зашелестело – Веселица вздрогнул и обернулся.
– А я-то гляжу, кого бог носит на огородах, – сказал невесть откуда появившийся за спиной мужик.
Потертый треух сдвинут на сторону, из-под рыжих кустиков бровей, словно из норки, выглядывают два серых улыбчивых глаза. В пегой бороде мужика запутались сухие соломинки.
– Ты отколь? – стараясь казаться строгим, спросил его Веселица.
– А из зарода, – сказал мужик. – Упились мы вечор, вот и занесло в зарод. Ты-то что в деревне высматриваешь?
– Не твое дело, – оборвал мужика Веселица,– знай, иди досыпать в свою избу.
– Ишь ты – сердитой, – протянул мужик. – А огород-то мой...
– Уж не твоя ли и ближняя изба?
– Моя, а чья же?
– То-то гляжу – хозяин бражник. Щепой перекрыть поленился, подгнили венцы...
– Неча тебе, мил человек, чужие углы обнюхивать, – обиделся мужик.
– Вот и в мои дела не лезь.
Не ко времени появился хозяин огорода – того и гляди, всю задумку испортит. И чего привязался?
Мужик скреб пятерней в бороде и с любопытством разглядывал Веселицу.
– Эй, слышь-ко, – позвал он.
– Ну чего тебе?
– Знавал я одного купца во Владимире... Уж не ты ли это будешь?
– Уймись, не доводи до греха.
– Он самый и есть, – будто не слышал его мужик. – Веселицей тебя кличут?
Мужика не просто было унять. Разгулявшийся с вечера мед все еще бродил в его голове. Да и впрямь любопытно: кого высматривает на огородах купец.
– Не купец я, а князев дружинник, – рассердился Веселица. – Ступай отсюдова, покуда цел.
Так и есть – всю задумку испортил ему нежданный собеседник.
Мужик стоял, пошатываясь и мотая перед лицом обмякшей рукой. Веселица до половины выдернул из ножен меч.
– Ну?
– Свят-свят, – отпрянул мужик. – А ты и впрямь шальной.
– Изрублю, не погляжу, что пьяный...
– Да ты не серчай на меня, Веселица.
– Ишшо покаркай!..
Скрылся мужик. Перекрестился Веселица, подумал: «Ну, теперь пора», вскочил в седло. Конь заплясал под ним, вздрогнул широким крупом, понес рысью через огороды – только ошметки влажной земли полетели из-под копыт.
Толпа сгрудилась возле игуменьи, все с недоумением глядели на приближающегося вершника.
Веселица свистнул по-молодецки, ожег коня плеточкой: э-эх! Разом перемахнул через плетень. Шапка с лиловым верхом сбита на затылок, губы поджаты, глаза прищурены лихо. Разорвала плотный круг толпа, шарахнулась в стороны. Только игуменья, вытянув перед собою посох, осталась стоять на месте, да Феодора, повернувшись побелевшим лицом к приближающемуся Веселице, быстро крестила лоб.
– Э-эх! – снова выдохнул Веселица, наклонился, подхватил ее под руки, вскинул перед собою на луку седла – и был таков. По дороге легче пошел конь, да еще плеточка, да еще попутный ветер. Располоскал гриву на обе стороны – любо: давно соскучился по вольной скачке застоявшийся на конюшне конь.
А в деревне – суматоха и крик. У Досифеи остамели ноги от страха. Перепугавшийся поп размахивал нагрудным крестом:
– Господи, помилуй мя...
Тут откуда ни возьмись, вынырнул из-за крайней избы мужичок. Рыжие брови кустиками, в глазах веселые бесы пляшут.
– Ай да Веселица!.. Ай да купец!
Очнулась Досифея, отбросила посох, обеими руками вцепилась в мужичка:
– Ты про кого такое сказываешь?
– Ей-богу, забыл...
– А я тебя сейчас опамятую! Эй, староста! А ну-ка, потряси мужика – да не жалеючи, да пошибче, да чтобы все сказал, как на духу, – откуда сам и с кем дружбу водит. И почто хозяйке своей перечит, хоть и во хмелю.
2
У Досифеи и не такие храбрецы-молодцы языки развязывали. Развязал и мужичонка свой язык – недолго повозился с ним староста. Стала выспрашивать его игуменья с толком и не спеша:
– Веселица, говоришь?
– Он самый и есть, матушка, – стуча зубами, отвечал мужик.
– А не обознался?
– Куды уж там...
– Не со страху наговорил?.
– Всё, как на исповеди... Шибко удивился я, как увидел его на огородах. Давеча еще с Мисаилом он тут хаживал – тощой был и в рваном платье. А тут конь при ем, и одёжа справная, и меч опять же... Не, обознаться я не мог. Хошь, перед иконой побожусь?
– А почто сразу не признался? – прищурилась Досифея.
– Дык не в обычае у нас... Кокоринские все мужики крепкие.
Глаз у игуменьи наметан: ни правду, ни кривду скрыть от нее не могли. Быстро смекнула она, что не врет мужичок.
– Ладно, – сказала она, смягчаясь. – Ты ступай-ко отселева да вдругорядь на глаза мне не попадайся.
– Спасибо, матушка, – обрадованно поклонился ей мужичок. – Дай бог тебе здоровья.
На следующий день, ни свет ни заря, отправилась игуменья во Владимир к Марии. Долго ждать ее не заставила княгиня, велела звать в терем. На пушистые полавочники усаживала, угощала мочеными яблоками и ягодами. Пока говорили о том, о сем, всё думала Досифея, как бы половчей подступиться к главному. А начала издалека – похвалила деревеньку, поблагодарила за подарок.
– Земли у Кокорина жирные, хороший осенью снимем урожай...
– Да сама-то глядела ли? – спросила Мария. – Самой-то приглянулось ли?..
– Об чем спрашиваешь, княгинюшка!..
Самое время заговорить о Веселице. Но только открыла игуменья рот, как дверь отворилась и прямо с порога бросился к Марии Константин, старший Всеволодов отпрыск. Нос покраснел от слез, губы обиженно вздрагивают.
– Что с тобою, сынок? – встрепенулась Мария. – Али обидел кто?..
– Четка шибко грозится, – всхлипывая, пожаловался
Константин. – Батюшке обещал донесть, ежели не выучу псалтирь.
Нахмурилась Мария, погладила сына по голове.
– Я уж думала, беда какая. А на Четку ты не серчай. Помни, како в народе сказывают: без муки нет и науки. Негоже князеву сыну грамоте не уметь. Нынче не только поп, а и кузнец простой и горшечник чтению и письму разумеет...
– Ты меня лучше к Веселице отпусти, – попросил Константин, высушивая на щеках тылом ладони слезы. – Веселица на коне учит скакать, стрелять из лука... С ним хорошо.
– Всему свое время. А батюшке на Четку жаловаться и не смей. То его, князев, наказ.
– Скучно мне.
– Скука переможется. Ну что загрустил?
– Не хочу к Четке возвращаться. Пущай Юрий учит псалтирь, а меня отправь к Веселице.
– Эко заладил: к Веселице да к Веселице, – со строгостью в голосе оборвала его княгиня. – Вот ужо примусь за тебя...
– Значит, и ты с Четкой заодно?
– Не с Четкой, а с князем. Батюшка твой зело учен и вам учиться строго наказывал.
Слушая беседу княгини с сыном, кивая мальцу с елейной улыбкой на устах, вдруг подумала Досифея, уж не зря ли пришла она с жалобой на княжой двор, ежели Веселица окаянный при князе – свой человек. То-то же не побоялся, супостат, пойти на такое злодейство. А мужичонко сказывал– купец. «Ужо доберусь я до тебя, – обозлилась игуменья. – Ужо попляшешь ты у меня под батогами. А ишшо пред иконою грозился клятву дать...»
Что теперь делать, как быть, Досифея не знала.
Княжич ушел, и Мария продолжила прерванную беседу.
– Так, говоришь, понравилось тебе Кокорино? Земли, говоришь, жирные?
– Жирные, матушка, жирные, – с готовностью закивала игуменья.
– Вот и пользуйтесь во славу божию.
– Не знаю, как-и благодарить тебя, кормилица наша? За тем к тебе и приехала...
– О чем речи ведешь? – удивилась Мария.
– Благоволишь ты к нам...
– За князя молитесь, за деток наших.
– Уж мы-то как молимся! Единою молитвою и живем: дай бог вам здоровья и долгих дней – тебе и князю нашему и вашим деткам.
Всхлипнула Досифея (слезы всегда были у нее наготове), жарко припала губами к ручке Марии. Княгиня растрогалась...
– Сердце твое завсегда добру открыто, Досифея... Слабая ты.
– На доброту все мы слабы, – отвечала игуменья. – Нынче глядела я на тебя и умилялась: сыновья-то за ласкою всё к тебе, всё к тебе.
– Материнское сердце – не камень.
– Верно сказываешь. Вот и черницы мои – не те ли же дети? От грехов бежали из мира, возле бога ищут спасения.
– Лихо помнится, а добро вовек не забудется, – кивнула Мария.
Стала прощаться с княгиней игуменья.
– Приезжай к нам, матушка. Завсегда тебе будем рады, – улыбалась она, заглядывая в лицо Марии. – Так ли уж будем рады. И сыночков своих привози...
– На купальницы жди, – пообещала княгиня.
Уезжала Досифея из Владимира к себе в монастырь и дорогою, поглядывая по сторонам на покрытые первой зеленой дымкой леса, нелегкую думу думала. Коли и впрямь полюбился Веселица на княжом дворе, то на рожон лезть ни к чему – береженого бог бережет.
А в келье, возвратясь домой, задумалась игуменья, что была несправедлива к Пелагее. И велела кликнуть ее к себе.
Явилась черница, с виду тихая и покорная, а на губах ехидная улыбка полощется, едва сдерживается, чтобы не выявить своего торжества.
– Садись, Пелагея, – сказала игуменья. – Садись и слушай меня. Кто старое помянет, тому глаз вон. Была я к тебе несправедлива – то дело прошлое. Нынче хочу снова приблизить к себе.
– На все воля твоя, матушка, – отвечала, потупя взор, черница.
– Все, что ты про Феодору сказывала, все правда. Но лучше, ежели будешь ты помалкивать. Заботы наши монастырские неча в мир носить. В миру люди разные. Покуда осыпаны мы милостями, а ежели дурная слава пойдет, отвернется от нас княгинюшка – всем нам от этого станет хуже...
– Не я в мир худые вести носила, – сказала Пелагея. – А то, что упреждала тебя, а ты мне не поверила, вина не моя.
– Чья в чем вина, про то говорить не будем, – строго оборвала ее Досифея. – Бери-ко ключи да хозяйствуй, как прежде. И слова мои хорошенько запомни.
– Все исполню, как повелишь, матушка.
Задержалась Пелагея в дверях – видно, что-то еще хотела сказать игуменье, но передумала, слабо махнула рукой.
Выскочила Пелагея из кельи, остановилась, прислонясь к стенке, руку прижала к груди – вот и сбылось задуманное. Вся душа изболелась, когда отринула ее от себя игуменья, ненавистью лютой возненавидела она Феодору. Впредь осторожнее будет, впредь для нее наука. А ключики – вот они, приятной тяжестью лежат на потной ладошке...
На всенощной, стоя пред алтарем, жарко молилась игуменья. Клала земные поклоны, лбом стучала в дубовый пол. Перешептывались за ее спиной монашки, дивились ее рвению:
– Никак, покаянную возносит игуменья?
– Аль согрешила в чем?
– Грехов у нее наших поболе будет...
– Виновата, так и винится.
– Кшить вы, – осадила их Пелагея. Не заметили монашки, как подкралась она к ним сзади. Тоже на коленях стоит, тоже вроде молится, а сама все слышит.
Перепугались черницы: известное дело, Пелагея – первая у игуменьи доносчица. Сколько уж сестриц пострадало от ее наветов!..
Стали обхаживать да обласкивать Пелагею, а та и рада над ними поглумиться:
– Эвона вы какие, кроткие голубки. В лицо-то Досифее – матушка, а за глаза съесть норовите. Злобный у вас нрав.
Не губи, Пелагеюшка, – просили монашки. – А мы тебе за доброту твою отплатим.
– Шибко богатые стали, как я погляжу, – подперев руками бока, наступала на них Пелагея. – А не пошарить ли по вашим ларям?
– Не пугай ты нас, не срами...
– И без меня осрамились. Не, донесу Досифее, не то выставит из обители. А даров ваших мне не надобно. Я черница скромная, живу по писаному уставу, не то что вы...
– Все мы грешные, и ты грешна. Возьми подарки, не обижай отказом.
Кто что из своей кельи принес, разложили на лавке шали пуховые, платки шелковые, кольца и колты. Все это наменяли они в городе на изделия рук своих. Последнее принесли, совали с разных сторон.
Но Пелагея все упиралась, все порывалась уйти.
– Уговорили, – согласилась она наконец; притворно зевая, стала ковыряться в разложенном перед нею барахле.
– Колты енти я возьму. И плат пуховый.
– Бери, бери, Пёлагеюшка, не обессудь, – наперебой предлагали монашки. – Еще чего возьми, нам не жаль...
– Молчу, молчу, – сказала Пелагея – но чтобы впредь у меня...
– Не гневись на нас. Что было, то по неразумению.
Выпроводили они Пелагею, переглянулись, вздохнули с облегчением. Кажись, на этот раз пронесло.
А Пелагея, удалившись в свою келью, так себе говорила со злобивой ухмылкой: «Ну, кумушки, ну, голубушки, теперя вы у меня в руках. Теперя завсегда первая доля – моя. Ужо напляшетесь, ужо покусаете локотки!»
3
Еще не войдя в избу, еще с порога крикнул Кузьма, властной рукой отстраняя Веселицу:
– А ну, кажи, доброй молодец, кого прячешь в светелке. Об ком по городу шум?
Всякое ожидал Веселица, приготовился к пристрастному допросу, но чтобы Кузьма – да такое с порога...
Отступил дружинник в горенку, стал заплетающимся языком приглашать Ратьшича к столу:
– Садись, Кузьма, отведай, чего бог послал...
– Ты мне зубы-то не заговаривай, – нахмурился Ратьшич. – Ты мне толком обо всем, что спрашиваю, отвечай. Не по своей я воле у тебя – князь Всеволод послал. А меды распивать будем после...
Еще немного помялся Веселица, но перед Ратьшичем разве устоишь? Делать нечего – крикнул в глубину избы:
– Малка!..
Ни звука в ответ.
– Малка, тебя зову.
Кузьма Ратьшич, задержавшись у порога, покашлял, притронулся ладонью к бороде. Веселица ждал, насупившись.
Скоро послышались легкие шаги, откинулась занавеска, и оба мужика, как стояли, так и остались стоять, словно вкопанные.
– Ну и ну, – покачал головою Ратьшич.
Не только Кузьму, но и самого Веселицу поразила Малка. Такой красавицей писаной не видывал он ее еще никогда. Не зря приглашал к себе купцов, не зря закупал у них шелка и бархаты, не зря сиживали в светелке вечерами наилучшие владимирские мастерицы-рукодельницы. Постарались они, обрядили Малку, словно княгиню. Рубаха на ней красная расписана вышивкой, выложена крупными жемчугами, светлый плат – в лиловых петухах, сапожки сафьяновые простеганы золотыми нитями, а в кокошнике горит звезда. На шее Малки – ожерелье сканого серебра, крупные сережки переливчаты, как радуга... Щечки у Малки горят, губы вздрагивают – вот-вот брызнет еле сдерживаемый смех.
Крякнул Ратьшич, подошел к Малке, взял ее за руку. Не отдернула она руки, не смутилась – только вдруг растаяла на губах ее приветливая улыбка, только вдруг потемнели глаза. И с чего бы это?
– Что ж, Веселица, славную привел ты в дом хозяйку, – сказал Кузьма. – Пора пришла и под венец. Когда свадьбу станем играть?..
– За свадьбою дело не постоит, а что сказывать будешь князю?
– Князь всем нам отец родной. Поклонитесь ему, покаетесь – он, глядишь, и простит. А то, что в монастыре такую девку прятали, – всем нам не в радость, а в посрамленье. Красавица да и только, но еще погляжу, какая она у тебя хозяйка.
Щедро привечал у себя Веселица нежданного гостя. Малка прислуживала им за столом. И так была она обходительна, и так проворна, что совсем заворожила Кузьму.
– Знай наших, – говорил Веселица, провожая Ратьшича, пьяный не от медов, которых выпил немало, а от похвалы.
Расставаясь, в щечку целовал Малку Кузьма, снова ручку держал в своей ладони.
– Сведи, бог, и будьте счастливы, – наставлял он, в седло влезая, Веселицу. —Удачливый ты человек.
– С тебя удача моя пошла...
– Не с меня, а с князя. Девку береги и обижать не смей.
– Куды уж обижать-то? Она и без меня обижена.
Уехал Кузьма. Проводил его Веселица до ворот и вернулся в горницу. А Малка грудью на ларь упала, плачет в голос, унять себя не может.
– Да что с тобою, лада моя? – растерялся Веселица. Вылетел хмель у него из головы, обнял он Малку за плечи, повернул к себе, прижал мокрое от слез лицо ее к своей груди. Посадил на лавку против себя:
– Теперь все по порядку сказывай. Сдается мне, что кое-что ты от меня утаила.
– Сердце у тебя, Веселица, вещее, – ответила Малка. – Радовалась я нашему счастью, а как увидела Кузьму, так все во мне и оборвалось.
– Что-то загадками ты говорить стала. Никак в толк не возьму.
– А ты и не мучайся.
– Да как же мне не мучиться? Или померещилось что?
– Кабы померещилось, – слабо улыбнулась Малка. – А тут все наяву, хоть и кажется – страшный сон привиделся.
– Кажись, смекнул я – не Ратьшич ли тому виной?
– Он самый и есть, кому же другому быть!
– Вот оно что, – помрачнел Веселица. – Не он ли Зорю твоего в могилу свел?..
– Я ведь гостю любому завсегда рада. А тут как вышла, как взял он меня за руку, так словно всю огнем обожгло.
– Давно это было...
– Давно, а сердцу не прикажешь. Улыбку к лицу не пришьешь – чай, не пуговица. Шибко за себя испугалась я. И еще подумала, что не будет нам с тобою счастья.
– Не помнит он тебя...
– Зато мне его вовек не забыть.
– И Христос прощал своим погубителям...
– Не святая я. На какую жизнь выкрал ты меня из обители? Рядом с душегубом век доживать, в поганые очи его глядеть до смертного часа?.. Не верь ему, Веселица, не к добру свела тебя с ним судьба. Да и зачем тебе княжеская милость? Вон Зоря-то мой дни и ночи подле Юрия обитал... Что с того? Как был простым рядовичем, так и остался. И дни свои закончил не на мягкой постели, а в темном порубе.
– Каждому свое на роду написано. А ты меня, Малка, не пужай.
– Да как же не пужать тебя, коли сам лезешь в огонь? Нынче князь добра тобою содеянного не забыл. Но еще немного времени пройдет – и кончатся его милости. Горяч ты, безоглядчив – тот же Кузьма однажды голову тебе и снесет.
– Не в закупы ж мне идти! – отчаянно оборвал ее Веселица.
– Дни-то скоро кончатся.
– Ну и пусть. Сколько ни есть, а все наши.
– Люблю я тебя за удаль твою, Веселица.
– Люби, Малка, крепко люби. А я тебя на руках носить буду...
Взял он ее на руки, крепко в губы поцеловал. Горькие были у Малки губы, а весь задрожал Веселица от счастья. Не умел молодец подолгу грустить.
Малка тоже заулыбалась. Прошлое-то все равно напрочь отсечено, а в будущее далеко заглядывать и она побаивалась. Только грустинка с того дня так и залегла у нее еще одной складочкой возле губ...
4
– Так, – сказал Всеволод, выслушав Кузьму, – все у тебя ладком, но почто же девок в монастыре воровать? Аль на воле невест не хватает? Вона сколько красавиц ходит на выданье... Самоволен Веселица, ох, как самоволен. Поди ж ты, и меня не побоялся, а что, как осерчал бы, а?
Чувствуя доброе расположение князя, Ратьшич посоветовал:
– Оно верно, княже. Досифея – баба злопамятная. Ее тоже уважить надо. Вот ты Веселицу и накажи. Справим свадебку – и отправь его куды подале. В Переяславль али в Ростов. Игуменью потешишь, и молодым в радость. Неча им покуда во Владимире обретаться – тут они у всех на виду. А когда время пройдет, можно и возвернуть... Всё в твоей воле.
– Ишь, какой догадливый, – посмеялся князь. – А ведь ты мою думу опередил – быть по сему.
Сказал так и вскоре забыл о сказанном. Много было у него иных забот, и эта – не самая главная.
Главная-то дума была впереди. Главная-то дума с утра в сенях сидела. Не шел у Всеволода из головы Мирошка Нездинич, новгородский посадник, беспокоило молчание Мартирия. Как бы не замыслили чего за его спиной. Может, грамотками пересылаются, но Словиша, приставленный к посаднику, лишнего человечка к нему нипочем не допустит – ест и спит с незадачливыми послами, за каждым шагом их следит, скучать не дает.
Вчера Мирошка прислал сказать, что хочет иметь беседу с князем.
– Жду после заутрени, – велел передать Всеволод.
Так с утра и свдел Мирошка в сенях. Настойчив был, как настырный кот.
– Сидит боярин-то? – спросил князь у Ратьшича.
– Куды деться, – отвечал Кузьма с улыбкой, – сидит.
– Ну и пущай сидит.
Покуда людей своих принимал Всеволод в гриднице, время шло. Солнышко к полудню, а князь все не выходит к боярину.
– Сидит?
– Сидит.
– Ну и пущай сидит.
«Эко приспичило Мирошке», – подумал Всеволод.
Отобедали. Мирошку ко столу не звали. После обеда принимал князь послов от Рюрика. Жаловался киевский князь на Ольговичей, теснивших в Смоленске Давыда. Потом велел Всеволод звать к себе послов черниговских. Несли во Владимир обиду свою на Рюрика Ольговичи. Потом от Романа был человек, толком ничего не сказывал, а больше выспрашивал, како быть волынскому князю: приходили-де к нему с предложением от Рюрика прежнюю вражду забыть и вместе идти на черниговцев. А в награду сулил киевский князь Роману отобранные города вернуть и поддержать его против Галича.
– Каково отвечал князь ваш Рюрику? – насторожился Всеволод. Знал он и сам Романовы повадки, но хотел услышать от посла.
– С тобою сослаться велел Роман...
Отпустив от себя всех, кроме Ратьшича, подошел Всеволод к оконцу, поглядел на павшее за Успенской собор солнышко, потянулся – трудный был день.
– Сидит ли Мирошка, Кузьма?
– Сидит.
Вот теперь в самый раз звать новгородского посадника.
Вошел Мирошка, черный от усталости и негодования. Но Всеволод встречал его ласково, заботливо спрашивал:
– Не обижают ли вас у меня, Мирошка? Кормят, поят ли, препятствий каких не чинят?
У Нездинича лицо вытянулось от изумления:
– Не ты ли держал меня, князь, в сенях целый день, яко простого смерда?
– Нешто так и сидел с утра?
– А куды же мне деться?
– Не гневись, боярин. Запамятовал. Садись да сказывай, с чем пришел.
Сел Мирошка – под шубой парадной жарко, едва отдышался. Складные слова, придуманные с вечера, из головы вылетели. Долго собирался с мыслями.
Всеволод не торопил его, ходил по гриднице, позевывая, будто ему все равно, что ни скажет боярин, будто и забыл о нем вовсе. Пусть новгородцы сами о себе заботятся, а для него все решено давно.
Глухо говорил Мирошка, обиду скрывал, но голос дрожал заметно. Допек его Всеволод. Довольно и того сраму, что задержал во Владимире, сколь уж недель сторожит, разве что не взаперти, да еще ждать заставляет, перед слугами срамит. Принимая посадничество, не думал он, что стерпит и такое унижение. На что коварен был Андрей, на что крут, но до такого и он не додумался. Не одному Мирошке позор – всему Новгороду пятно несмываемое...
– Каковыми вестями располагаешь, князь? Не объявился ли Мартириев посол?..
Осторожен Мирошка. Даром что во гневе, а слова лишнего не проронит.
– Упрям ваш владыко, – сказал Всеволод. – А грамотке твоей, боярин, он не поверил. Не хочет пускать Ярослава в Новгород...
– Нешто и по сю пору противится?
Глаза у Мирошки ясные, затаенной думы в них не прочитать. Но весточку, посланную посадником тайком, Всеволод в руках держал. Про то ни Мирошка, ни Мартирий, ни сам гонец не знают.
«Ты Ярослава в город не пущай, – писал весточке своей боярин. – Я за Великий Новгород муку приму сполна. Не век будет держать меня Всеволод».
Незаменимый человек Словиша! Ежели бы не он, так и поверил бы смиренному обличью посадника Всеволод.
Не зря приставил к новгородцам лучшего своего дружинника князь. Еще когда со Святославом тягался, не раз выручал его Словиша.
Две недели тому назад это было. Приметил зоркий Словиша, что пристал к посаднику на торговище оглядчивый человек. Куда ни поедет боярин, человек всё за ним. Вроде бы сукна себе на кожух выбирает, а сам с Мирошкой о чем-то шепчется. Запомнил его Словиша и велел Звездану глаза с незнакомца не спускать.
Так и ездили они друг за другом: Мирошка к гончарам – и Звездан к гончарам, Мирошка в собор – и Звездан за ним. Точно, человечек тот неспроста крутился возле посадника. Выведали они, что остановился он на купецком подворье, а сам не купец. Когда же стал незнакомец в обратный путь собираться (обоз на Торжок уходил с утра), подослал к нему Словиша друзей своих, веселых бражников.
Шила в мешке не утаишь. Весь вечер пили бражники с Мирошкиным земляком. Для верности сами тоже новгородскими купчишками сказались. Свой человек на чужбине завсегда родня. Оно и к делу ближе. После сказывали, что крепенький попался мужичок. Сами едва под столы не свалились, а ему все нипочем. Тогда уж стали по очереди чару, принимать. Свалили-таки. Заснул мужичок пьяным сном, не слышал, как шарили у него в однорядке. Письмо нашли, отвезли Словише, Словиша князю показал. А после снова зашили его в однорядку. Утром едва добудились мужика, дали похмелиться, сунули в обоз, велели глядеть в оба, чтобы по дороге не пропал...
Обо всем об этом Мирошка и не догадывался, а потому стоял перед князем спокойно, смотрел ясным взглядом, глаз не опускал и говорил без стеснения:
– Ты зря меня во Владимире держишь, княже. Кабы отпустил, сговорился бы я с Мартирием.
– Как же! Вы с Мартирием сговоритесь, – усмехнулся Всеволод.
– Не веришь?
– Богово дорого, бесово дешево. В вашем болоте хитрые черти водятся. Еще что скажешь мне, боярин?
– Да что говорить, ежели слова мои для тебя, княже, только звук один?..
– С чем-то в терем мой шел?
– Отпроситься хотел. Шибко затосковал чтой-то. Да нынче вижу – всё едино не отпустишь...
– Кабы одна тоска была, почему бы и не отпустить? Не пленник ты мой, а гость. Худого слова и говорить не смей. Не то и впрямь обижусь, посажу в поруб...
– Вона как повернул ты, княже.
– Оно и раньше было все на виду. А только неймется тебе, боярин.
– Не моя вина. Новгород, не я, не хощет брать к себе Ярослава. Пошто упрямится Мартирий, я и в толк не возьму.
Всеволод сел к столу, уставился на Мирошку пронзительно. Говорить не хотел, да само собой вырвалось:
– Лиса хвостом след заметает, а ты словами льстивыми. Не верю я тебе, Мирошка. А потому не верю, что сносишься ты с Мартирием тайными грамотками.
Сказанного не вернуть. Побледнел боярин, крупные капли пота выступили у него на лбу. Пролепетал бессвязно:
– Зря хулу на меня возводишь, князь. Зря стращаешь напраслиной...
Засмеялся Всеволод, встал, посмотрел на боярина сверху вниз:
– Али думаешь: сам я ловок, а у Всеволода людишки спят?
Еще больше испугался Мирошка, быстро сообразил: неспроста намекнул князь про поруб. С него станется – запихнет в зловонную яму. Вон Глеб рязанский так в ней дни свои и закончил.
Повалился Всеволоду в ноги Нездинич, унизился:
– Помилуй, княже. Дьявол меня попутал.
– Вот видишь, боярин, – сказал Всеволод спокойно, – со мною шутки плохи.
– Насквозь глядишь, – склонил покорную голову Мирошка. – На рысях тебя не объедешь.
– Да и помаленьку не обойдёшь...
– Что повелишь, княже?
– Седин мне твоих жаль, боярин. Не то не поглядел бы, что посадник, не пощадил бы, ей-ей.
Не проник Мирошка до конца во Всеволодовы мысли, многого не понял. А князь давно смекнул: Мартирию посадник не нужен, опасный он человек. Как сажали владыку на архиепископское место, Нездинич руку к подлогу приложил. Покуда жив он, покуда ходит на воле, не знать
Мартирию ни сна, ни покоя. Одним ударом думал владыка двух зайцев убить: избавиться от Мирошки и Всеволоду Новгород не отдать. Недаром рыскает он на стороне, ищет покорного новгородской воле князя. А новгородская воля в его руках: как скажет он, так и будет – Боярский совет супротив владыки не выступит, хоть и есть в нем горячие головы.
Нет, не пойдет у Мартирия на поводу Всеволод и Нездинича не сунет в поруб, а покуда шатко владыке, расшатает его еще поболе. Не то чтобы мысль эта раньше была – только после разговора с Мирошкой ему подумалось: а не кликнуть ли и Мартирия во Владимир? Пущай свидятся два дружка, пущай вместе посидят да крепко поразмыслят...
Повеселел Всеволод, даже улыбнулся, радуясь своей задумке. И так и сяк повертел – всё хорошо сходится.
– Вставай, боярин, – сказал он Нездиничу и даже похлопал его по плечу.
Обнадежил он посадника:
– Скоро вернешься в Новгород, недолго осталось ждать.
– Неужто простил, княже? – вспыхнул Мирошка. – Да как же мне благодарить-то тебя?
– После благодарить будешь.
Хороший урок преподал он Мирошке. А вот Мартирию каково?..
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
В июле во дворе пусто, да на поле густо. Про эту пору в деревнях так сказывают: «Не топор кормит мужика, а июльская работа».
Широко разросся вдоль пыльных троп желтый донник, тут и там в высокой траве посматривают на солнышко голубые глаза незабудок, на полянах и лесных прогалинах заалела сочная земляника. Притихли птицы на деревах – нынче много у них забот: вылупились прожорливые птенцы, требуют к себе внимания.
Все чаще и чаще стали озоровать грозы. С утра небо ясное – ни тучки, ни облачка, а к полудню бог весть откуда черную громадину нанесет. Встанет над лесным окоемом, насупится, брызнет белыми молниями, сотрясет округу раскатистым громом – и пошло, и пошло. Ветер листья взметет до вершин дерев, погонит по дорогам желтую пыль. Нарезвится, наиграется, умчится в другую даль – будто его и не бывало. И тут же сразу упадут на землю тяжелые капли.
Дождю рады все. Мужики снимают шапки, крестят обожженные солнцем лбы – овощам и угнетенным зноем посевам дожди в это время года в самый раз. Поля оживают на глазах, ослепляют первородной зеленью, пряно благоухает в тенистых овражках таволга. Горьковатый запах полей пьянит и кружит голову.
Одну из таких гроз пережидал Одноок на мельнице неподалеку от своей деревеньки Потяжницы. Чуть-чуть не доехал: с утра-то понадеялся, что будет вёдро, сел не в возок, как обычно, а решил размяться на коне. В возке под пологом ему бы и дождь нипочем, а верхами промок до ниточки.
На мельнице было шумно: скрипели и скрежетали жернова, под дырявой кровлей кучерявилась пыль. Боярин сидел на колоде, чихал и поругивал мельника:
– Черт лысой, да останови ты свое колесо! Уши заложило, слова молвить не могу.
Мельник, прозванный в деревне Гребешком, был человек могучий и разбойный с виду: голова как бочонок, волосы нечесаны от рожденья, лицо покрыто рыжими пятнами, как железо ржой, руки словно клещи кузнечные, крепкий стан сутул и чуть кособок. Зато глаза у него голубые и кроткие, голос тонок и распевчив, как у красной девицы.
Редко заглядывал на мельницу боярин, года три, почитай, не был, да и вообще народ не часто наведывался к Гребешку в эту пору года. А ежели и приезжал кто, то разговоров с мельником не заводил, разве что только о помоле, сгружал зерно и забирал готовую муку. Жил Гребешок рядом, в собранной кое-как избе с молодой женой из пришлых с низовьев Оки...
Услышав сказанное боярином, мельник тут же бросился за дверь – немного времени прошло, жернова перестали вертеться, скрежет стих, только слышался шум дождя да журчанье падающей с запруды воды.
Одноок вкусно чихнул, провел рукавом под носом и с любопытством уставился на возвратившегося Гребешка.
– Ну и страхолюд же ты, – сказал он смирно стоявшему перед ним мельнику.
Гребешок хмыкнул, покраснел и переступил с ноги на ногу.
– Как зовут-то тебя? – спросил боярин, будто имя его забыл.
– Г ребешком.
– Гребешком зовут, а сам гребня, поди, отродясь в руке не держивал...
– Оттого и прозвали.
– Сколь годков-то тебе?
– За третий десяточек перевалило. На пасху тридцать стукнуло...
– Складно говоришь ты, Гребешок, а разумения в тебе нет никакого. Почто боярина в избу не зовешь?
Растерялся Гребешок, заморгал кроткими глазами, покраснел еще больше.
– Дык не вступно мне...
– Куды уж там, – начиная сердиться, хмыкнул Одноок. – Нешто и обсохнуть у тебя негде?
– В избе тож не топлено, – растерянно пробормотал мельник. – А коли что, дык пойдем ко мне, боярин. Я живо печь-то истоплю, я счас...







