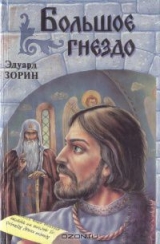
Текст книги " Большое гнездо"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц)
В то утро, снежное и солнечное, выехал Четка с княжичами на прогулку (дядька, приставленный к ним, заболел), сразу же после трапезы.
Княжичи ехали в возке, Четка – рядом на покорной кобылке.
Ехал, глядел по сторонам, радовался солнышку – под ставлял под его прощальные лучи то одну, то другую щеку, вспоминал, как на той неделе еще поманила его на кухню толстая Варвара.
Робок был Четка, от Варвариных взглядов краснел и потуплял взор. К еде не притрагивался, отпив малинового кваску, стал кланяться и прощаться.
– Глупой ты, Четка, – сказала ему Варвара, убирая со стола гусиный бочок. – Не на то звала я тебя, чтобы и здесь читал ты свои молитвы. Тошно мне на тебя глядеть, и боле на кухне не показывайся... Ступай, отколь пришел.
Проглотил Четка слюнки, полюбовался еще раз издали на подрумяненный гусиный бочок, и так жалко ему стало себя, что хоть в рев.
Сжалилась Варвара.
– Экой же ты робкой да смирной, – ласково проговорила она. – Нешто все попы на тебя похожи?
– Не, – сказал Четка. – Я один такой. Другие-то попы и пьют и гуляют в миру, а меня бог не сподобил. Как померла попадья, шибко боюсь я вашей сестры...
– Ишь ты, – засмеялась, показывая ровные зубки, Варвара. – А почто же ты нас боишься? Не волки мы и не медведи, и кожа у нас бела... Гляди-ко!
И она, все так же улыбаясь, распахнула на груди сарафан – икнул Четка, попятился. Думал, бухнется на пол. Нет, устоял.
– Так похожа ли я на волчицу? – подступала к нему Варвара. Брала за руку и клала руку себе на грудь. – Видишь, ничего с тобою и не случилось. И рука цела, и бог не покарал...
И держала Четкину руку на груди своей, не отпуская...
После уж ей уговаривать его не пришлось: съел он и гусиный бочок, и кашу, облизывал ложку и еще поглядывал по сторонам.
– Тощой ты. Четка, в чем и душа держится, – жалела его Варвара. – Ты ко мне почаще приходи. Как ослобонишься от княжичей, так и приходи... Придешь ли?
– Приду, – пообещал Четка, краснея...
Краснел он и теперь, сидя на своей покорной кобылке. От воспоминаний приятно томило в груди, по телу растекалась нежная истома. Нынче вечером снова ждала его к себе Варвара...
Народ на улицах города покорно расступался перед княжеским возком, люди кланялись, снимая шапки. Слы шался шепот: «Княжичи, княжичи». Иные, те, что полюбопытнее, норовили заглянуть внутрь возка, протискивались к самой дороге. Четка покрикивал на них:
– Остерегись!
Особенно старался он, когда замечал в толпе поповскую рясу – тужился изо всех сил, набирал в рот побольше воздуха, подбоченивался, старался глядеть не вниз, а поверх голов. Кобылка прядала ушами и, чувствуя хозяина, старалась идти ровно, на полшага впереди возка...
За Медными воротами – еще большая белизна и простор. В стороне от дороги, серо от навоза, вороны раздирали лошадиный череп, важно расшагивали по полю, лениво взлетали и снова плавно садились на снег.
– Тпру-у! – закричал возница, натягивая вожжи, спрыгнул с переднего коня, простоволосый, подскочил к возку. Княжичи сами вылезали на дорогу, перегоняя друг друга, бежали к рощице, за которой темнела только что схваченная первым льдом извилистая Лыбедь.
Неуклюже выдергивая ногу из стремени, Четка осторожно сполз со свой кобылки и заковылял за ними вслед. Возница прислонился спиной к возку и, достав из-за пазухи ломоть вязкого хлеба, стал медленно жевать его, лениво поглядывая по сторонам.
Княжичи кувыркались и кидались снежками. Потом, разогнав ворон, принялись пинать лошадиную голову. Четка едва поспевал за ними, размахивал руками и кудахтал, как наседка. Княжичи не слушались его окриков, разбегались в стороны; разгорячившись, стали забрасывать попа снегом.
Константин наскакивал на него сзади, валил в сугроб, Юрий прыгал вокруг, как задиристый кочет.
Четка смеялся, потому что ему тоже было весело, с утра у него все внутри ликовало и пело, а снег был теплым и ласковым, как перина. С чего бы стал он тревожиться? Нынче, как и каждый день, побарахтаются княжичи, нарезвятся, усадит он их снова в возок и тем же путем, через Медные ворота и через весь город, под взглядами многолюдной толпы, доставит на княж двор, отведет в терем и сдаст с рук на руки Марии, а после будет ждать вечера, чтобы пробраться по тихим переходам на кухню, где толстая и приветливая Варвара, раскачивая бедрами, поставит перед ним на столе наполненную золотистым варевом глиняную мису, сама сядет напротив, подперев пухлой ручкой подбородок и слегка обнажив ровный ряд белых, как чесночины, зубов...
Нет, ни о чем не тревожился Четка, даже и в уме худого не держал и, поваленный княжичами в снег, спокойно глядел, как бежали они к реке, опережая друг друга.
Поднявшись и стряхивая с себя рукавицами снег, Четка благодушно ворчал:
– Ишь, насмешники какие. Умаяли, а самим хоть бы что...
Нынче княжичи не раздражали его, и беды он не чуял, а потому безмятежно смотрел вокруг – и на возок, и на череп, который снова облепили крикливые вороны, и на противоположный берег схваченной тонким льдом Лыбеди, по которому медленно шел, высматривая что-то, незнакомый человек с длинной палкой в руке.
Беда приспела, наперед не сказалась. А то бы не улыбался Четка, и не вспоминал Варвару, и не смахивал бы не спеша с себя снег рукавицами. Поторопился бы, упредил бы, не дал хрупкому льду обломиться под вертким телом Константина...
Возница бежал к реке, опережая Четку: короткий полушубок не мешал ему, а Четка путался в полах длинной поповской однорядки и падал носом в снег...
Маленький Святослав метался, плача, по берегу, а Юрий лежал на животе, на самой кромке берега, и, стиснув зубы, тянул через лед ручонку к барахтающемуся в черной воде Константину.
Четка перепрыгнул через него, прокатился по льду, обрушился в мелкое крошево острых ледяных осколков, не нащупав дна, истошно заголосил: не умел он плавать,
батька не научил, а после и совсем было не до этого. Стал Четка тонуть, хлебая холодную воду, взмахивал руками над головой, бил в стороны, расширяя полынью.
Возница тоже попался из робких (после уж узнал Четка, что и он не умел плавать), лег рядом с Юрием в снег, тянет руки, а до Константина дотянуться не может.
Что верно, то верно – погиб бы княжич, ежели бы не случайный мужичок с другого берега (тот самый – с палкой, которого еще ране заприметил Четка). Кинулся он на тонкий лед, обрушивая его, подобрался к Константину, обхватил сзади под мышками, выволок на берег. После, передав его вознице, помог выбраться Четке.
Не столько от холода продрог поп, сколько от страха. Беды теперь не оберешься – за Константина спустит с него князь три шкуры, а ежели помрет княжич, то и Четка не жилец на этом свете.
Бросил он свою кобылку на дороге, кинулся в возок, укутал Константина в мех, дыханьем своим согревал княжича, вознице орал, оборачиваясь:
– Гони!
Взяли кони с места, едва не опрокинули возок. Помчались в гору с отчаянным криком и посвистом – люди в городе шарахались с дороги, крестили лбы: не иначе как большая беда стряслась.
Счастье с несчастьем об руку ходят: утром еще был Четка ясен, как месяц, а вот и часу не прошло, и уж волокли его с кричащим и упирающимся возницей на конюшню, срывали с узкого зада портки, били плетьми до крови. Потерял поп сознание, упал в темноту.
– Сдох, собака, – сказал Ратьшич...
А мужичонка, спасший Константина, скоро смекнул, что к чему. Одежда на нем была мокра, в лаптях хлюпало, и морозец уж сковывал телогрею. «Возьму оставленного коня, – решил он. – Все равно попу он нынче ни к чему». Вскочил на кобылу и, переправившись через Лыбедь, на том самом месте, где сам же порушил некрепкий лед, – направился в глубь леса.
– Совсем ты ошалел, Веселица, – сказал ему Мисаил, выходя на поляну. – Сам мокрый, будто леший из болота, да еще чужого коня привел.
Продуло Веселицу на ветру, пока ехал он через лес, совсем задубела одежда, едва стянул ее с плеч. Поставил у огня телогрею – стоит, не валится.
– Да где ж тебя нечистая носила? – удивился Мисаил, разглядывая его с сомнением.
– Княжича спасал, – отчаянно сверкнул Веселица белками смешливых глаз. – А кобыла – князев подарок. Бери, старче, не сумлевайся.
4
Складные песни пели гусляры про Всеволодову доброту – еще давеча слышал их Четка, как проезжал в слободу мимо Золотых ворот. Еще монетку им бросил в треух, еще поблагодарил – кланялись гусляры ему вслед: «Щедрый поп – любит сирых да убогих, дай-то бог ему здоровья да многих лет». Из двух гусляров один, тот, что на гуслях бренчад, был слеп – белыми бельмами залепило ему оба глаза, а второй был зрячий, с костлявым лицом – он-то и пожелал Четке счастливой жизни.
Один только день после того и был Четка счастлив, а уж под вечер следующего дня извивался под жгучими плетьми, завывал по-звериному, зубами кровеня губы.
Еще услышал он сказанное Ратьшичем: «Сдох, собака!», дрогнул, вытянулся и затих на земле, в конском перепревшем навозе.
Очнулся во тьме, перевернулся на бок, попытался открыть глаза, да не смог; потянулся руками к векам – наткнулись пальцы на засохшие струпья. И вспомнил, леденея, Четка, что били его не только по спине, что какой-то ражий мужик стегал его по плечам и лицу и рот у него был искривлен в злорадной гримасе, а глаза, налитые лютой злобой, выкатывались из глазниц.
– Ох ты, господи, боже мой, – простонал Четка и встал на карачки. Где он? Почто вокруг тишина? Почто не идут люди на его стон? Почто никто не сжалится, не поднесет ему воды, не обмоет ссохшихся ран?..
– Ох ты, господи, боже мой, – повторил он, вздыхая. Сел в навоз, подвернув под себя непослушные ноги, корчась, стал сдирать с век запекшиеся корочки. Кажись, постарался, проклятущий, совсем ослепил его кат.
Только тут вспомнил Четка, как волокли его с возницей через двор на конюшню, как сдергивали порты, как садились дюжие отроки на ноги, а руки прикручивали веревками к бревну.
Приподнялся Четка с земли, подтянул непослушными руками порты, завязал их тесемочкой, всхлипывая, побрел вдоль сруба к выходу. У самых ворот, во тьме, споткнулся о безжизненное гело, ощупал, признал в мертвеце возницу, задрожал, заскулил протяжно и безответно.
– Ты ли, Четка? – услышал неясный шепот.
Не ответил, побрел, вихляя, будто пьяный, через пустой двор. Варвара ухватила его за локоть – болью отозвалось во всем теле. Вырвался Четка, побежал, ступая в снег обмякшими ногами. Бормотал на бегу, задыхаясь: «Господи, помилуй!»
Откуда и сила взялась в таком хлипком теле? Из жирного возницы махом выпустили жизнь, а Четка жив. Ведь хвастался кат во дворе, что перебил ему становую жилу,– Варвара своими ушами слышала. Шла на конюшню прибрать его тело, схоронить по христианскому обычаю... На вот тебе. Щенячьей радостью всполошило ей сердце: жив Четка, жив!..
– Да куды же бежишь ты? Куды? – останавливала она его тихим окриком.
Пробился Варварин голос сквозь саднящую боль. Остановился Четка, задрав голову, слепо повел вокруг себя руками.
– Здесь я, здесь, – сказала, задыхаясь, Варвара.
– Ты ли это? – голос попа дрожал и ломался.
– Я это, Четка, я. Кому же еще быть! – плача, отвечала Варвара.
– Гляди-ко, покалечили меня каты, света белого не зрю...
– Ночь вокруг, ночь, Четка...
– Тебя не зрю. Голос слышу, а зрить не зрю...
Слезы душили Варвару.
– Пойдем, Четка, – уговаривала она его. – Пойдем отсель. Не приведи бог, кто увидит – обоим нам несдобровать...
– Куды идти-то? – вырывался Четка.
– Со мной иди. Я тебя умою, травки к ранам приложу. Со мной иди, Четка.
Так потихоньку свела она его к себе в подклет, усадила на лавку, высекла огонь, запалила лучину. А как запалила лучину да поднесла к лицу попа, так чуть не задохнулась от страха.
Потрудился кат над Четкой – силушку свою выверил: знал, куда бить. Все лицо посек, окаянный, живого места не оставил. Затекли у попа щеки, вместо глаз – синие пузыри. Ноздря разорвана, из губы, сквозь коросту, сочится черная кровь.
– Ты не кричи, ты потерпи, миленький, – приговаривала Варвара, обмывая раны теплой водой. – Под плетьми-то потяжельше было – и то стерпел. Нынче я тебя выхожу.
Слава богу, кажись, целы глаза – под синяком засверкал Четкин зрачок. Вздохнула Варвара облегченно, села на лавку рядом с попом и, ткнувшись в его плечо, заревела навзрыд.
Невдомек ей было, что совсем рядом – только руку вверх протяни, – за толстыми дубовыми досками, в княжеской ложнице, также навзрыд плакала Мария, сидя возле метавшегося в жару Константина.
Юрий стоял рядом, ковырял пальцем в носу и смотрел на запрокинутое чужое лицо брата темными немигающими глазами. Иногда он бросал взгляды на мать, и сердце его сжималось, когда он видел обильно струившиеся по ее обмякшему лицу слезы, темный плат, свисавший с ее плеч, руки, вцепившиеся в краешек лилового убрусца (таких рук у матери не было никогда – бледных и истонченных до восковой желтизны).
Константин не плакал и не жаловался, а лежал тихо, уставив лицо к потолку, как и обычно, когда спал, и розовый румянец на его щеках был обычен – только дыхание иногда стесненно прерывалось, и тогда мать наклонялась к нему и прислушивалась, как прислушиваются к отдаленно приближающимся шагам.
Чего ждала мать? Чего боялась?..
Время от времени в ложницу заходил отец, как всегда прямой и насупленный, тихо останавливался за их спиной, тихо дышал и так же тихо удалялся.
Потом пришла мамка, взяла Юрия за руку и увела с собой. Юрий хныкал и упирался, ему не хотелось уходить, хотелось еще побыть возле матери и брата...
Два дня провел Четка в подклете у Варвары, лежал на узенькой лавке, укрытый разноцветным тряпьем, отхаркивал из легких грязные сгустки крови, пил настои трав, захлебываясь от удушья, бредил и звал на помощь. Когда могла, Варвара всегда была рядом, когда не могла, – Четка боролся со своей болезнью сам.
На третий день кашель сделался чище, шрамы на лице подсохли, опухоль спала – Четка стал садиться, иногда ходил по каморке, поглядывал на божницу, крестился, шептал молитвы.
Заставая его на ногах, Варвара радовалась:
– Увечье – не бесчестье. Погляжу я на тебя, Четка, и думаю: скрипуче, да живуче.
– А я весь в отца, – мрачно отвечал Четка. – Отец тож на вид тощой был, а быка на хребтине подымал. Сама давеча сказывала – хотел перебить мне кат становую жилу, да не смог. Оттого как в роду у нас становая жила крепка... Ишшо поживем.
– Поживем, Четка. Ишшо как поживем! – вторила ему Варвара – Не зря я тебя приметила-то: мужик ты справной.
– Во грех ты меня ввела, – хмурился Четка, хотя Варварина похвала была ему приятна.
– Какой же это грех, коли любя? Не кобель ты...
– Поп я...
– Попы тож люди.
– Заповедь нарушил... Бог меня за это не простит.
– На конюшне-то... под плетьми-то... все грехи искупил,– сказала Варвара, задыхаясь от негодования.
– Может, и искупил, – неохотно соглашался Четка.
– Такой епитимьи и епископ на тебя не возлагал.
– Где уж...
Мучило Четку, что княжича не уберег. Но Варвара его и здесь успокоила:
– Жив княжич. Ничего с ним не станется. Нынче утром сказывала княгиня, что огневица у него прошла, бегает уж по терему...
– Слава тебе, господи, – крестился Четка, – Сняла ты камень с моей души. Не то казнился бы до скончания века. Руки бы на себя наложил...
– Невдомек мне, что жалостливый ты такой.
– Молчи, дура, коли своего ума нет, – обрывал ее Четка. – Дите он. И, яко любое дите, безгрешен...
Время шло. Короткие дни сменялись все более длинными ночами. Буйствовали морозы. Приходили оттепели, но не успевали люди отдохнуть, как снова подступали с северными злыми ветрами трескучие холода.
Четка совсем уж окреп, когда однажды утром набухшая дверь в подклет широко распахнулась и на пороге показался Кузьма Ратьшич – широкий в плечах, просторная шуба распахнута на груди. В руке – привычная плеть, глаза нагловато улыбаются.
Попятился Четка в угол, под спасительные образа, лицо прикрыл локтем.
– Не боись, – сказал Кузьма, перешагивая через порог и заполняя своим грузным телом почти всю камору. – Долго отлеживался ты, Четка. Нынче, сказывают, здоров.
Заморгал Четка глазами, ласковому голосу Кузьмы не верит: стоит в углу, навстречу шагу сделать боится.
– Кому сказано, не боись, – прогудел Кузьма.
– Не боится он, батюшка, – выскользнула из-под руки Ратьшича невесть откуда взявшаяся Варвара. – Робеет...
– Где робей, а где держись соколом, – сказал Кузьма, отстраняя Варвару. – Под плетьми не сробел, жив остал ся. Так нешто нынче оробел? Пришел я к тебе, Четка, с доброй вестью: снова кличет тебя князь.
Варвара часто закивала головой:
– Всё истинно, Четка. Всё – как Кузьма сказывает. Прощает тебя князь. Дай-то бог и ему и деткам его со княгинюшкой долгих лет и здоровья...
– Экая ты, Варвара, балаболка, – сказал Ратьшич. – Вот за нее молись, Четка. Пала она князю в ноги – просила помиловать. Да и жаль тебя: умная твоя голова, другого-то сразу и не сыскать... Били тебя, Четка, люто, а все ж таки щадя – не то изгнивать бы тебе во сырой земле. Попомни.
Глаза Варвары наполнились слезами.
– Иди, Четка, иди, – сказала она, крестя его издали.– И княжичи тебя ждут, и Всеволод...
– Ступай, коли зовут,– грубо оборвал ее Ратьшич.– Недосуг мне здесь с тобою разговоры говорить.
«Счастье, счастье-то какое! – радовался Четка, впервые за много дней выбираясь из подклета на морозный полдень. – Небо-то, а солнышко-то, солнышко!..»
Отроки, чистя скребницами коней, кланялись свободно вышагивающему, в развевающейся шубе, Ратьшичу, на Четку глядели со скрытыми усмешками, перешептывались между собой.
«А снега-то какие! – ликовал Четка. – А город – словно заново выстроен: купола на соборе словно угли из жаркой печи. А воздух-то, воздух!»
На княжом крыльце толпились бояре – все в нарядных, парчою и золотою нитью расшитых шубах с широкими воротниками, в дорогих, жемчугами усыпанных шапках. На поясах – мечи, в руках, унизанных перстнями, дорогие посохи.
Наперед важных бояр повел попа в княжеский терем Ратьшич. Дернул на себя обитую золоченой медью дверь, впустил в переход дымное облако пара, по-хозяйски, смело, потопал ногами, сбивая налипший снег. Четка неслышно пошаркал лапотками.
– Входи!
Посреди знакомых просторных сеней – княжеский столец (сколь раз бывал здесь Четка!), но Всеволода не видать. В полумраке теплится у смутно различимой иконы маленький огонек.
Едва держась на ослабевших ногах, Четка огляделся со страхом (снова стали одолевать его сомнения). Всеволод вышел из боковой низкой дверцы, следом за ним просунулся с сияющей улыбкой на лице розовощекий Константин. Остановился в нерешительности за спиной отца. Палец сунул в рот, в глазах – знакомые бесы...
– Прости, князь! – завопил, падая Всеволоду в ноги, Четка. – Прости и помилуй мя!..
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
Большой переполох учинил Ефросим в Новгороде. Две недели шумело правобережье, на Великом мосту сталкивались буйные толпы, скидывали друг друга в холодные воды Волхова, вспарывали рогатинами животы, били по головам шелепугами и кольями, раскачивали сполошный колокол, на вече кричали один громче другого:
– Не хотим Мартирия! Хотим Ефросима!..
– В воду Нездинича!..
– Шлите за Ярославом!
– Не хотим Ярослава!..
Купцы на Торгу шушукались, запирали товар под крепкие замки, заморские гости ставили на лодиях паруса, спешили до холодов убраться восвояси. На дорогах скрипели возы – и всё на запад, на запад...
Затих в кузнях веселый грохот молотков о железо, потухли горны. Не слышно было перестука кросенных станов, топоры, недавно строгавшие древесину, берегли для кровавого дела. По ночам стали пошаливать тати, темные людишки нет-нет да и пускали под охлупы боярских изб красного петуха...
Сильный стук в дверь поднял игумена с лежанки за печью. Ефросим закашлялся, повернулся на другой бок. Стук повторился.
– Эй, кто там? – спросил игумен, подходя к двери в исподнем. В неплотные доски пола дуло, обжигало холодом босые ноги. Во тьме встревоженно зашевелился Митяй.
– Отвори, хозяин, – сказал из-за двери осипший голос.– Мороз припекает, мочи нет...
– Кто таков будешь? – Но почудилось Ефросиму, будто торкавшийся был не один. Теперь снег явно похрустывал под ногами многих людей. Говорили друг с другом вполголоса.
– Странничек я, – донеслось снаружи. – Иду из Плескова на Нево-озеро, а город будто вымер. Не пустишь ли переночевать?
Встал Митяй, зачерпнул ковшиком из бочки воды, сказал полусонно:
– Впустил бы ты его, отче. Нынче и впрямь на дворе мороз...
– Цыть ты, – зашипел на него Ефросим. Приложил к двери ухо – тихо. Но давешний шепот был ему не по душе. Рука, лежавшая на щеколде, не торопилась открывать.
Дверь попробовали снаружи отжать плечом. Снова зашептались.
Ефросим испуганно отдернул руку от щеколды, бросился за печь, вытащил из-под лежанки топор. Вернулся, стараясь не шуметь.
– Эй, хозяин! – незнакомец подергал дверь.– Аль оглох?..
– Чего уж там – слышу, – ответил игумен.
– Ну так отворяй.
– Печь у меня не топлена. Ступай в соседнюю избу...
– Креста на тебе нет.
За дверью перестали таиться. Разговаривали во весь голос. Стучали в дверные плахи чем-то тяжелым. Дрожа всем телом, Митяй вцепился Ефросиму в спину:
– Беда, отче...
Игумен повел плечом, зло откинул его от себя. Поглядев по сторонам, придвинул к двери кадушку с водой.
– Не замай, Ефросим, – сказал охрипший голос. – Пущай, не то хуже будет. Нас много...
Лунный свет в узком оконце загородило бородатое лицо. Два горящих глаза уперлись в Ефросима. Повернувшись к невидимому во дворе, борода сказала:
– Один он...
– Мальчонка еще должон быть, – откликнулись от двери.
– Слышь-ко, Ефросим, – проговорил сиплый, прочищая громким кашлем забитое горло. – Отрок-то тут ли?
– Тебе-то что?
– Отрока жаль... Ежели сам не выйдешь, запалим избу.
– Не отворяй, отче, – стуча зубами, сбивчиво зашептал Ефросиму на ухо Митяй. – Боюсь я...
Ефросим сказал, упрямо глядя на дверь:
– Палите, коли так. И вам на небесах воздастся.
Мужики перепирались друг с другом. В оконце снова появилась борода.
– Отсель его не достать. Ино дело – стрелу бы метнуть.
– Достанем, – уверенно сказал осипший.
На дверь навалилось разом несколько человек. Доски выгнулись, затрещали. Мужики сопели, мешая друг другу.
– Этак его не возьмешь. Руби топором! – распоряжался сиплый.
– Шумно больно. Народ бы не всполошить...
– Как же, всполошишь. Нынче каждому своя жизнь дорога.
Топоры обрушились на дверь. Сиплый весело приговаривал:
– Погоди еще, Ефросим, – скоро доберемся...
– Навалились, соколики!
Истончаясь, доски поддавались под топором. На Ефросима посыпалась острая щепа.
Вдруг борода, маячившая в оконце, исчезла. Снег часто заскрипел под ногами, удаляясь. Во дворе послышался топот, глухая возня.
Стихло. Но погодя на дверь снова обрушились частые удары. На сей раз били не топорами.
По стуку человека от человека отличишь, словно по голосу. Стучавший не таился, колотил в дверь властной рукой.
– Да отворяй, что ли! – нетерпеливо потребовал зычный голос.
Ефросим перекрестился, отодвинул кадушку и сбросил щеколду. Топор на всякий случай держал в отведенной за спину руке.
Едва помещаясь в проеме, высокий человек, полусогнувшись, задержался на пороге. Глаза его не сразу привыкли к темноте. Но Ефросим узнал в вошедшем Словишу (доводилось им встречаться на дворе посадника Мирошки, когда приходил игумен с толпой обличать его в сговоре с Мартирием).
Следом за Словишей в избу вошел Звездан, подталкивая перед собой мужика без шапки с растерянным, дергающимся лицом.
Ефросим поднял над головой лучину. Огонек потрескивал, роняя ему на плечи легкие искры...
Словиша сел на лавку, расставив ноги; заправленный в ножны меч положил на колени. Звездан, поигрывая плеточкой, стоял у двери.
В избу набрался холод, игумен набросил на плечи овчину, сунул ступни в мягкие чоботы. Радостно возбужденный Митяй разводил в печи огонь...
– Э, – сказал Словиша, все время не сводивший взгляда с захваченного на дворе мужика. – А мы ведь давнишние знакомцы. Нешто ты не признал его, Звездан?
– Как не признать, – отвечал Звездан с улыбкой. – До сих пор меточку от него ношу...
– Вот и попался ты нам, Вобей, – сказал Словиша. – Стереги его зорко, Звездан, не то снова утечет...
– Не утечет, – проговорил Звездан и уверенно положил руку на меч.
Вобей усмехнулся.
– Кажись, спутал ты меня с другим, дружинник, – сказал он. – Лыткой меня кличут. А про Вобея я не слыхал.
– Ничего, – пообещал Словиша. – Свезу к посаднику – иное запоешь...
– Наше дело смирное.
– Оно и видать, – кивнул Словиша на порубленную дверь. Мужик вздохнул, отвернулся и стал глядеть немигающими глазами на красный огонек лучины.
– Странниками прикинулись, просились заночевать, – объяснил игумен.
– Ведомо. Нешто тать назовется татем?!
Еще немного прошло времени, и Ефросим стал обретать голос. Он то ерзал на лавке, то вскакивал и, нависая над Вобеем, обличал новгородцев в черной неблагодарности.
– Отвернулся от вас бог, ибо погрязли вы в воровстве и прелюбодеянии. Старших не чтите, тащите в скотницы злато и серебро, а о душе не мыслите. Руку подняли на Ефросима, а о том не подумали, что шел я из своего монастыря, дабы очистить вас от великих грехов и скверны. Храмы опоганили, ведете торг в виду святой Софии, собираетесь на вече, зубоскалите и тем порушаете древнюю веру. А о вечном спасении не мыслите, возясь, яко свиньи, в своем корыте, того и не видите, что уж разверзлась перед вами геенна огненная, что гневается господь и шлет вам тяжкие испытания...
Увеличенная пламенем лучины, лохматая тень игумена зловеще колыхалась на голых стенах избы.
Вобей, мигая, вжимал голову в плечи, Митяй крестился, притихли дружинники.
– Вотще! – рокотал игумен. – Покину Новгород и удалюсь в обитель. Не мое место среди вас. Плодитесь и подыхайте над своей блевотиной!..
И вдруг, приблизившись к Вобею, дал ему увесистую затрещину.
– За что, отче? – отшатнулся побледневший Вобей.
– Молчи, раб! – взвизгнул игумен и упал, тяжело дыша, на лавку. В избе сделалось тихо. Пряча улыбку в шелковистых усах, сказал Словиша:
– Благослови нас, старче.
– Бог с вами, – вяло отвечал Ефросим. Гнев уже миновал его, глаза потухли. Слабая рука поднялась для крестного знамения...
...Окутанный глубокими снегами ночной Новгород был тих и неприютен. Погоняя впереди себя связанного по рукам Вобея, Звездан говорил Словише:
– Нынче не понравился мне игумен.
– Осерчал старец, – кивнул Словиша, правя коня.– Мартирий на людях невнятен, но мстителен и коварен. Сдается мне, что неспроста наведались мужички к Ефросиму на двор. Верят простые люди старцу, а у владыки прежней силы уже нет...
– Потрясем Вобея, так кое-что и выведаем.
– Не наше это дело – Вобея трясти, – сказал Словиша. – Пусть Мирошка его трясет.
– Мирошка потрясет...
– Но и мы, чай, не во Владимире.
В конце улицы показались конные. Передний, в шлеме и смутно поблескивающей в скупом лунном свете кольчуге, поднял руку:
– Стой!
Словиша натянул удила.
– Кто такие будете?
У говорившего была гордая осанка и властный голос. Конь под ним приседал и взрывал копытами снег. Звездан разглядел взятых верховыми в окружение мужиков.
– Посланные мы великого князя Всеволода Юрьевича. А поспешаем к посаднику на двор, – обстоятельно отвечал Словиша.
Всадник стегнул коня и подъехал ближе.
– А ентого куды поволокли? – указал он черенком плети на Вобея.
– Татя взяли, – сказал Словиша.– Ломился в избу к игумену Ефросиму...
– Ишшо одного словили! – обрадованно воскликнул вой. – У нас вон тож богатый улов. Не его ли дружки?
– Может, и его.
Вобей, стоя меж коней, встревоженно прислушивался к их разговору.
– Житья от проклятых не стало, – пожаловался вой. И вдруг предложил: – Да вам-то он на что? Давайте сюда татя. Завтра потрясем их всех вкупе...
Звездану не понравился этот бойкий разговор. Но Словиша быстро согласился:
– Бери, коли так. Да гляди в оба: старого лесу кочерга.
– У меня не сбежишь, – хохотнул вой.
Звездан обиделся.
– Почто выпустил ты Вобея? – спросил он Словишу, когда они отъехали.
– А тебе и невдогад? – усмехнулся Словиша. – Я-то сразу приметил: из одного они куста. Да не с руки нам с ними сечись – все равно одолели бы...
Звездан решительно повернул коня.
– Куды? – схватил за поводья Словиша. – Куды, шальной?..
– Пусти! – задыхаясь, проговорил Звездан. Взмахнул плетью.
– Стой! – Словиша перегнулся с седла, едва не вывалился в сугроб. Кони храпели и фыркали. Отроки, не вмешиваясь, смотрели на них с недоумением.
Словиша был кряжистее и крепче – не одолеть его Звездану. Боролись молча. На крутом морозе быстро остывала кровь. Обмяк Звездан, мягко вывернулся из крепких объятий Словиши:
– Ладно уж... Будя гомозиться.
Словиша покачал головой:
– Не горячись.
– Обидно...
– Чья беда, того и грех. Нешто своя жизнь не дорога?
Похрустывал снег. Конь под Звезданом шел, раздувая бока. Над охлупами изб, над куполами церквей висело простеганное серебристыми нитями лунное сияние. Сладко попахивало свежим снегом и горько – растворенным в застывшем воздухе крепким дымком.
Город спал, не тревожась, досматривал теплые сны. А в стороны от него уходили в бескрайность нетронутые леса.
Не шелохнутся отягощенные снегом ветви дерев, не треснет сучок, птица не пролетит. Стылый воздух наполнен таинственной звенью, невидимо осыпающейся с оцепенелых небес...
2
Тишина. Лишь во Владычной палате не гаснет душное пламя свечей и лампад.
Длинноногий Мартирий взад и вперед вышагивает по дубовым, темным от времени половицам, встревоженно припадает к окну: не видать ли? Не едут ли?..
Двор был пуст. Пробитая в высоких снегах дорожка искрилась нетронуто, святая София стояла, словно высеченная из глыбы озерного матерого льда.
На лавке завозился пушистый кот, зевнул, потянулся, выгнулся, спрыгнул на пол, потерся о ногу владыки.
– Ишь ты, – ласково проговорил Мартирий, нагнулся, взял кота на руки, пощекотал за ушами, погладил по мягкой шерстке. Кот замурлыкал, потянулся холодным носом к лицу владыки, ткнулся в щеку, блаженно закрыл глаза...
Время в тишине бежало незримо. Шипели свечи, потрескивали на морозе толстые стены.
Вдруг чуткое ухо Мартирия уловило далекое похрустыванье снега. Не они ли?
Прижимая к груди кота, владыка пригнулся к оконцу. От ворот к палатам по метеной дорожке трусили впереди высившихся за их спиной всадников четверо мужиков. Поскальзываясь на льду, мужики падали, помогали друг другу встать, бежали, низко склонив головы.
Отворилась дверь – широко, просторно. Из тьмы сперва показался шлем, тысяцкий вошел и пал перед владыкой на колени. Выдохнул толстогубым ртом:
– Привел, владыко.
Один за другим в палату входили мужики, сдергивали с лохматых голов заиндевелые шапки.
– На колени, – приказал, не оборачиваясь, тысяцкий.







