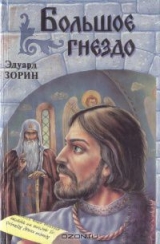
Текст книги " Большое гнездо"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц)
– Слеп ты еще, – улыбался Мисаил. – Стремишься к добру, а того не ведаешь, что зло рождает зло, а за добро не взыскуют платы. Ибо сказано: «И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники то же делают».
Не ладился у них разговор, не поддавался отшельнику Веселица – люто жгло у него в груди. Сотрясая лавку, надрывался он смертельным кашлем и впадал в забытье.
И снова ухаживал за ним Мисаил, снова варил в горшках травы, смазывал раны целебными настоями, сидел по ночам у изголовья.
Полюбил он молодого купца; выслушав его историю, увидел в ней и свою жизнь.
Был и он когда-то красив и молод, и по нем когда-то вздыхали боярышни, красовался и он на лихом скакуне в дружине князя Юрия Владимировича. Да, знать, не судьба ему была, иное было начертано ему на роду. Разорил князь усадьбу его отца, и оставался Мисаилу путь один – в монастырь. Но недолго пробыл он в святой обители – и за монастырскими стенами творил игумен суд неправый, обирал чернецов и бранил их гнусной бранью. «Так есть ли в мире сем правда? – вопрошал себя Мисаил.– И почто одному дозволено все, а другому не отпущено и самой малости?»
Было, всё было. И когда восстал он против игумена, защитив униженного, никто не вступился за него, хоть только что и подстрекали его все; пряча глаза, смиренно удалились в свои кельи.
И изгнан был Мисаил из монастыря, и ходил по миру, как и Веселица, прося подаяния.
И понял он, что прошлая жизнь его была прожита зря и что, лишь духом приблизясь к Его престолу, обретет он и покой и былую веру.
Выбрал он тихое место за Лыбедью, сам срубил из бревен домушку, жил смиренно в трудах и молитвах.
Поначалу все складывалось, как задумал: надел власяницу, ушел от мирской суеты, никто его не беспокоил в уединении.
Но скоро пошла о нем людская молва. Раз как-то набрела на него древняя старушка, прослезилась от умиления, выслушав отшельника, рассказала соседкам; потом мать принесла свое больное дитя – выходил его Мисаил; потом остановились неподалеку на привале купцы – народ любознательный; после наехала боярская охота, а там уж все его стали узнавать; встретят на тропе – кланяются, появится Мисаил в деревне – показывают пальцами. Искушали его боярские сынки медами и брагой, зазывным смехом прельщали молодые боярышни.
Всё стерпел Мисаил, устоял перед грехом. И ежели серчал поначалу, то скоро понял: послал ему господь испытание, дабы укрепить его в вере и добровольно принятом смирении.
И святость увенчала его чело, и дух возвысился над мирскою юдолью. Счастлив был Мисаил.
Но нынче, глядя на страждущего, разметавшегося в жару Веселицу, неотступно думал он: «Уж не господь ли послал ему и этого юношу?.. А что, как суждено ему и Веселицу обратить в святую веру?.. Что, как смирит он и эту плоть – зачтется ли сие на страшном суде?..»
Дни шли за днями. Веселица поправлялся.
Радовался старик: молодая кровь все переборет.
А солнце уже стояло на исходе лета.
4
В зарев, в самую жаркую пору жатвы, объезжала Досифея монастырские земли.
Радовали глаз игуменьи хорошо поднявшиеся в тот год хлеба. Выходила она из возка, опираясь на длинный посох, срывала колоски, растирала в ладонях, пробовала твердые зернышки на вкус.
Под синей безоблачной вышиной вызванивали в полях перепела, мужики и бабы, с трудом разгибая затекшие спины, глядели на проезжавший по пыльной дороге возок.
В деревнях игуменью встречали старосты, звали за накрытые под деревьями столы.
Разглядывая щедро выставленные пития и яства, Досифея ворчала:
– Этак-то все богатство пустите по ветру. Почто излишествуете, окаянные?
Сама она ела мало. Послушницы, сопровождавшие ее, переговаривались:
– Жадна стала матушка. Ровно мышь-полевка, все тащит в свои закрома.
Старосты удивленно разводили руками:
– Знать, у игуменьи от скупости зубы смерзлись...
Сами же елейно улыбались Досифее, покрикивая, велели слугам убирать со столов.
Дошли слухи о приезде игуменьи до других деревень. Там уж столов не накрывали, медов и яств не подавали.
И снова была недовольна Досифея:
– Сладкого не досыта. Почто встречаете меня, яко последнюю черницу, старосты? Аль не хозяйка я вам?
И несли расторопные слуги на столы лебедей и брагу. После корила игуменья послушниц:
– Мирские-то обычаи черницам не пристали. Жрете, ровно пузо дырявое. И куды в вас столько лезет?.. Вот возвернемся – наложу епитимью.
Богат был монастырь. Жаловала его княгиня Мария многими землями и угодьями, ласкала и одаривала Досифею. Ломились в монастыре от припасов кладовые, а черницы ходили в рясках латаных-перелатанных, досыта не ели, не пили, спали на досках, зимою коченели от холода.
В одной из самых дальних деревенек на Колокше встретился Досифее обоз боярина Одноока – возвращался боярин с зерном, собранным у холопов, сам восседал на последнем возу.
– Экой удачливый ты, боярин, – с завистью сказала ему игуменья. – Мужички у тебя трудолюбивые, как пчелы. Вона уж обоз наладил, а я еще не свезла в закрома ни кади...
– Твое дело божеское, матушка, – хитро прищурясь, отвечал Одноок. – А я мужичкам баловаться не позволяю. Всё выбил до зернышка – нынче с исада на Клязьме отправляю хлебушек в Великий Новгород...
– Надоумил бы меня, неразумную, каково получать с уборка половник, а с половника оков?
– Батожком, матушка, батожком.
– Лукавишь, боярин, – улыбнулась игуменья.– С виду ты смирен и ласков, яко агнец. Неужто не жаль тебе твоих холопов?
– Холопа жалеть – самому идти в закупы. Не нами сие заведено – всё от бога.
– Набожен ты, боярин, – сказала Досифея. – Истинному христианину дорога прямая – в рай.
– Да и о твоем благочестии, матушка, я зело наслышан.
– Мы к богу ближе....
Так беседовали они ласково и с почтением на обочине, а солнышко подымалось всё выше и выше, а когда стало припекать, Одноок велел слугам разбить на берегу реки полстницу и пригласил к себе игуменью полдничать.
Тотчас же поднялась вокруг них суета, у воды запылали охватистые костры.
Под покровом просторной полстницы было прохладно; игуменья с Однооком сидели на коврах, пили квас. С берега доносилось повизгиванье послушниц: мужики озоровали, и Досифея недовольно хмурила брови.
Пока не поспел обед, слово за слово, завязался у Одноока с игуменьей доверительный разговор.
Жаловался боярин на сына своего Звездана:
– Вовсе отрок отбился от рук. Дерзит, отцовых наставлений не слушает, о князе и боярах говорит непотребно, ровно сам не боярский сын, а родился у холопа или рядовича под дырявой крышей... Всё есть у добра молодца: и пуховая постель, и нарядная одёжа, и обличьем не урод: боярыня-то, помилуй мя господи, какая красавица была!..
– Как же, как же, помню Радмилу, – кивала Досифея, попивая квасок. – И станом стройна, и с лица бела. А скажи-ко, померла в одночасье – почто такое, боярин? – вдруг спросила игуменья. – Поветрие разве какое?..
– Уж и забыла, матушка, – сказал, внезапно побледнев, Одноок. – В тот год многих призвал господь. Люди-то, не то что в своих домах, прямо на улицах падали...
– Припоминаю, припоминаю, – кивнула игуменья. – Да как же ты не уберег ее, красавицу нашу, боярин?
– Все во власти божьей, матушка. Ей бы, Радмилушке-то моей, сидеть-посиживать в тереме, а она привечала больных да сирых. Вот и захворала – три дня маялась, ни есть, ни пить не могла, всё только молитвы шептала... Уж больно убивалась по Звездану, родименькая.
Боярин сморщился, пальцем смахнул со щеки слезу – ишь как растрогался. А Досифея слышала совсем другое. От людской молвы не спрячешься, сокровенного не утаишь. Разносили люди, будто сам боярин уморил Радмилу. Пришлась она ему не ко двору: отзывчивая была и добрая – стекались к ней со всего города калики и нищие. Кормила она их и поила, одевала и обувала – оттого и прослыла святой, оттого и невзлюбил ее Одноок. У него ведь каждая ногата на счету. Скареден был боярин, ни себя, ни близких не жалел – лишь бы набить добром свои бретьяницы да скотницы. Бил он Радмилу нещадно, в подклет сажал на хлеб и воду...
– Трудно отлетала Радмилушкина душа, – всхлипывая, ворковал Одноок. – Хоть и прошло с того дня не мало времени, а сердце и поныне кровью запекается. Жжет в груди-то, ох как жжет, матушка.
– Успокойся, боярин, – сказала игуменья. – Душа ее нынче на небесах. А то, что убиваешься, то, что жалеешь, мне ведомо: доброй ты человек, о том все говорят.
Ох, согрешила Досифея, неправду вымолвила! Слово медоточивое вылетело, а в мыслях было иное...
Но Однооку понравилась ее лесть. Он и ухом не повел, не покорежился – слезы высохли на его щеках, как ни в чем не бывало принялся поругивать Звездана:
– Экое учудил: убег с конюшим со двора, а куда – не ведаю...
– Что ты такое говоришь, боярин? Куды убег Звездан? Да слыханное ли это дело!
– Куды убег, у него спроси, матушка. А только осрамил он меня на весь город. И к протопопу ходил я, и ко князю... Князь зело разгневался. Но сыскать обещал. А сыщу, сказал, отроку твоему несдобровать. Худо, совсем худо...
– Да что же ты ему такое сделал, Одноок, – пристально, посмотрела на него игуменья, – что ушел твой сын из дому без отчего благословения?
– А мне отколь знать, – нахмурился боярин.
– Может, в каком монастыре объявится? – предположила Досифея.
– Может, и объявится. Князь уж послал людишек пошарить по обителям.
Говоря так, Одноок вздыхал и охал. Игуменья тоже вздыхала и охала, но про себя думала: «Не от сладкой жизни сбежал боярский сын. Знать, довел его Одноок, эко прижимистый какой. Звал гостьей быть, а угощенья пожалел».
Она оглядела накрытый слугами стол, поморщилась: мясо постное, всего на кус, в жбанах кроп пожиже монастырского. Даже хлеба пожалел боярин.
Хотела уж она кликнуть своих послушниц да велеть им нести дорожные припасы, но вовремя спохватилась, а после похвалила себя за рассудительность: свой-то хлебушко еще сгодится – дорога дальняя, а боярское брюхо черевисто.
Так и сидели они друг против друга, попивали разбавленное теплой водою вино.
Не дождался Одноок угощенья, а думал: расщедрится игуменья. Досифея посмеивалась: «Оттого и богат боярин, что из блохи сапоги скроит. Да меня не проведешь».
Разъехались они после полудня. Свернули слуги полстницу, поклонился Одноок игуменье:
– Прощай, матушка. Дай бог тебе здоровья.
– И ты прощай, боярин. Спасибо за угощенье.
Рванули кони, взяли с места возок, покатили его к перевозу. Под скрип колес Досифея задремала.
5
Утомительная дорога в возке, верхами и на лодиях была позади. Только что прибывший из Ростова епископ Иоанн, бывший Всеволодов духовник, заступивший на ме сто почившего в бозе дряхлого Луки, еще переодевал дорожное пропыленное платье, как в дверь постучали, и, отстраняя от прохода служку, в горницу вступил Кузьма Ратьшич.
– Входи, Кузьма, входи, – запоздало пригласил его Иоанн, оправляя полы просторной рясы и добродушно улыбаясь.
– С прибытием тебя, отче, – поклонился епископу Кузьма и тоже улыбнулся. – Шел мимо, гляжу – возок на дворе. Давненько ждали тебя, давненько. Должно, не ко времени я – притомился ты, да вот не утерпел. Дай, думаю, взгляну на Иоанна. Сколь уж времени не виделись...
Епископ по-простому обнял дружинника и усадил на лавку. Глядя ему в глаза, медленно покачал головой:
– А ты все не стареешь, Кузьма. Будто время обходит тебя стороной...
– Льстишь, отче.
– Радуюсь. Старость не красные дни. Нынче ехал, думал: в былые-то годы всю дорогу от Ростова с одним привалом бы отмахал.
– Ишь, чего захотел, – засмеялся Ратьшич. – По сану тебе не пристало шибко-то гнать. Небось не отрок – духовный пастырь. Суета – дело мирское.
Говорили они так весело, потому что знакомы были давно, и годы у них были равные, и думы были одинаковые – оба служили князю Всеволоду, и Всеволодовы мысли были их мысли, и воля князя была их воля. И иной жизни они не желали.
Еще совсем недавно Кузьма ездил в Киев к митрополиту добывать Иоанну епископию. Трудное это было дело, много положил Ратьшич на него трудов и терпенья, ибо знал: от того, кто сядет в Ростове, будет зависеть многое. Сколь уж лет с благословения ростовских епископов плодилась за спиной владимирского князя боярская вражда, сколь уж раз перекидывался Великий Ростов то к Ростиславичам, то к новгородцам.
Упрям был митрополит, но и осторожен: прямо против Иоанна не высказывался, а время тянул, сносился с Рюриком. Но Рюрик был плохою ему подмогой, а до патриарха в Царьград за неделю не доскачешь.
Богатые дары привез Ратьшич от своего князя на двадцати возах – не только грозил, но и задабривал митрополита Всеволод. И еще знал митрополит, что и в Царь граде есть у владимирского князя заступа, что течет в его жилах и византийская благородная кровь, а терять свое добытое с трудом место в Киеве ему не хотелось. Да и не до Руси было в те дни патриарху: стояло у самых царьградских ворот огромное войско сумасбродных крестоносцев...
Уступил митрополит Всеволоду, утвердил Иоанна в Ростове – так и кончилась там боярская вольница.
С тех пор жил Иоанн и в Ростове и во Владимире. В Ростове больше, потому что нужен еще был там Всеволоду строгий присмотр. Нынче явился епископ к князю после более чем полуторагодовой отлучки.
В замыслы Всеволода он был посвящен и уже догадывался, с чем связана предстоящая встреча.
– Всей смуте новгородской начало – владыко Мартирий, – сказывал Иоанн засидевшемуся у него Ратьшичу. – Посадник ихний Мирошка Нездинич нам не в опаску, хотя и за ним глаз да глаз нужен. А Мартирий напорист и хитер. Бояре, что мечтают, как и прежде, сажать в Новгороде князей по своей воле, глядят на него с надеждой. Оттого и Ефросима отвергли, что был Ефросим разумен и понимал: не время нынче Новгороду ссору заводить со Всеволодом. Купцы, те уж возопили: не стало на земле порядка. И не вижу я иного исхода, как посадить князю нашему сына своего на новгородский стол, а с ним послать дружину...
– Не примут дружину в Новгороде, – выразил сомнение Ратьшич.
– Податься им некуда – примут. Ране-то, ежели что, обращались они к киевским князьям, теперь же Рюрику не до них: Роман, волынский князь, на него в великой обиде. Самое время обуздать строптивых.
– Ты князю-то про то и скажи.
– Почто же во Владимир-то я прибыл? – улыбнулся Иоанн. – И еще хочу сказать Всеволоду, чтобы поспешал. Донесли до меня верные людишки, что не без помощи Мартирия обхаживают Мирошку бояре, коим не по душе пришелся доставленный к ним Всеволодом Ярослав Владимирович, – хотят крикнуть на вече Мстислава Давыдовича. Ярослав-то тих и послушен, а Мстислава я знаю – от него иного и не жди, кроме как новой смуты – он ведь единого с Рюриком корня... Мирошке-то Нездиничу нашего бы человечка под бок. Ему ведь и тех, что за Мстислава, обидеть не хочется (как-никак, а с их помощью сделался посадником), и противу Всеволодовой воли идти опасается. А Ярослав, как смекаю я, всем не по душе...
– Любит Всеволод Ярослава...
– Знаю. Оттого и думаю, что нелегкий нам предстоит разговор.
Иоанн потер виски, решительно прошелся взад и вперед, остановился перед Ратьшичем, покачал головой.
– Мы у князя первые советчики, – сказал он. – С нас и спросится. Так почто должны мы молчать?
– Вот бы Нездинича надоумить... Нездиничу лучшего не придумать, как только что отказаться и от Ярослава, и от Мстислава також. Пусть сам и просит Всеволодова сына в Новгород. Тут уж боярам деться некуда.
– Умен ты, Кузьма, – засмеялся Иоанн. – Недаром полюбил тебя наш князь.
– Да и ты у него в чести, – сказал Ратьшич.– А что до верного человечка, то есть у меня один на примете...
– Уж не Словиша ли?
– Угадал. Он самый...
– А я повидаюсь с Ефросимом, – задумчиво произнес Иоанн. – Шибко любят его в Новгороде. Мартирия-то клянут, а Ефросима любят. Пущай подбирается к Нездиничу... Словиша-то с одной стороны, а Ефросим с другой. Крепко обложат посадника – никуды ему не деться. Дело выдумали мы с тобой, Кузьма.
– Не копьем побивают, а умом.
– Ишь ты, яко возгордился, – улыбнулся Иоанн, – а про то запамятовал, что всё в мире от бога.
– Разум – богу во славу, – быстро нашелся Кузьма.
Иоанн перекрестил его и поцеловал в лоб.
– Ступай покуда.
Кузьма вышел. В дверях он снова столкнулся со служкой. Тот отступил в полутьму перехода, быстро скользнул по лицу Ратьшича пристальным, нехорошим взглядом.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Одноок, наверное, не так убивался бы, если бы сын не увел у него со двора двух лучших коней.
Сейчас Звездан радовался своей сообразительности, потому что ежели надумал бы идти пешком до самого Новгорода, то и его и ушедшего с ним конюшего Вобея схватили бы давным-давно.
В пути никто их не обгонял, лишь на подъезде к одной небольшой деревеньке повстречался длинный епископский обоз. В переднем возке Звездан увидел Иоанна, было с ним много челяди и служек, гарцевавших на обочине, но за кустами беглецов не заметили, и к вечеру те благополучно прибыли в Ростов.
У Вобея здесь были знакомые, приняли они путников с лаской, накормили, напоили, уложили спать, а утром снарядили в дорогу с хорошим запасом съестного, которого должно было хватить до конца путешествия.
Вобей оказался говоруном; сначала Звездан слушал его с охотой, но скоро он ему изрядно надоел. Историю его он знал уже почти наизусть и сам мог рассказать любому не хуже самого конюшего.
Сказать по правде, так только одного никак не мог взять он в толк: что заставило Вобея бежать с ним вместе от Одноока. Боярин его не обижал, хоть и не щедро, но одаривал – не то что других челядинов, которым и еды-то не каждый день перепадало досыта.
Брал с собой Вобея Одноок, объезжая деревни, – и конюший исправно помогал боярину обирать холопов: был он пронырлив и вездесущ, знал, у кого где и что лежит, ведал и про то, что припрятано от зоркого глаза боярского тиуна.
Вот и про тайные мысли Звездана проведал Вобей, а как – одному богу ведомо.
Ночью уходил Звездан из дома. Прокрался мимо житии к конюшне, отворил ворота заранее припасенным ключом, и тут – Вобей: заговорил быстро, глотая слова:
– Ты меня не бойся, Звездан. Не серчай, а перво-наперво выслушай. Знаю я твою думу, но про то никому не скажу... Только не дело ты задумал – одному пускаться в дальний путь. Много злых людей нынче бродит по Руси. Не приведи бог, повстречаешь татей. А вдвоем – не страшно. Глядишь, и подсоблю тебе в чем. Возьми меня с собою...
– Куды же тебе со мною, Вобей? – удивился Звездан. – Да знаешь ли ты, каково тебе будет, ежели настигнет батюшка?!
– Нынче Одноок далеко. И покуда возвернется, нас уж не догонишь.
– Да почто решился ты на такое? Али худо тебе жилось у Одноока? Любил и жаловал тебя боярин.
– Мило волку теля, – сказал Вобей, ухмыляясь.– Отколь тебе знать про мою кручину.
И верно, подумал Звездан. Иному ведь и его, Звезданово, житье покажется райским. Но воля всего дороже. Не выдержал, должно, Вобей, не по душе ему ни честь боярская, ни ласка, коли вокруг одни только слезы.
Взял он с собой Вобея и не пожалел. В пути без него пришлось бы Звездану туго: и хворосту на костер соберет, и живность какую добудет в лесу. Ловко брал Вобей стрелою быстрого зайца. Меткий был у него глаз, твердая рука. И байки сказывать был он великий мастер – повидал Вобей большой мир, было ему что рассказать боярскому сынку. Потешался конюший над попами и монахами, хулил их грешное житье.
– У твово батюшки тож божьи лики во всех углах, – говорил он, – а праведности ни на грош.
Не любил Звездан своего отца, но Вобеевы откровенные прибаутки его коробили.
– Ты бы уж чем другим меня потешил, – останавливал он разошедшегося мужика.
Вобей лукаво улыбался и начинал низким разбойным голосом старину о лихом ватамане. В пляшущих бликах лесного костра лицо Вобея обретало зловещую лихость. Растрепанная борода, широко разинутый круглый рот с с сочными красными губами и поблескивающие глаза конюшего подымали в Звездане волну необъяснимого ужаса. Со страхом вглядывался он в обступившие их со всех сторон деревья, улавливал шорох чужих шагов, свистящий шепот, затаенное дыхание крадущихся к привалу людей.
Конюший смеялся:
– Вот и старина моя тебе не по душе. Или за сердце взяла, оттого и гомозишься?
– Хороша твоя старина, Вобей. Только подумал я: а что, как услышит твой трубный глас посланная за нами охота?
– В лесную глушь мужики зазря не попрут, – убежденно успокаивал его конюший. – Им своя голова дорога. Проедут мимо...
Спали они рядом. Под ухо подкладывал Вобей прихваченный в боярской усадьбе мешок; ни днем ни ночью не расставался он со своей поклажей. Уж за Ростовом стал примечать Звездан: с чего это стережет свой мешок Вобей? Не золото ж у него в мешке, отколь золоту взяться у конюшего?
И раз как-то на ночлеге, когда отправился Вобей к реке зачерпнуть в котелок водицы для ухи, не утерпел, развязал Звездан мешок. Заглянул вовнутрь – и отпрянул: так вот почему увязался за ним Вобей, вот почему бежал от Одноока, – ограбил он боярина, сложил в мешок золотые колты и обручи, даренные боярином Звездановой матери да после отобранные и припрятанные с прочим добром в дубовые, железом обитые лари. Как добрался до них Вобей, о том Звездан не стал его спрашивать. А спросил совсем о другом:
– Знаю теперь я, Вобеюшка, верой и правдой служил ты боярину. А совесть куды схоронил?
– О чем ты? – удивился Вобей. Но, глянув в глаза Звездана, все понял.
– Темная ночь – татю родная мать, – сказал Звездан с горечью. – Отныне я с тобой вроде одной веревочкой связан.
– Хоть молод ты, а верно угадал, – криво усмехнулся Вобей, – не сына ищет боярин, а хитителя. Несдобровать тебе, Звездан. А потому хлебай ушицу да помалкивай.
И еще пригрозил:
– Хитрить со мною не моги. Ежели где проговоришься, мне всё с руки: ножичек под ребро – и в воду.
Так с того вечера и легла между ними неприметная с виду вражда: едут рядом – улыбаются, лягут спать – глаз не сомкнут, стерегут друг друга. Позеленел весь Звездан, отощал, последними словами клял себя за доверчивость. А Вобей скоро снова ожил. Снова стал шутить и хорохориться. Не таясь, рассказывал о вольном житье-бытье. О друзьях своих татях и об их гнусных делах.
И так смекнул Звездан: Вобей бы и сам ушел от боярина, да случай помог ему. А то, что прилип он к боярскому сыну, то и ясного дня ясней: был он при нем в полной безопасности – без нужды никто не остановит, пытать не станет, куда и почто путь наладил, не бежал ли от своего господина.
Лишь на подъезде к Новгороду расстался Вобей со Звезданом. Сел на одного коня, другого привязал к луке. Ощерился:
– Не поминай лихом! А то, что остался ты пешим, то не горюй: добрые люди помогут. Да и до Новгорода тебе два дни пути.
Крикнул так – и ускакал. И остался Звездан один на лесной запутанной дороге.
Был он теперь мало чем похож на боярского сына: кожух в дороге пообтрепался, красные сапожки пооблиняли, в шапке из куньего меха вырваны клочья, торчат хвойные иголки и сухие травинки, лицо обгорело на солнце, нос облупился...
Но недолго горевал Звездан: коней ему было не жаль, и дальняя дорога не страшила его. Ноги молодые, до места доведут.
Долго ли, мало ли он шел, а вышел к перевозу на большой реке.
Шумел перевоз. Мужики столпились с возами на отлогом берегу, ругали пьяного перевозчика, сидевшего на завалинке перед своей избой.
– Эк тебя угораздило, проклятого, – говорили мужики.– И доколь еще ждать тебя? Куды подевал дощаник?
– Ась? – пьяно ухмыляясь, приподымал перевозчик треух. – Куды ж он мог подеваться ?
– Ты встань-ко, встань, – напирали мужики. – Почто сидишь, яко под иконой?
– А мне чо? – невозмутимо улыбался перевозчик.
– Узнаешь чо. Вот намнем бока, тогда и пошевелишься.
– Нету дощаника, мужики, – развел руками перевозчик.
– Како нету?
– Уплыл...
Из избы вышла жена перевозчика, сухопарая баба с острым носом и усталыми желтыми глазами на морщинистом лице. Поглядела с укором на толпу, потом на мужа, покачала головой:
– Вот те крест святой, мужички, – сказала она. —
Не врет Ерошка мой: дощаник и впрямь к излуке отнесло. Оттого нехристь и пьян с утра.
– Нонче праздник, – робко вставил Ерошка и громко икнул.
– У тебя ежедень праздник, – оборвала его жена.
Ерошка замолчал и обессиленно замотался на завалинке из стороны в сторону.
– С его что возьмешь, – зарокотали мужики. – Не ругай его, баба. А мы сами притянем дощаник. А ну, кто с нами ?
Вызвалось человек десять. Пошли гурьбой вдоль берега, кричали, размахивали руками.
К перевозу подъезжали все новые возы, подходили страннички с котомками из лыка, в лаптях и реже – чоботах. Останавливались верховые.
Звездан присел на корточки возле воды, напился, обмыл лицо, лег, откинувшись на спину. Глядел в голубое небо, жмурился.
– Гей-гей! – послышалось на опушке. Звездан встрепенулся от знакомого голоса. В животе у него сразу сделалось тоскливо и пусто.
По проселку от леса спускались на резвых конях по-дорожному, но богато одетые всадники: яркие зеленые и малиновые кожухи, высокие шапки, у иных через плечо небрежно переброшены яркие коцы. И в переднем всаднике, широкоплечем и рослом, тут же признал Звездан Словишу.
Ему бы податься от перевоза вдоль бережка, откатиться за избу, притаиться на время, да члены занемели. Едва распрямился, едва встал на ноги, как тут же высмотрел его зоркий Словиша.
– А ты отколь тут, Звездан? – направил он к нему приплясывающего коня.
Неловко Звездану снизу вверх глядеть на Словишу, а тут еще солнышко в глаза. Заслонился он рукою, попятился.
– Стой! Да куды же ты? – спрыгнул с коня Словиша.
2
Не стал ничего таить от Словиши Звездан, рассказал все как было. И про Одноока, и про Вобея, и про коней.
– Ловко обвел тебя хитрец, – выслушав его, посмеял ся Словиша. – Да ты шибко-то не убивайся. Кони – дело наживное, а боярин тебя простит. Поедем со мною в Новгород.
– Туды и путь держу, – сказал Звездан, теперь уже радуясь, что повстречал дружинника.
Были при Словише три запасных коня (не в ближнюю пускался он дорогу), одного отдали Звездану.
– Скажи-ко, повезло тебе, – самодовольно улыбался дружинник.– Разом и коня добыл, и веселого попутчика. Со мной нигде не пропадешь!
Мужики тем часом пригнали дощаник, и все вскоре переправились на другой берег. Дальше пошли новгородские пределы, а еще через день отряд выехал к серебристому Волхову. Отсюда до Новгорода рукой подать.
Словиша был человеком важным, посланным от великого князя Всеволода (сам он знал это и соблюдал степенность), и потому определили ему постой на дворе у посадника Мирошки Нездинича. Сопровождавшие посла дружинники расположились поблизости, а Звездан был вместе со Словишей.
– Нынче я тебя никуды от себя не отпущу, – сказал тот серьезно. – А то сызнова сбежишь. Мне же искать тебя по Новгороду недосуг. Дело, с коим прибыл я сюды, зело важное.
Что дело важное, Звездан и сам понял по тому, как засуетились вокруг Словиши разные людишки, как обласкивал их в своем тереме Мирошка, как суетилась Гузица, Мирошкина сестрица, а на дворе разжигали костры и жарили на вертелах разделанные бараньи туши.
Дело не шутейное – встревожил Мирошку внезапный приезд Всеволодова посла.
На пиру держался посадник с достоинством, подымал чашу за здоровье владимирского князя, но серьезных разговоров не заводил. Серьезные разговоры были оставлены до утра. А еще предстояло посоветоваться с Мартирием, потолкаться среди бояр, выведать, что думают купцы.
Вот почему, когда все, утомленные пиром, легли спать, Мирошка не лег, а велел седлать коня и тем же часом отправился в детинец повидать владыку.
Поднятый с постели Мартирий был неразговорчив. Сидя, как сыч, на просторной лавке, он перебирал четки, зевал и почесывал поясницу.
Что мог он сказать Мирошке? Сам-то еще пребывал в неведении, хотя и пытался изобразить на лице приличествующее сану глубокомыслие. И сонливость его была личиной – на самом деле Мартирий еще с вечера знал о прибытии Словиши, долго не мог уснуть и Мирошку ждал – вздрагивал при каждом шорохе и стуке в сенях. Когда же посадник прибыл, выйти к нему не спешил, нарочито громко стонал, охал и покашливал в своей ложнице.
Нездинич хитрость Мартирия разгадал. Не верил он, что владыка ничего не ведал о приезде Словиши. Куды уж там, глаз у посадника наметан: ему ли было не заметить, как шныряли во дворе вокруг да около простоватые мужички с повадками владычных служек...
Быстро ли, коротко ли, а беседа понемногу склеивалась.
– Князь Всеволод мудр, – говорил, прикрыв глаза темными веками, Мартирий. – О Словише еще покойник Илья сказывал: умен и коварен. Да и на твоей памяти то было, Мирошка: прибыл он в Новгород с обозом Владимировой жены Пребраны; много бед в ту пору мы от него натерпелись. Нынче снова он у нас. Смекаешь ли?
– Тут и смекать нечего, – подхватил Мирошка.– Тут и так все ясно. Опять же будет прочить нам Всеволод в князья свояка Ярослава Владимировича.
Владыка пристально посмотрел на посадника: взволнован Мирошка, по лицу видать. Да и есть от чего: мерещится ему великая смута. Не крепко под ним, захваченное лукавством и хитростью, высокое место. Свергали новгородцы до Мирошки и Завида Неревинича, и Михаила Степановича. Родного-то брата Завида, Гаврилу, сбросили с моста в Волхов, да и Михаил Степанович едва избежал той же участи, когда свергнут был Мстислав Давыдович и бояре снова послали к Всеволоду просить к себе на княжение Ярослава. Помнит Мирошка и то, как разъяренная толпа забила до смерти отца его Незду – и за что? Все за то же: за приверженность к смоленским Ростиславичам.
Теперь сам Мирошка меж двух огней. Не прими он Ярослава – разгневается Всеволод, не прими Мстислава – разгневаются Ростиславичи, а вместе с ними и те бояре, которые заодно с Михаилом Степановичем. Промахнись он – и быть ему на дне Волхова, подобно Гавриле Неревиничу.
Тяжкая дума опечалила Мирошку Нездинича.
«Нелегко ему, – мыслил про себя владыка. – Но не время нынче предаваться скорби». Мирошка выкрутится – и это больше всего беспокоило Мартирия. Покоряться Всеволоду он не хотел, ибо видел в том начало великих бед. Дошли до него слухи, будто собирается ростовский епископ Иоанн встретиться с Ефросимом, коего обманом не выбрали во владыки. Ефросим не смирился, чернь новгородская за него – терпенье ее иссякло: частая смена князей несет с собою смуту и нищету. Мартирий же лелеет давнишнюю мечту: смирить Боярский совет, самому безраздельно утвердиться в Новгороде как великому князю – тогда бы наступили на обетованной земле мир и благоденствие. Тогда бы и чернь была за него, тогда бы и Всеволод был ему не помеха – хоть и длинные руки у владимирского князя, но до Новгорода не дотянутся. Однако Боярский совет был своеволен и строптив, а Ефросим, глаголя с паперти Никольского собора, сотрясал бурливое вече. Так в чьих же руках истинная власть, кто истинный хозяин Великого Новгорода?..







