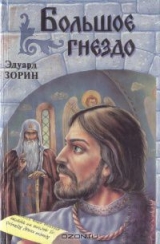
Текст книги " Большое гнездо"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
Мужик остановил коней. Боярин высунулся из возка:
– Почто стал?
– Ехать некуды...
Одноок поглядел на дружинников насупясь:
– Посторонитесь-ко, молодцы...
– Чего захотел, – отозвались дружинники. – Али места тебе на улице мало?
– Места много, а возок по сугробу не пройдет.
– Нешто нам взбираться на плетень?
Стали переругиваться да препираться. «Обнаглели князевы отроки, – подумал Одноок. – Вовсе не стало от них житья».
Пригрозил, потрясая посохом:
– Вот пожалуюся князю!
Еще больше развеселил дружинников. Стали они над ним измываться не таясь. Собрали толпу, говорили ставшим на обочине мужикам:
– Чо рты разинули? Али не видите, что застрял боярский возок?
– Как не видеть, – отвечали понятливые мужики. – Да делать что?
– Выпрягайте возок, волоките боярина на плечах, чтобы ножки не замочил.
Мужикам два раза сказанного не повторять. Стали они, давясь от смеха, выпрягать лошадей, ловко работали – дело привычное. Не успел боярин и опамятоваться, как уж подняли его и понесли с веселым криком по улице. Возок, собравшись гурьбой, толкали впереди. А сзади ехали, будто следя за порядком, дружинники.
– Никак, весну встречать наладились? – спрашивали, дивясь веселому шествию, встречные.
Всем смешно, одному Однооку не до смеха. «Уж не Ко нобеевы ли это проделки?» – даже такое подумалось. Еще жгла его обида на соседа. А один из голосов в общем гомоне показался ему вдруг знакомым. Пуще всех старался, злее остальных подшучивал.
«Господи, – обмер боярин, обвисая на чужих плечах.– Как же сразу-то меня не осенило: Веселица это!»
Обернулся, шаря глазами в толпе, выискал взглядом бледное лицо под высокой, на лоб сдвинутой шапкой – он.
Напирая конем на толпу, дружинник подъехал ближе.
– Что, Одноок, признал ли старого знакомца?
– Как не признать, – прохрипел, беспомощно барахтаясь, боярин.
– Великую оказал я тебе честь.
– Куды уж боле.
– Еще попомнишь Веселицу...
– Да не забуду.
– Помни, боярин. И впредь меня стерегись... Ишшо не расквитался я с тобою за свой должок.
– Да и за мною не постоит...
– Гляди, от чести такой не загордись, – предупредил Веселица. – И злобствовать не моги...
– Надел чужой-то опашень, а душа черная, – прохрипел Одноок, подозревая в Веселице ряженого.
– Как бы не оступиться тебе, боярин, – посмеялся над его намеком Веселица. – А опашень мой. И конь мой. И меч. И друзья вокруг меня мои.
– Тати вы, а не князевы дружинники! – закричал Одноок, видя приближающихся от Серебряных ворот вершников. – Эй, люди!..
– Почто крик? – подъехал к веселой толпе Кузьма Ратьшич.
Веселица, и глазом не моргнув, пояснил через голову боярина:
– Застрял Одноок в сугробе, вот и попросил я у мужичков подмоги, чтобы перенести его на сухое.
Притихшие мужики, пряча улыбки, опустили боярина на дорогу.
– Врет он все, – сказал Однок, оправляя одежду и разыскивая глазами посох. – Потряси его Кузьма. Не дружинник он вовсе, а тать.
– Слышь-ко, Веселица, – сказал Кузьма, – как поносит тебя Одноок за услугу.
– Как не слышать, – спокойно отвечал дружинник.– Сам Одноок господин гневу своему. А моя совесть чиста.
Осекся боярин, глазами растерянно захлопал, то на одного, то на другого переводит взгляд. Кузьму-то он с каких еще пор знает. В нем сомнения нет. Князева правая рука. Так почто не сробел Веселица? Почто глядит прямо, коня не поворачивает? Почто не вскинет Кузьма плеть, почто сам лукавится?
Мужики тем часом, все еще забавляясь, быстро впрягли коней в возок, попятили их к боярину.
– В кривом глазу и прямое криво, – сказал, внимательно разглядывая Одноока, Кузьма. – Не доволен тобою князь, боярин. Еще вечор меня спрашивал: почто не вижу на дворе своем Одноока, почто сторонится моих глаз. Али верно про него сказывают, что хуже мытника на торгу, только тем и зацят, что шарит по чужим бретьяницам?.. То не мои слова – князевы, а ты над словами его подумай.
Пригнуло боярина к земле, ноги мелкой дрожью охватило, посох вывалился из ослабевшей руки.
– Да что же это на белом-то свете деется? – поперхнулся он слабым горлом. Носком за носок задевая, мягкой походкой доплелся до возка, сунулся на подголовники, откинулся, затих.
Кузьма плеточкой полоснул коня по мягкому крупу. Напомнил вслед удаляющемуся возку:
– Не забудь про сказанное, боярин!
«Как забыть», – давясь от злобы, пробормотал в бороду Однрок. Возвратившись во гневе, на своей усадьбе боярин суд чинил и расправу.
Возницу велел сечь у себя под окнами.
– За что? – опешил тот.
– А это, чтобы впредь неповадно было с мужиками вместе насмехаться над боярином.
Стараясь угодить Однооку, возницу били нещадно. Показывая окровавленную спину, спрашивали:
– Еще добавить, батюшка?
– Добавьте еще.
И снова били, и снова спрашивали. И снова говорил боярин:
– Не жалейте. Холоп не медведь – шкуры ему не попортите.
Потом били конюшего – за то, что кони не резвы. Потом приволокли пред окна выжлятников. И их били – за то, что на прошлой неделе не взяли псы подраненного зайца. Квасника били за плохие меды, а сокалчего – за недоваренную кашу.
Взъярился было и на Звездана Одноок, но сын вмиг осадил его:
– Я тебе не кобылка безответная. Како сядешь, тако и слезешь.
– Не зная, греха не сотворю, – сказал боярин. – Но ежели проведаю, что с Веселицей водишься, привяжу покороче.
– Неча по-пустому грозить, – отвечал Звездан. – С сего дня я в твоем тереме не жилец. Уйду на князев двор ко гридням. Тошно мне на тебя глядеть.
И не в острастку сказал, не потому, что хотел попугать боярина. Смекнул Одноок, что не жить ему с сыном под одной крышей. Испугался, что станет Звездан делить имущество.
– Ныне люди напрасливы, сынок, – заговорил он покорным голосом. – Ежели уйдешь от меня, чего только не наговорят.
– Я наговора не боюсь, – твердо ответил Звездан. – Хуже того, что есть, все равно не будет. А твои грехи на свои плечи перекладывать я не охотник. Сам творил зло, сам и ответ держи. Нет у тебя сына...
Когда складывал он одежку в суму, стоял Одноок за его спиной и охал:
– Платно-то я тебе справил прошлой зимой. Шесть локтей сукна взял по две резаны за локоть...
Выкинул сын платно, взялся за сапоги.
– Хороший сафьян, – вздохнул Одноок. – По куне торговал за пядь.
И сапоги выбросил Звездан.
– Ничего не надобно мне, Одноок, а всего-то дороже вольная волюшка.
«Кажись, и впрямь сын-то у меня дурачок, – подумал боярин и вспомнил сказанное Конобеем. – Нынче все, что мое, при мне».
Ушел Звездан, не приняв от отца благословения. Вздохнул Одноок с облегчением и, кликнув тиуна, велел принести долговые доски. До поздней ночи сидел, промышляя прибыток. Радовался – шире стал жить народ, вольготнее; бояре, и купцы, и отроки, и гридни друг перед другом выхваляются, кто пир справит краше, у кого цепь на шее серебряная, а у кого золотая, чья баба льняной сарафан надела, а чья парчовый, у какой девки в кокошнике больше светлых камушков. Купцы товара своего задаром не отдадут, а деньга у Одноока завсегда не переводится.
Вон княгиня заказала у мастеров-искусников носилки золоченые, так нынче и боярыням такие же подавай. Тоже взялись за ромейский обычай, а Однооку – что? Опять же прибыль, опять же всё на руку. Пущай себе тешатся.
Не зря про боярина говорят, что жемчуг он горнцами меряет, что удит в мире золотой удой. А про то еще не все ведают (как проведали бы, так ужаснулись), что обращает боярин иных безнадежных должников не то что в закупов, а в обельных холопов – скольких уж добрых молодцев продал Одноок в безутешное рабство!.. Сколь уж мыкается таких неудачников на чужбине!..
Жаль, Веселица от него утек, не достали до него цепкие Однооковы руки.
5
В избе у Словиши неприютно и пусто: ни ковров заморских, ни пушистых полавочников. Давно не скоблены половицы, в углу, у двери, к стене прислонен березовый голичок. На лавке, скомканный, валяется дорогой кожух. Поверх кожуха – меч в простых ножнах, рукоятка усыпана бирюзовыми камешками.
– Ну и удивил ты меня, Звездан. Вот уж удивил так удивил, – разглядывая приятеля, говорил с укором Словиша. – Знал я, что ты на решенья скор, а такого не ожидал... Боярину только того и надо, чтобы не мотался ты у него под ногами. О том подумал ли?
– Когда думать было? – вскинул на него растерянные глаза Звездан. – Все уж до того передумано. А нынче пути мне обратно нет. Ежели не примешь к себе, обиды не затаю – пойду в другом месте искать приюта...
– Как не приму я тебя, ежели рад?.. Но скажу и другое. Нрав у тебя непоседливый, и обычай беспокойный, – выговаривал приятелю Словиша, втайне радуясь, что сложилась у них откровенная беседа. Однооковы козни – только всему зачин. Сегодня Звездан ушел от отца – завтра еще чего выдумает. Вон, говорят, и про князя смелые речи сказывает. Смелые – да умные ли? Язык блудлив, что коза. Не любит Всеволод, ежели ему перечат. Даже Иоанн впал в немилость. А пуще всего не жалует он молодых задиристых кочетов. – И отколь в тебе столько прыти?
– Скучно мне, Словиша, – пожаловался дружинник.– Пиры не в радость. Не берут меня ни меды, ни брага. От скоморошьих песен не плясать, а плакать хочется. С чего бы это?..
– Выкинь все из головы, – посоветовал ему Словиша.– Погляди на меня, я ли не удачлив? Или не всякий день для меня праздник?
– Душа у тебя легка – оттого и весел.
– А тебя что за дума кручинит?
– Служим мы князю нашему верой и правдой, – сказал Звездан.
– За то нам и честь.
– Киев под рукою Всеволода. Глядит, как бы Новгород под себя прибрать...
– Почитай, прибрал...
– Крепок наш дом.
– Ох как крепок!
– Злата и серебра боле, чем у кого другого.
– Во всем достаток.
– А лихим людям и резоимцам почто простор? Почто не судимы алчные за алчность свою? Почто лживые за ложь не несут ответа?.. Не одной токмо ратной доблестью умножает князь славу свою, но и, паче того, радея за пахаря и за купца, за ремесленника и прочий люд, – говорил Звездан, загораясь.– Кому, как не князю, вверили они и семью, и имущество, и саму жизнь. Кому?
– Не по зубам мне твои орешки, Звездан, – растерянно отвечал ему Словиша. – А только так я мыслю: гневаешься ты понапрасну. В мире – что в омуте, от веку так повелось. Не нами сие придумано, не нам и ответ держать. А у князя на разуме ты не бывал.
– Вижу, не сговориться нам с тобою, Словиша, – сказал Звездан. – А про то, что сказывал тебе, забудь. Люблю я тебя, за храбрость твою почитаю. Не слушай меня, попусту себя не тревожь.
– И я тебе добрый совет дам, – ответил, положив руку на плечо дружинника, Словиша. – Не всякую думку при людях думай. За иное словечко и дорого бы дал, да не выкупишь...
Поняли они друг друга. Помолчали. Мыслями каждый в свою сторону отлетел.
Вдруг Словиша улыбнулся и, лукаво прищурившись, погрозил Звездану пальцем:
– Вот ведь чудно иной раз подумается. Сидим мы с тобой на лавочке, беседой развлекаемся. А мысли твои да-алече летают. Аль не угадал?
Звездан засмеялся, а щеки заалели, как у девицы.
– Вишь – угадал! – обрадовался Словиша.
– Да о чем ты? – словно бы удивился Звездан.
– Хошь – скажу ?
Посмотрел на него Звездан и отгадку в глазах прочел:
– Верно смекнул ты, Словиша. Гузица нейдет у меня из головы.
– Не робей, зазря не кручинься. Покуда сидит у нас Мирошка, свадьба ей не грозит...
Век свой прокачался Словиша в седле, изба его пуста, зато много в городе друзей да знакомцев. Всюду с лаской и приветом встречают удачливого дружинника.
– Со мною завсегда не пропадешь, – похвастался он, собираясь в гости.
Сперва заупрямился Звездан, стал шутливо отговариваться. Но где уж ему Словишу перемочь!.. Еще и солнышко за край земли не пало, а они, поспешая, третьих обходили хозяев. В головушках шумело от выпитого меда, от плясок удалых и складных разговоров.
Дольше всех подзадержались у Морхини. Хлебосолен был кузнец, гостям от души радовался. Работать умел и погулять был великий охотник. Про то все во Владимире знали.
В тот день томился он с самого утра; постучит по наковаленке, погремит пустыми клещами – выглянет на улицу из кузни: не нанесет ли кого господь, чтобы, не греша, угостить жаждущего? Такая у него была привычка – один на один с собою и капельки в рот не возьмет, а ежели кто наведается – тут уж удержу нет.
Долго, так-то томясь, поглядывал он за порог, а как приметил едущих по широкой улице Словишу со Звезданом, как различил их веселые лица, так сразу и смекнул, что другого случая не представится.
Утирая руки передником, вышел он им навстречу с нетерпением и уважительностью во взоре:
– Не проезжайте мимо. Заходите, добрые люди, в избу.
– Недосуг нам гостевать, – поупирались для приличия дружинники. А сами, переглядываясь, попридержали коней.
– Всякому дню своя забота, – отвечал сообразительный кузнец. – Да только куды вам поспешать?
– Любо мне у тебя, Морхиня, – сказал, опускаясь наземь, Словиша. – Словцо у тебя в устах красное про всякий случай – и праведника уговоришь.
– Пить – не грешить, а святых в раю радовать, – расплылся в улыбке кузнец.
Поставили дружинники коней за плетнем, сами вслед за Морхиней вошли в избу. Хозяйка у кузнеца была сметлива – еще на дворе высмотрела гостей через оконце, стала спешно накрывать на стол.
Была она мастерицей большой руки. Приносила пироги с грибами, с капустой и рыбой, выставляла жареное мясо и кулебяки. Морхиня мед и брагу доставал из погреба, в братину выливал, ковшичком расписным наполнял кубки. Хвастался:
– Кубки эти мне еще князем Михалкой дарены.
– Да за что же дарил их тебе князь? – подначивал Словиша, хотя знал про кузнеца все. Да с такого вопроса завсегда начиналось здесь радушное застолье.
– За добрую работу, за отменную кузнь, – отвечал Морхиня, подымая первый свой кубок.
А после третьего кубка рассказывал такую историю:
– Знатно помогли мы, люди ремесленные, князю, когда надумали племяши его, Мстислав с Ярополком, брать навечно владимирский стол. Много народу нагребли они отовсюду, да толку что? Окромя засапожничков у ратников – ни кольчуг, ни мечей, ни сулиц. Засапожнички – ножи молодецкие, да разве с ними во чистом поле устоишь? Стали проворные княжеские тиуны щупать наших кузнецов: кузнецы-братушки, мастера-кудесники, не таитесь, не рядитесь, а коли приспела беда, скуйте нам мечи и копья!.. «Мы бы и рады, – отвечают хитрые кузнецы, – да только негде взять нам кузни. А без кузни, из воздуха, ни мечей, ни копий не накуешь». Торкнулись к одним тиуны, торкнулись к другим, а ответ у всех один: «Нет кузни – значит, не будет и мечей!» Меня ажно плеточкой угощали – до сей поры меточки на спине, – водили к Ярополку. Гневался молодой князь, белой рученькой по столу хлопал – подай, говорит, Морхиня, кузнь, и всё тут. Проведал я от верных людей, что припрятали вы железо, а где – не сказываете. Ежели и нынче мне не скажешь – висеть тебе под причелиной...». У меня от слов таких мороз по коже дерет – жалко с жизнью расставаться, но и братства нашего осрамить не могу. Знаю, где зарыли вечор кузнь, а сказать не могу...
Замолчал Морхиня, приложился к кубку (на этом месте он всегда молчал и пил мед).
– А дале-то что? – не вытерпел Звездан.
– Дале-то? – переспросил кузнец, ждавший вопроса. – Дале-то ничего. Кинул меня князь с другими нашими мужиками в поруб, и ежели бы не Михалка со Всеволодом (дай бог ему многие лета!), ежели не побили бы они племяшей, худо бы нам было. Злопамятен был Ярополк, ремесленников владимирских не любил. От вас, говорил, вся беда и пошла. Кабы не вы, так и не стал бы дядька наш Андрей теснить ростовское и иное боярство...
– Ты, кузнец, бояр-то не всех заодно поноси, – разгораясь от вина, перебил его Звездан (Словиша покосился на товарища с опаской). – Были и промеж них достойные люди...
– Может, и были, – неожиданно быстро согласился Морхиня, не желая заводить ненужный спор. – Да только попрятались они о ту самую пору, слова доброго за князя не молвили.
– Унизил их Андрей, вотчины у иных отобрал.
– Да и бояре ведь тоже были не ангелы, – сказал Морхиня. – Я так смекаю, им и нынче только волю дай... Вся Русь боярину с копыто его коня – он в своем куту хозяин, а до иных ему дела нет.
– Иной-то князь в своем уделе то же, что боярин в вотчине, – возразил ему Звездан. – Оттого и лоскутна, оттого и скудеет земля.
Чудной получался у них разговор. «Без меда их не растащить»,– живо смекнул Словиша.
– Эй, хозяин! – сказал он. – В гости нас зазывал, а у самого в братинах пусто.
Снова лились меды, и с каждою новой братиной все легче становилась беседа. Двое было пьяных за столом: кузнец и Звездан. Словиша следил за ними с улыбкой: в кубок-то он себе наливал, но больше зубы споласкивал.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
1
Широко расходился Роман на своей Волыни. Раньше думал Владимир, сидя в Галиче, что неуемный сосед его всё затеял бахвальством и творил без ума. Теперь же вдруг понял – отойдет его вотчина Роману, едва только тело его свезут в красных санях на отпевание к собору.
Доносили Владимиру, что, окрепнув после полученных в Польше ран, вздумал волынский князь чинить расправу над боярами, припомнив им все былые обиды. «Не передавив пчел, меду не испробовать», – говорил он, с легкостью нарушая досельные обещания и договоры.
Еще больше призадумался Владимир, когда явился к нему прошлым вечером Твердислав, Романова правая рука, боярин умный и предприимчивый, – без дружины, без верных людей, в старом возке, запряженном плохонькими крестьянскими лошадьми, а раньше являлся при всем наряде. Едва ввели его под руки на гульбище: ноги у боярина подкашиваются, опашень в соломенной трухе, борода дня три не чесана.
– Не гони меня, княже, – унижался в ногах Владимира перепуганный Твердислав. – Ежели вернешь на Волынь, головы мне и дня единого не сносить.
– Поднимись, боярин, да говори толком, – остановил его князь. – Что такое с тобою стряслось? Отчего прибыл в чужом возке, яко простой холоп?..
– Беда, княже. Наказал Роман своим отрокам меня имати – шибко осерчал на меня, а за что, не ведаю...
Вдаль простираться на открытом гульбище с вопросами да расспросами Владимир не стал, а звал боярина с собою в гридницу, дворовым баню наказал топить, а сокалчим готовить для себя и гостя ужин.
Когда же попарился Твердислав и отдохнул, когда сели они за накрытый стол, тут и полилась толковая беседа.
– Во смятении ума творит Роман суд неправый, – рассказывал Твердислав, крепкими зубами разрывая курицу – Чудиновичу и Судиславу ссек головы, Жидяту крепко пытал, всё знать хотел, верно ли сказывают, что прочили они меня за пьяным разговором во князья. Эко что выдумал – да какой же я князь, ежели нет у меня на то родового права!.. Слугу моего верного, немого Оболта, бить велел на дворе, покуда не пошла у него горлом руда. А с убогого – каков спрос?..
– Отчего вдруг такое князю загрезилось? – удивился Владимир, пристально глядя на боярина.
– Сдается мне, что шепнул ему про то Жидята. Домогательств не вынес – вот и шепнул, чтобы боле не мучали.
– Шепнул – значит, был разговор? – настаивал князь.
– Разговора не было, а наговор был, – отвечал Твердислав.– Отколь слухи такие пошли, того не ведаю.
– Князю власть от бога дадена, – твердо проговорил Владимир.
– И то нерушимо во веки веков, – подтвердил боярин. – Ты словам моим, княже, верь. Не стал бы я тебе про то сказывать, ежели бы в уме держал. Клянусь святой богородицей, сам дивился. А отколь такое пошло, надо бы Жидяту порасспросить.
– Так бы и сказал Роману.
– Сказывал уж. Не верит. «А Жидяту, – отвечает, – на том свете господь бог будет спрашивать...» Ссек он и ему голову. Меня же велел отрокам проводить в терем да сторожить, дабы не убег. Утром, говорит, суд буду вершить и расправу. И тебе, боярин, от руки моей пощады не ждать...
– Для суда послухов нужно иметь, – сказал князь.
– Нету у Романа послухов. Да «Русская правда» не про него писана. Куды там было мне на милость надеяться – сбег я и о том не жалею. Лежать бы мне сейчас во сырой земле, а не меды распивать во тереме твоем светлом, княже...
Ни с того ни с сего вскоре после разговора с боярином и началсь у Владимира лютая болезнь. Корчило его на пуховых перинах, прошибало липким потом – ни лекари, ни знахари помочь не могли.
Два дня не показывался он на людях, а когда показался, то едва сдержали близкие бояре и дружинники удивление: сам на себя сделался непохожим их князь.
Стали переглядываться.
– Никак, землею покрыться надумал наш господин? – шептались со страхом.
Большие перемены всем им были не по нутру: о Романовых помыслах знали в Галиче давно, многих бед от него натерпелись, паче того страшились новой усобицы.
– Что за кручина, бояре? – спросил Владимир, от которого не скрылось их смятение.
– Да как же не грустить, княже, – отвечали бояре. – Ежели тебе неможется, нам-то каково? Нешто горестям твоим радоваться?
– А для горести причины у вас нет, – нахмурился князь. – Не всякая болезнь к смерти. Рано меня отпевать...
– Что уж отпевать-то, – загалдели бояре. – Живи до ста, князь. А мы завсегда с тобой.
Но иные с того дня подумывать стали, не пришла ли пора с Романовыми людьми переслаться: доброе дело волынским князем не забудется, когда сядет он на галицкий стол. Своя рубашка к телу ближе.
Сделался Владимир недоверчив и подозрителен, совсем подточила его болезнь. Жену свою не ласкал, к детям был суров, для бояр недоступен. Охоту и веселые игры забросил, не только ночи, но и дни проводил, запершись в тереме.
Думу думал нелегкую. В окружении недругов остался он, как перст, один. До Всеволода не рукой подать, а от Рюрика какая подмога? К королю Беле тоже в другой раз за помощью не пойдешь. А еще доползли до галицкого князя черные слухи, будто сдружился Роман с сыном венгерского короля Андреем – и это тоже неспроста.
Вскоре после приезда Твердислава явился в Галич посол из Волыни.
– Узнал князь наш, будто даешь ты убежище его врагам, – сказал он, дерзостно глядя Владимиру в глаза. – Како повелишь ответствовать Роману?
– Город сей не Романова вотчина, – рассердился Владимир. – Кого пожелаю, того и приму, не спросясь.
И по тому, как по-прежнему гордо держался с ним посол, понял князь, что стоит он на земле своей непрочно. Повел он глаза свои в сторону, и этого было достаточно, чтобы ответил посол:
– Галич покуда твой, а там бог рассудит. Не пожелаешь ли иначе ответить Роману?
– Подожди до утра, – задумался князь. – Утром скажу свое слово.
Ослабел Владимир от хвори, оробел пред близостью страшного конца, не пожелал вступить в ссору с задиристым соседом. Когда на следующее утро явился в терем по-сговоренному посол, не стал он сызнова вступаться за боярина.
Привели отроки Твердислава, и князь ему сказал:
– Не серчай, боярин. Зла на меня не держи. Требует тебя Роман на Волынь, пойдешь ли добром?
Твердислав задрожал всем телом, упал князю в ноги, стал хватать его за полу опашня:
– Не губи, княже! Обиды я тебе никакой не сотворил. Служить тебе буду, как пес. Не отдавай Роману!..
– Доселе мыслил я, что нету за тобой никакой вины, – ответил Владимир, отталкивая от себя боярина, – но нынче, глядя на тебя, во мнении своем переменился...
– Чего ж переменился-то, княже, – умолял его Твердислав. – Худа я тебе не сделал, лишних речей не сказывал. А все, что говорил, все правда.
– Нет, не все правда в твоих речах, – оборвал его Владимир, которому уже надоели вопли и стенания боярина. – Знать, крепко ты провинился перед князем своим, коли ищет он тебя и в чужих пределах. Значит, и впрямь возгордился ты. Значит, верно сказывал под пыткою Жидята. Вижу, боярин, добром ты все равно не дашься. Ведите его! – приказал он отрокам.
Тем только глазом моргни. Не успел Твердислав и слова сказать на прощание, как заломили ему за спину руки и выволокли во двор.
– Доволен ли теперь будет Роман? – спросил Владимир молча наблюдавшего за происходившим посла.
– Как довольным не быть? – степенно ответил посол. Поклонился и с достоинством вышел за дверь.
Владимир вздохнул с облегчением. Нет, не время ему ссориться с Романом. За худого-то боярина добрый мир купить – цена сходная. На малом сошелся он с волынским князем.
2
Сидя с невозмутимым видом, слушал Мартирий передних бояр, явившихся к нему всем скопом. Пришли бояре к владыке правду искать, кричали, перебивая друг друга, размахивали руками. Разное говорили.
– Со Всеволодом замиряться надо, – советовали одни.
– Не устоять нам супротив Ярослава, – поддакивали другие. – Народ перед Софией требует дать ответ: доколе будет молчать владыко, доколе нам голодать в осаде? Пущай выйдет к собору...
– Неча мужиков слушаться, – степенно перебивали их иные. – Пошумят и разойдутся, а нам под Ярославом добра не ждать. Вспомнит он былые обиды, начнет зорить наши дворы.
Теснили сговорчивых:
– Откажи, владыко, Всеволодовым послам. Пущай убираются, отколь пришли. То не просто о князе спор. Не для того Всеволод пленил Нездинича, чтобы только место дать Ярославу. Поперек горла ему наша вольница... Набьются в Новгород его людишки, пикнуть нам не дадут. Купцы владимирские тоже с ним заодно. Хотят торговать через первые руки —хитры...
Мартирий молчал, бояре раздражали его. Им легко требовать, а ему каково?
Верно одно сказывали на совете: неладно стало в Новгороде. Проезжая в полдень через Волхов, ужаснулся владыка. Народ гудел и угрожающе теснился вокруг возка. Мужики загораживали путь, раскачивали возок, едва не скинули с моста. Перепуганный Мартирий крестил толпу, призывал к спокойствию. Куда там!..
Наговорившись вдоволь, бояре нагло глядели владыке в лицо. Вздрогнул Мартирий: вдруг почудилось ему, что и у них глаза точь-в-точь такие же, как и у мужиков на мосту. По спине поползли мурашки – вот оно: едва только коснулось кровного – озверели бояре; куда и обходительность подевалась – того и гляди, вцепятся в глотку.
Мартирий ударил посохом в пол. Встал.
– Выслушал я вас, бояре, и тако мыслю: великая смута зреет в Новгороде. И мы же сами тому виной. Покуда не словим крикунов и заводил, спора нашего не решим...
– Эко хватил, владыко, – послышались голоса. – Нынче все посадские поднялись, не узнать уличан...
– Пойдут громить терема...
– Силой отымут то, что добром не дали...
Долго еще потрясала растерянная разноголосица низкие своды Владычной палаты. Разошлись бояре далеко за полночь, собой недовольные и владыкой. Так ни к чему они и не пришли...
Таращась во тьму, неспокойно ворочался на жаркой своей лежанке Мартирий, сопел, вставал, молился, ложился снова. Никак не шел к владыке сон.
А утром велел он снаряжать возок и отбыл из города тайно в монастырь к игумену Ефросиму.
Трудное это было дело. Не по прихоти своей решился на него владыка. Не по прихоти сломил свою гордость, а от отчаяния и великого позора. Ежели не поднять нынче Великого Новгорода, ежели не решиться на последний шаг, то завтра уж будет поздно.
– Мириться приехал к тебе, Ефросим, – сказал Мартирий, глядя на игумена покорным взглядом. – Не ждал?..
Ефросим выгнал из кельи Митяя.
– Аль не видишь, кого к нам бог принес? – шикнул он на него. – Ступай, ступай...
Все еще не оправившись от изумления, Митяй послушно скользнул за дверь. Игумен стоял, разглядывая нежданного гостя, губы его трогала ехидная улыбка, но глаза были серьезны, брови насуплены, на длинной старческой шее набухли синие жилы.
– Сядь, владыко, – коротко сказал он и сам сел на перекидную скамью.
Вытирая ладонью выступивший на лбу пот, Мартирий тяжело опустился на лавку.
– Значит, с миром ко мне пришел? – переспросил игумен.
– С миром, – коротко подтвердил владыка.
– Так-так, – проговорил Ефросим. – Плохи твои дела, Мартирий...
– Плохи, – сказал владыка, не таясь.
– Эк перевернуло тебя всего, – пожалел его Ефросим. – Куды и спесь былая подевалась...
– Не о себе думаю, и не обо мне нынче речь.
– И о тебе тож, – оборвал Ефросим. – А о беде твоей ведомо – не в скиту живем: крепко прижал вам хвост Всеволод. Еще крепче прижмет...
– Радуешься?
– Тужу.
– А коли тужишь, так беседа будет спористее.
– Спористее, да не шибко. Обида у меня на тебя давняя.
– Не время обиды поминать. Погорячился я, сковарствовал, в том винюсь.
– А ведь не верю я тебе, владыко, – с неожиданной улыбкой сказал Ефросим. Мартирий дернулся на лавке, но не возразил, только крепче сжал скрещенные на коленях ладони.
– За общей бедою твою маленькую беду зрю я, владыко, – продолжал игумен, вставая со скамьи и делая несколько шагов по келье. Теперь лицо его уже не было спокойным, глаза впивались в Мартирия горячо и неистово. – Не столь о новгородцах радеешь ты, сколь о себе. Коли настоит на своем Всеволод, то и тебе недолго в сане своем ходить. Нынче Мирошку задержал он во Владимире, завтра кликнет тебя.
– Я ко Всеволоду на поклон не пойду.
– Пойдешь.
Сказано было уверенно и резко. Мартирий поднял на Ефросима испуганные глаза.
– Пойдешь, – безжалостно повторил Ефросим, обращаясь на этот раз как бы к себе одному. Мартирий поежился, но глаз не опустил, хоть и почувствовал сам – метнулся в них скрываемый доселе страх.
– Ежели настоит Всеволод на Ярославе, ежели всем миром не выдюжим, быть нам под Владимиром до скончания дней, – сказал он. – На что Роман своеволен, но и он живет с оглядкой на Всеволода. Возвернул моего человека, так к себе и не допустив. Худо.
– В том беды особой не зрю, – возразил Ефросим, не спуская с Мартирия лихорадочно блестевших глаз. – Не последним на Руси был и останется Новгород. А Всеволоду покуда не перечь – вот мой совет.
– Иное слышать от тебя хотел...
– Хочешь вече повернуть?
– Без тебя поверну ли? – с облегчением выдохнул Мартирий. За этим и ехал он в дальний монастырь к прежнему своему недругу, за этим и сидел в келье, смиренно выслушивал Ефросима.
– В этакое-то время каждый к себе тянет, – быстро продолжал он, боясь не высказать главного. – Одни за Ярослава стоят горой, другие просят Мстислава. А иные и такое сказывают, что, мол, пока не поздно, надо звать на пустующий стол Всеволодова сына...
– Ты-то как мыслишь? – оборовал его Ефросим.
– Мои мысли тебе ведомы.
– За твоею думкою не поспеешь, – покачал головой игумен. – С утра мне и невдомек было, что к вечеру будешь ты сидеть в моей келье.
– Хитришь, Ефросим, – прищурился Мартирий.
Игумен усмехнулся.
– Может, и хитрю, а может, и нет... Угадай!
– Не за тем я ехал к тебе, чтобы загадки отгадывать. Говори, ежели что на уме. В своих бедах после разбираться будем.
– Ишь ты. А ежели беда не моя – тогда что?
– Куды снова ведешь?
– Не со своей бедою шел я в Новгород, – сказал Ефросим. – Видел – живете хлопотно, а бестолково. Вразумить хотел...
– Вот и вразумляй. Самое время приспело.
– Нынче без меня вас вразумили. Всеволод стоит на пороге, стучится в новгородские врата. Думать-то раньше нужно было.







