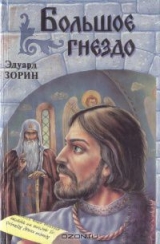
Текст книги " Большое гнездо"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 33 страниц)
Так и не ответила она на вопрос княгини, а свою обиду проглотила. Поняла Досифея, что не перепадет ей более ни угодий, ни гривен кун. И просить нечего. В иной-то год до ста гривен серебра получала она в свой доход, а нынче ежели достанет пятьдесят – и то не в убытке. Может и вовсе обнищать ее монастырь. Против притчи не поспоришь. Зря тревожила она княгиню, зря напоминала про грамотку – осерчает, так и вконец пустит по миру...
Не обманули игуменью худые предчувствия, а то, что думала она снова прельстить Марию, то перед собою пустая была похвальба. Робела она, стоя рядом с княгиней, княжичам угодливо улыбалась, не смела поднять глаза.
Скрипели под тяжелыми шагами мужиков леса, раскачивались крепко врытые в землю стояки. Задрав голову, Никитка поглядывал на каменщиков со двора, покрикивал, иногда сам взбегал по шатким перекладинам.
Кирпичи и камни носили на досках с перекинутыми через плечи веревками, иные горбились под грузом, иные шли легко.
– Берегись! – послышалось рядом.
Что-то хрястнуло, оборвалось, со спины проходившего рядом мужика посыпались в лужи кирпичики. Один из них, самый резвый, доскакал до Святослава, ударил княжича в ногу. Мария охнула и схватилась рукой за сердце.
Святослав, прыгая на одной ноге, заскулил. Слепо тыча перед собой посохом, Досифея набросилась на оторопевшего мужика:
– Ослеп сдуру, ирод! Куды мечешь камни?
Посох попадал мужику по голове и по плечам, ударял хрястко, как по мешку с мокрым песком. Сдернув шапку, мужик упал на колени, задергался от испуга, завыл нутряным голосом:
– Пощади, княгиня!..
– Ишь чего захотел! – плотоядно щерилась Досифея, продолжая молотить его посохом. – Пощады запросил!.. В поруб, в поруб его!..
Княгиня оторвалась от Святослава, позвала через двор:
– Никитка!
– Что велишь, княгинюшка? – скатился Никитка с самого верха лесов. Тяжело дышал, смотрел на мужика с укором.
– Твой мужик? – спросила Мария.
– Не, он из кликнутых...
Замешкавшийся сотник подбежал позже всех, протиснулся через толпу, молча ударил мужика увесистым кулачищем по затылку. Ударил еще раз – в подбородок. Мужик дернулся и упал в грязь.
Толпа раздвинулась, пропуская княгиню. Святослав стоял в стороне и тихонько всхлипывал: кирпич был небольшой, ударил его несильно. В глазах выглядывающего из-за спины матери Юрия светилось любопытство.
– Мужик неразумной, – сказал Никитка. – Да и не его вина, княгиня. Досточка, вишь ли, преломилась...
– Ты, заступник, молчи, – оборвала его Мария.
Никитка осекся, но в толпе еще послышались голоса:
– И верно, досточка преломилась, княгинюшка... Будь ласкова, не гневись.
– Ладно, – стоя над распростертым в грязи мужиком, сказала Мария и обвела всех холодным взглядом. – Ежели досточка, так почто преломилась?
– Сучочек, должно.
– Али трещинка...
– А кто досточку ту стругал? Кто мужику ее на спину сунул? – в упор глядя на сотника, спросила Мария.
Сотник побледнел и попятился:
– Мы каменщики, княгиня, мы досточки не стругаем... Енто, чай, мостников работа, аль еще кого.
– Мостников, знамо, мостников, – подтвердили в толпе.
– А зовите-ко сюды, кто у них за старшого, – повелела княгиня.
– Эй, кто старшой у мостников? Подь сюды! – от одного к другому стали перекидываться голоса.
Толпа выдавила в круг рыхлого старичка с козлиной реденькой бородкой. Старичок снял шапку и поклонился Марии. Близорукие глаза его были узко прищурены.
– Ты у мостников старшой?
– Я...
– Так почто же ты, старшой, за мостниками не глядишь?
– Гляжу, княгиня. Всё, как ты повелела, справляем в срок...
Вдруг взгляд его упал на распростертого в грязи мужика.
– Все он, все он, княгинюшка, – вырвалась вперед Досифея и снова замахнулась посохом.
Старшой мостников попятился перед игуменьей.
– Стража! – крикнула княгиня. Никто не отозвался. Подбежал отрок в малиновом летнике, распихал любопытных.
– Что повелишь, матушка?
– Бери-ко его да вяжи покрепче.
Отрок сунулся к старику, неумело заламывая ему руки за спину.
– А вы куды глядите, мужики? – рассердилась княгиня.
Каменщики неохотно помогли отроку. Связанный недоуменно таращил глаза.
– Меня-то за чо? Чо меня вяжете-то? – бормотал он, обращаясь к молчаливо стоящей толпе.
– Наперед оглядчивее будешь, – наставительно сказал сотник, помогая подняться мужику. Мужик охал, ощупывая разбитое лицо.
– Княгиню благодари, – напомнили из толпы.
– Спасибо, матушка, – униженно улыбаясь окровавленным ртом, поклонился мужик Марии. – Не желал я худа княжичу – досточка, вишь ты, преломилась...
– Ступай, ступай, – поморщилась княгиня.
Толпа редела помаленьку, скоро все разошлись. Снова на лесах и во дворе закипела работа.
Еще ярилось солнышко над Владимиром, но все гуще шли по небу, опускаясь все ниже и ниже, пузатые, словно лодии со вздутыми ветрилами, белые облака.
4
Вокруг возка быстро сгущались желтые сумерки. Не плыл с еще теплой, как живое тело, земли привычный шорох хлебов, не разрывали воздух грачиные крики, не курлыкали в поднебесье косяки отлетающих к югу журавлей...
В лощине, над извивающейся в осоке Лыбедью, загустел туман. Лошади, сбившись с пути, воротили на сторону – возок опасно качнулся на разбитом мостике, вильнул передним колесом и едва не свалился в воду.
– Поглядывай! – крикнула Досифея сгорбившемуся верхом на переднем коне мужику.
Разбежавшись за рекой, рысаки лихо взяли покатый пригорок, вынырнули из тумана. Темнело. Слева, донесенный легко подувшим ветерком, послышался слитный лесной шум...
Забившись в угол, Досифея сидела в возке молча, туго прикрыв веки. Притихшая Пелагея боялась побеспокоить игуменью.
На лесной неровной дороге колеса часто запрыгали на корневищах – Досифея очнулась.
– Эко темень какая, – сказала она, потянувшись из возка.
В лесу было влажно, пахло прелым листом и грибами. По сторонам от дороги плотно стояли сосны и ели, тяжелый лапник однотонно шуршал по кожаному пологу.
Возвращалась игуменья в свой монастырь, навсегда оставив во Владимире надежду вернуть себе прежнее расположение капризной княгини. Так и не состоялось у нее степенной беседы с Марией, так и уехала она с княжого двора без пожалованной грамоты на облюбованные за Клязьмой пожни...
Перебирая в темноте положенные на колени деревянные четки, Пелагея вздыхала, прислушиваясь к неровному бормотанию игуменьи, но слова мешались со скрипом и стуком колес, с шорохами леса и топотом резво бегущих коней.
– Стой! Осади! – послышался на дороге незнакомый голос. Топот стих, возок дернулся и встал. Мужик-ездовой тихо переговаривался с кем-то.
Игуменья приподнялась, опершись на посох, вся обратилась в слух. Не вытерпев, позвала в темноту:
– Эй, кто там? Слышь-ко!..
Голоса смолкли. Покряхтывая, возница спустился с коня, вразвалку приблизился к возку:
– Звала, матушка?
– Почто встали?
– Ратай тут встретился, знакомый мужичок... Остерегает: езжайте, мол, да по сторонам поглядывайте.
– Экой оглядчивой, – пробормотала игуменья. – Не мой ли ратай?
– Твой, матушка.
– Кликни.
Подошел ратай, высокого роста, весь крепкий и нескладный, как вывороченный из земли дубовый комель. Задержался на почтительном расстоянии от возка, привычным движением руки сдернул с головы шапку.
– Тута я, матушка.
– Что же ты, холоп, коней моих среди лесу остановил?
– Прости, коли побеспокоил, – тихо отвечал мужик, робея перед игуменьей. – Но дальше дорога тебе опасна.
– Аль загрезилось что? – чувствуя скрытую в словах ратая тревогу, понизила голос Досифея.
– Кабы загрезилось, а то сам зрил...
– Кого зрил-то?
– Лихого человека, матушка, зрил. Рыскает он тут поблизости на коне, никак, высматривает. А что высматривает-то?.. Одна наша обитель на стороне. В ино место дороги нет.
– Эк присмирел ты, что волк под рогатиной, – сказала игуменья. – Поджал хвост, а о том не подумал, отколь у шатучего татя быть коню. Князев это гонец припозднился, кому еще быть?
Едва услышала Пелагея про шатучего татя, все позвоночки у нее страх пересчитал.
– Поостереглась бы ты, матушка, – дернула она игуменью за рясу. – А что, как правду говорит ратай?
– Почто же не правду-то? – обиделся мужик. – Я и в лицо его признал. Давеча на Лыбеди унес он у боярышни Конобеевой колечко. Все его признали, хошь, у ратайного старосты спроси.
– Кто же он?
– Да Однооков бывший конюший.
– Вобей?
– Он. Вот так, как пред тобою, стоял я пред его конем, матушка. Так что поостерегись, а не то ворочайся во
Владимир. Не ровен час, хватишь лиха... Мне-то чо, у меня окромя обереги да креста медного и нет ничего.
Больше половины пути проехала игуменья до своей обители, возвращаться ей не хотелось.
– Ты, мужик, пошарь-ко вокруг себя, возьми шелепугу поувесистей да прыгай на задок возка, – сказала она ратаю. – А ежели что, так бей без разбору, бог тебя простит.
Мужик неохотно выполнил приказание, вскарабкался на покачнувшийся возок. Тронулись.
Ближе к ночи становилось все прохладнее. Но не от одного только холода бил игуменью мелкий озноб. «Беда к беде приходит», – думала она, творя спасительную молитву:
– Пронеси, господи...
Пронесло. Услышал ее мольбу господь. Не встретили они на пути Вобея. У монастырских ворот ратай облегченно спрыгнул с возка.
– С приездом тебя, – сказала выглянувшая в окошечко баба и распахнула створы ворот.
Лошади въехали в обитель, остановились посреди темного двора. Вновь обретя гордую осанку, Досифея вышла из возка. Пелагея нырнула ей под руку, бережно повела игуменью по всходу.
– Вот приступочка, а здесь другая, – приговаривала она. Отяжелела Досифея. Хоть и старалась держаться с достоинством и слабости своей не показывать, но пережитый в лесу страх не прошел даром. Едва войдя в келью, она обессиленно опустилась на лавку, застланную жесткой сукманицей.
– Вздуй огонь-то, – тихим голосом сказала она чернице.
Пелагея проворно запалила от лампадки, горевшей под образами, лучину, поднесла к оплывшей свече на столе.
– Дома, – облегченно вздохнула игуменья. Осенила себя размашистым крестом, стала на колени перед иконами, смиренно сотворила молитву.
– Оберегла нас святая богородица, – сказала она стоявшей чуть позади коленопреклоненной Пелагее.
– Все истинно, матушка, – дрожащим голоском вторила угодливая монахиня.
– Не вовсе отвернулась от нас, грешных...
– Не вовсе.
– Образумит и княгинюшку она...
– Как не образумить, матушка! Истинно образумит.
– Злые-то люди, знать, меня пред нею оговорили, – бормотала Досифея, – а она, душа ангельская, их и послушала. Совсем было пообвяла я, а нынче верую: спасла нас от татя богородица и впредь не оставит своею милостью. Да куды ж податься княгинюшке, окромя нас? Где сыщет истинную благодать, где грехи отмолит, где душу облегчит от неправды, творимой в миру, и козней алчущих княжеской ласки?..
– Все так и сбудется, матушка. Не печалуйся и сердца своего не надрывай, – шептала ей в затылок Пелагея.
«А что есть благодать истинная? – думала она, крестя лоб и кладя согласно уставу положенные поклоны. – И только ли за смирение вознаграждает господь?»
Ожидая игуменью в возке возле строящегося собора, увидела она в толпе, спешащей к торгу, бывшую сестру Феодору. Не презрением, а ревностью и завистью лютой наполнилось ее сердце.
Шла Феодора походкой легкой, плыла, словно лебедушка, по бревенчатой мостовой. Лицо у нее белое, нарумяненное, бровки подведены, в ушах – блестящие сережки, на руках – серебряные браслеты. И одета она не как-нибудь, а в шелковую золотистую рубаху, на ногах – сапожки сафьяновые. И мальчонка рядышком семенит, несет украшенную резьбой шкатулку.
Не утерпела Пелагея, выпрыгнула из возка, окликнула Феодору. Не смутилась бывшая черница, не стала прятаться в толпе, приблизилась с улыбкой.
– Не Феодора я нынче, а Малкой меня зовут. И не монашка я, а жена дружинника. Ты-то почто, Пелагея, в городе обитаешься?
– С игуменьей на княж двор. А княгиня на соборе бдит, вот сюды и направились.
Представила себя Пелагея рядом с Малкой – и устыдилась своей старенькой рясы и грязных лапотков. Много скопила она всякого добра, а на что оно ей, ежели не может она вот так же, как Малка, пройтись по мостовой, не таясь прохожих?..
Стала выпытывать Пелагея Малку, где живет да как поживает.
– Изба у нас во Владимире не хуже прочих. Веселица в походе со Всеволодом, а я по повелению княгини приехала из Переяславля.
– Расцвела ты в миру, Малка, сразу тебя и не узнать.
– Душою кривить не стану: не по нутру мне было монастырское житье. Пришла я в обитель благодати искать, мечтала, разуверившись в людях, посвятить себя богу. Но не боговы дела творятся за вашими стенами, Пелагея, а, как и всюду, корысть процветает и лютая вражда.
– Не хули дом, в коем приняли тебя, как овцу заблудшую, накормили и приласкали, смертью не дали помереть...
– А ежели и померла бы я, так, может быть, и того лучше, – сказала Малка, которой вовсе не хотелось ворошить прошлого. – Когда бы не Веселица, да не его беда, да не любовь, и я бы погрязла, как прочие, во лжи и своекорыстии.
Вздрогнула Пелагея, поняла, в чей огород бросает Малка камешки, – побледнела, зубы стиснула от ненависти.
– Вот кого пригревала Досифея на своей груди, – сказала она, покачав головой.
– А уж кого пригрела, про то и не сказывай, – улыбнулась Малка. – Тебе ли жаловаться, тебе ли не молиться за игуменью. Не забыла я козни твои, Пелагея. Ну да бог тебя простит, а мне разговорами тешиться недосуг.
И ушла, и уплыла, как павушка, и мальчонка следом за нею засеменил, прижимая к груди шкатулку. «Поди, обруч новый купила али ожерелье», – провожая ее взглядом, с завистью подумала Пелагея...
– Ты куда это мыслями отлетела? – донесся до нее недовольный голос игуменьи.
Пелагея вздрогнула – светлое видение исчезло, вокруг были все те же невзрачные бревенчатые стены, на столе потрескивал огарок свечи. Перестав молиться, игуменья прилегла на сукманицу, опираясь на локоть, смотрела на монашку с подозрением.
– Помоги-ко рясу снять...
Пелагея проворно разоболокла игуменью, поцеловала ей руку.
– Бог с тобою, – перекрестила ее Досифея.
Черница тихо вышла из кельи, прикрыв за собою дверь.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
Верную весть принесли вездесущие гонцы – скоро вернулось из Смоленска Всеволодово войско. Радость была во
Владимире неизреченная: никого не порубили в сече, никого не угнали в полон. Встретились мужья с женами, отцы с детьми, сыновья с родителями.
Мудр был князь, зря крови не проливал, на бога не надеялся, но и выгоды своей не упускал.
Все остались довольны: Чернигова Всеволод не опустошил, перепугавшийся было Роман снова утвердился, как и прежде, не боясь соседей, на своей Волыни, Владимир остался твердо сидеть в Галиче, один только Рюрик бесновался.
«Сват! – писал он Всеволоду в грамоте. – Ты клялся: кто мне враг, тот и тебе враг. Просил ты у меня части в Русской земле, и я дал тебе волость лучшую не от изобилья, но отнявши у братьи своей и у зятя своего Романа; Роман после этого стал моим врагом не из-за кого другого, как только из-за тебя, ты обещал сесть на коня и помочь мне, но перевел все лето, а теперь и сел на коня, но как помог? Сам помирился, заключил договор, какой хотел, а мое дело с Романом оставил на волю черниговского князя; он будет нас с ним рядить? А из-за кого же все дело-то стало? Для чего я тебя и на коня-то посадил? От Ольговичей мне какая обида была? Они подо мною Киев не искали. Для твоего добра я был с ними недобр, и воевал, и волость свою пожег. Ничего ты не исполнил, о чем уговаривался, на чем мне крест целовал».
Прочитав сердитую грамоту Рюрика, Всеволод отложил ее и спокойно предался каждодневным делам. Был киевский князь ему неопасен, вести из Новгорода куда боле занимали его.
Но Мартирий послов не слал, ничего не знал и Мирошка Нездинич.
А ранняя осень широко шла по Руси. Уже миновали михайловские утренники, обметала похолодевшие травы глубокая роса. На опавшую с дерев багряную листву посыпались частые дождички. По лесам бродили сонные медведи, готовились залечь в берлоги, искали укромные места.
Короче стали дни, длиннее вечера. Призвав Четку, подолгу сиживал Всеволод с сыновьями, слушал, как читали они книги, привезенные в подарок от Давыда.
Со смоленским князем беды не вышло, серчать на Всеволода у него не было причины. А чтобы еще крепче привязать его к себе, надумал Всеволод женить Константина на дочери Мстислава Романовича, Давыдовой племяннице, Агафье.
Узнав об этом, Мария огорчилась, испугалась и за Юрия: уж не уготовил ли он и ее любимцу такую же участь?..
– Куды ему жениться, – сказал Всеволод, – он и сам что твоя девица.
Вернувшийся из похода Константин вытянулся еще больше, раздался в плечах. Хоть и было ему всего одиннадцать лет, но выглядел он намного старше.
Увидев его на коне въезжающим в детинец, игравший с дворовыми ребятишками Юрий оробел:
– Ты ли это, брате?
Кинулся к нему, стал ощупывать на Константине кольчужку, примерился к мечу. Похвастался:
– А у меня дедов меч висит в ложнице.
– Будет щупать-то меня, – отстранился от него Константин. – Эко невидаль – меч. Погляди, как я из лука стрелы мечу.
Семижильной тетивы поданного отроком лука Юрий не смог отжать.
– Чем тебя только матушка кормила, – посмеялся над братом Константин.
Поднял лук к плечу, вложил стрелу и метнул ее в резной конек теремного дворца. Вонзилась стрела в хвост деревянному петуху да так там и осталась.
– Сильной ты, – с завистью проговорил Юрий,
– Ты чему брата учишь? – напала на Константина появившаяся на крыльце Мария.
– Здравствуй, матушка! – кинулся к ней Константин, обнял ее. Мария расплакалась. Отстранив сына, придирчиво разглядывала его лицо.
– Черной ты стал, – пожаловалась она. – Сразу-то и не узнать.
– Солнышко это, матушка, – отвечал Константин.
– А ликом весь в отца. И глаза те ж. И голос...
Константину понравились ее слова. На отца походить он и сам хотел, во всем подражал ему. Но зачем же плакать и обнимать его у всех на виду?!
Постарела Мария. Коротка вроде была разлука, а новые морщинки легли в уголках ее губ.
Заметил перемену и Всеволод. Кольнуло в сердце, подумалось: вона как убивалась, скучала по мне. Но нежности он не испытал, былого влечения не почувствовал. Обнял жену сухо, поцеловал, как покойницу, в лоб. Целуя, замер на мгновение, вдруг представив совсем другое лицо.
«Да что же это?» – удивился он. Любовь, дочь Василька витебского, не выходила у него из головы.
Девочка она совсем была, Константину под стать. А что поразило в ней Всеволода, почему вдруг вспомнилось Заборье?
Не юностью ли повеяло на него, не ту ли охоту вспомнил он, когда обнимал в Заборье боярышню Евпраксию? Годы ушли, а сладости первой близости в сердце не истребить. Отсеялось многое, кануло в небытие, протянулись через долгую жизнь короткие и длинные дороги. Осыпала голову седина, изловчился ум, а сердце молодо, как и прежде. И живости в глазах его не убыло, и руки были сильны, и губы тосковали по незнаемой ласке.
Да полно, разве мало красавиц встречал он на своем пути, разве не дарили они его щедро всем, чего бы он только ни пожелал?! Но ни одна не взволновала его дольше, чем на день, чем на одну походную ночь. И был он верен Марии, и из любого самого дальнего далека спешил, погоняя коня, чтобы ткнуться лицом в ее трепетные колени.
Сидя в тереме у Давыда, наблюдал он за молодой княжной, и однажды вдруг почудилось ему: вошел Константин с воли, стремительный, стройный, а в глазах необычный блеск – неспроста это, неспроста... Ущемила старого князя ревность, позавидовал он сыну, что вся жизнь у него впереди. А его, Всеволодов, буйный пир отшумит скоро, и свезет его Константин, как сам он свез Михалку, брата своего, на красных санях к Успенскому собору...
Вечером кликнул он сына через Веселицу и так сказал ему:
– Женить тебя пора, сыне.
– Да что ты, батюшка? – удивился Константин, но радость его не ускользнула от внимательного взгляда отца.
Нет, не зря ущемила Всеволода ревность, понял он, отчего глядела на Константина, не отрываясь, молодая княжна.
Но не с малым витебским князем хотел он породниться, совсем другое было у Всеволода на уме. И сник Константин, заюлил перед отцом, краснея, как непорочная девица.
– Давыдову племянницу Агафью даю тебе в жены, сыне, – сказал Всеволод. – И с князем смоленским били уж мы по рукам.
– Воля твоя, батюшка, – с безысходной покорностью отвечал Константин.
Ни себя, ни детей своих не жалел Всеволод ради задуманного (Давыдова дружба была ему нужна, чтобы держать в повиновении Чернигов), но не покривил ли он на сей раз душою? Ведь и Юрия мог бы он пообещать Мстиславне в мужья...
Не знал он, да и откуда было ему знать, каким горьким было расставание Константина с Любовью Васильковной.
Последний раз сидели они, обнявшись, над Днепром, последние говорили друг другу слова и не ведали ничего о том, что пройдет не так уж и много лет, как встретятся они снова – и не где-нибудь, а во Владимире, в княжеском терему, куда войдет она новой хозяйкой. По извилистым дорогам жизни пройдет Любовь Васильковна, и сам епископ Иоанн обвенчает ее в соборе Успения божьей матери с овдовевшим Всеволодом.
Ушла княжна по отлогому бережку, и, когда светлая понёва ее скрылась среди деревьев, Константин упал лицом на мокрую от росы траву и горько заплакал.
Первые это были его мужские слезы, с годами высохнут его глаза, станут холоднее и зорче. А покуда сердце у княжича мягкое, первая боль проводит по нему свою борозду.
Угрюмее стал Константин, на обратном пути не тешил себя охотой, Веселицу поругивал без нужды, Четке перечил, а иногда дерзил и самому Всеволоду.
Князь видел причину его невзгод, а потому не досаждал попусту, да и Веселице велел не липнуть к Константину, Четку же и сам при случае наказывал за излишнюю радивость:
– Учение хорошо ко времени, а без нужды ко княжичу с псалтирью не лезь.
С горя и от безделья запил Четка в пути. Все чаще и чаще стал он исчезать из шатра, болтался с простыми воями в головном отряде, а иногда торчал в обозе – с хлебосольными сокалчими и сердобольными бабами.
Затосковал Четка по Варваре, напившись, придирался к обозникам.
Ближе к Москве разгулялось все Всеволодово воинство, а как перебрались через Клязьму, стали мужики расходиться по родным деревням. Во Владимир вступала княжеская дружина да еще те, кому предстояло добираться лодиями до Гороховца.
Избаловались смерды в походе, попривыкли к безделью. Благо, жатва к тому времени кончилась, остались только бабьи работы. И верно, пировали бы мужики еще, но на худых домашних хлебах не напируешься – затянули они потуже пояски и отправились в овины молотить для боярских закромов не густо уродившуюся в нонешнем году рожь. Прикидывали, что себе останется, а себе-то ничего и не оставалось.
Вот так попировали мужики – тяжелым будет зимнее похмелье...
2
Едва пришел из похода, первым делом наведался Звездан в Конобеев терем. Не один, а со Словишей – одного-то его боярин к себе и на порог бы не пустил.
Пока ходили в Смоленск, пока из Смоленска возвращались, времени для разговоров у дружинников было много. Обо всем рассказал Словише Звездан, не позабыл помянуть и о давнишней вражде между Конобеем и Однооком.
Словиша призадумался:
– Да, нелегко будет к Конобею свататься. Не отдаст он за тебя свою дочь. А еще слышал я, будто подыскал он ей другого жениха.
– О другом женихе и говорить не смей, – горячо оборвал его Звездан. – Ежели ты мне друг, то справишь все, как надо.
– Боюсь, без Кузьмы Ратьшича не справить.
– Ну так кликни Кузьму.
– Дел у него других нет?.. Ладно, пойдем к Конобею, – согласился Словиша, – а там как бог даст.
Возле самого Конобеева терема оробел Звездан: а что, как и не вспомнит про него Олисава, что, как и свататься ни к чему? Посидели они на берегу Лыбеди, помиловались, а сколько ден с той поры прошло! Девичье сердце обманчиво. Может ведь и такое статься, что прикипело оно к другому, и не станет Конобей со Словишей пустые разговоры заводить.
– Э, нет, – сказал Словиша, увидев нерешительность друга, – не для того я отказался у Морхини меды пить, чтобы назад поворачивать. Неробкую душу вложил в меня бог, а ежели ты сробел, то в разговоры наши встревать не смей.
Сказал так и едва не за руку втащил Звездана в Конобеев терем.
Боярин не ждал гостей, столов не накрывал, расположился на лавке под образами по-домашнему.
– Гляди-ко, боярин, кого бог к нам прислал, – сказала ключница, впуская в горницу Словишу со Звезданом.
Вошли дружинники шумно, приветствовали хозяина вежливыми поклонами. Словиша сказал:
– С Кузьмою наладились быть у тебя, боярин, да кликнул его князь по срочному делу.
– У Кузьмы все дела срочные, – отвечал, вставая с лавки, Конобей. – Спасибо и на том, что не забывает, поклоны шлет. Проходите, гости желанные, садитесь, будьте, как дома.
– Гостеприимен терем твой, боярин, – подольстил Конобею Словиша. – Счастливы обитающие в нем.
– Да как же хорошим людям не угодить! – в тон ему отвечал, стараясь казаться спокойным, Конобей.
– Ворота твои для всех настежь открыты, – продолжал Словиша. – Хлебосольно ты живешь, боярин, богоугодно.
– Про бога не забываем, – кивнул совсем растроганный Конобей, – князю нашему возносим молитвы; что можем, монастырям и убогим даруем...
– А не побеспокоили мы тебя, боярин, в столь ранний час?
– Дорогой гость всегда ко времени, – отвечал Конобей. Но про себя думал: «А неспроста пожаловали дружиннички. В глазах у Словиши бесы прыгают, Звездан сидит сам не свой».
Вышел за дверь боярин, зашумел на дворню:
– Куды глядите, окаянные, гости дорогие у меня, а вы и не чешетесь!
Засуетились слуги в терему, во дворе поднялись суета и гам. Живо вздували сокалчие огонь, бабы застучали ножами.
– Зря переполох ты поднял, боярин, – сказал Словиша, когда возвратился Конобей. – Не меды пить мы к тебе пришли, а по делу.
– Гумно красно копнами, обед пирогами, – ответил Конобей. – А уж коли пожаловали вы ко мне в гости, то я здесь хозяин и трезвыми да голодными вас от себя не отпущу...
– Позволь тогда наперед слово молвить, – продолжал Словиша, не давая боярину опомниться. – Может, и повернешь ты нас со своего двора, когда выслушаешь.
– Какое дело, сказывай, да долгими присказками не томи.
– А дело наше без присказки никуды. Пришел я сватать твою Олисаву.
Кровь отхлынула у боярина от лица, без сил опустился он на лавку.
– Да где же твой жених-то, Словиша?
– А пред тобою сидит.
– Никак, сам надумал? – с надеждой спросил Конобей.
– Куды мне! – усмехнулся Словиша.
Боярин перевел помутневшие глаза на Звездана.
– Уж не он ли жених?
– Догадлив ты, боярин. Погляди каков, али дочери твоей не пара?..
Врасплох захватил Словиша боярина, одуматься ему сроку не дал. Был настороже Конобей, ко всякому приготовился, но такого и в уме не держал. В крепкое нерето угодил боярин. Веревочку к веревочке связал Словиша, некуда деться Конобею.
– Порадовал ты меня, Словиша, что сам свататься пришел, – осторожно начал боярин. – Звездан мне люб, да доченька еще мала. Вот и подумал я, а не повременить ли нам?
– Не прибедняйся, боярин. Доченька у тебя умнешенька, прядет тонешенько, белит белешенько. В самый раз ей замуж, ежели в девках не хочет остаться.
– Куды такие речи говоришь ты, Словиша! – замахал руками Конобей. – Да нечто Олисава моя в девках засидится?!
– Вижу, боярин, жених мой тебе не по нраву, – хлопнул себя по колену Словиша и встал, чтобы с хозяином распрощаться. – Коли не срядились, не моя вина. Так и скажу я Кузьме, чтобы попусту к тебе больше не наведывался...
– Постой, постой-ко, – остановил его Конобей. – Это что еще такое ты про Кузьму сказываешь?
– А то и сказываю, что ежели бы не кликнул к себе Кузьму князь, то нынче не я, а он был бы у тебя в сватах...
Круто повернул Словиша, теперь еще труднее будет выпутаться боярину. Сморщил Конобей лоб, задумался.
– Ну так как? – спросил Словиша. – Идти нам восвояси с твоего двора али сговариваться будем?
– Сговориться долго ли, да с Однооком была ли у вас беседа? – ухватился за последнюю надежду Конобей.
– Экой ты, боярин, – упрекнул его Словиша, – да нешто мы Одноока обойдем?
– Вот и разговор иной, с него бы ты, сват, и начинал беседу, – поуспокоился Конобей.
– Смекай, что к чему, – сказал Словиша. – Всё бы тебе разжевать... Небось не за худого мужичонку отдаешь дочь. В чести будешь, ко князю приблизишься.
– Да велика ли птица Звездан у князя? – усомнился боярин, пытливо поглядывая на сидящего рядом смущенного жениха.
Привычный для него пошел разговор. Смекал Конобей, зря попрекнул его Словиша. Оттого и тянул, что смекал. Как бы не прогадать, как бы и на сей раз не обманул его прижимистый Одноок. Деревеньку вон к своей землице прирезал... Эх, ма, а не затребовать ли ее назад, а не наложить ли руки и на Потяжницы? То-то взвоет боярин!..
Повеселел Конобей, даже по плечу похлопал Звездана. Словиша сказал:
– Звездан шибко грамоте разумеет. У Всеволода он на примете. Простого дружинника не послал бы князь в Новгород ко владыке Мартирию с речьми.
Брат братом, сват сватом, а куны не родня. Хорошо знал эту мудрую присказку Конобей.
Обрадовался Звездан, чувствуя, как сдается боярин. Во всяком нелегком деле видывал он своего друга, но и не догадывался, что может быть он таким ловким и изворотливым.
– Ну вот что, дорогой сватюшко, – мягко сказал Конобей, – супротив Звездана нет у меня ничего. Отдам я за него Олисаву, ежели Одноок не воспротивится. А с Однооком будет у нас разговор особь...
Полдела было сделано. За доброе начало не грех и чарочку пропустить. Выпили, закусили, распрощались с боярином ласково, выехали со двора.
– Спасибо тебе, Словиша! – стал горячо благодарить друга своего Звездан. – Без тебя бы мне пропадать.
– Ишшо не спеши радоваться, – охладил его Словиша.– То, что меды у боярина пили, – не сватовство. Настоящих-то сватов зашлем, как столкуемся с Однооком.
– А как заупрямится?
– И такое может быть. Малого Конобей за дочь свою не запросит... Приметил ли, как загорелись у боярина глаза?
– Радуется...
– А чему радуется-то? Оба они хитрые пауки – что Конобей, что твой батюшка. До крови будут драться за каждую ногату. Свой расчет у Конобея. Вот и радуется, что тебе мочи нет, что не слезешь ты с Одноока. А коли так, придется твоему батюшке за радость сыновнюю раскошелиться.
– Да с Одноока и дырявого армяка не взять! – воскликнул Звездан.
–То-то и оно, – отвечал Словиша. – И потому ни тебе, ни мне ехать к нему не след. Без Кузьмы Ратьшича нам в таком деле не обойтись.
– А что же Кузьма?
– Кузьма свое дело знает, – улыбнулся Словиша.
Загадками отвечал дружинник, говорил, а всего не договаривал.
– Ладно уж, – сказал Словиша, видя, что Звездан обиделся на него. – Должок за твоим батюшкой давнишний водится...







