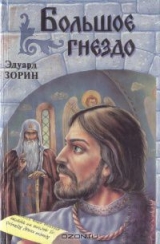
Текст книги " Большое гнездо"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц)
– Ладно, ладно, Досифея, – успокоила ее княгиня.
Монашки между тем неслышно удалились из кельи и скоро появились снова, неся в руках подносы с дымящимися мисами и деревянными кубками. Накрыв на стол, молча встали у двери.
– Ступайте, сестрицы, да кликните сюды Феодору,– сказала им игуменья.
А Марию попросила:
– Ты, княгинюшка, добра, яко голубица, – поговори с ней. Постриглась в монастырь наш на той седмице, а все не утвердится духом, ходит сама не своя. Может, тебе откроется?..
Мотая под столом ногами, Святослав лениво похлебал монастырскую ушицу, облизал ложку, отложил в сторону.
– Аль не по душе тебе наши яства? – спросила его игуменья.– Живем мы в обители нашей скромно, укрепляем дух, а не тело. Поди, княжич, погуляй, не то – тебя сестрицы во дворе позабавят.
Святослав вопросительно посмотрел на мать.
– Поди, поди, – разрешила княгиня.
Не успел он выйти, как дверь в келью снова отворилась и на порге появилась монашка.
– А вот и сестра Феодора, – сказала игуменья.
Феодора поклонилась Марии низко, до самого пола.
Княгиня успела заметить блеснувшую на ее ресницах слезу.
– Встань, – сказала игуменья. – Почто снова скорбишь? Почто звана, а не радуешься?..
– Спасибо, матушка, что не забыла, навещаешь нас, грешниц, – покорно пролепетала монашка, не подымая на княгиню глаз.
– Не грешниц, а смиренниц, – строго поправила ее игуменья.
С улыбкой разглядывая монашку, Мария невольно залюбовалась ею: стройна русоволоса, глаза большие, с пронзительной синевой.
– Откуда ты родом? – спросила она ласково.
– Из Поречья. Малкой звали меня в миру.
– И что же привело тебя в обитель?
– От хорошей жизни к нам не идут, – скорбно заметила игуменья.
Монашка бросила в ее сторону благодарный взгляд. И, успокоившись, поведала Марии свою историю.
Родилась она в деревне. Отец ее, Надей, ловил рыбу и поставлял ко княжескому столу. Жили они мирно, никого не беспокоили, и их никто не тревожил. Но приехал однажды в деревню лихой дружинник князя Юрия Андреевича Зоря, и полюбила она его всем сердцем и стала вскорости его женой. Но тут случись такое – уехал Юрий из владимирских пределов, и пожаловал князь Всеволод деревеньку и холопов, в ней обитающих, боярину Разумнику, дочь которого Досаду отдал незадолго до того за своего любимца Кузьму Ратьшича. Шибко приглянулся Зоря боярину, вот и порешил Разумник сделать его своим старостой.
– Постой, постой, – остановила ее Мария. – Что-то такое, кажись, я уже слышала. Уж не тот ли это твой муж душегуб, что едва не порешил Пашка?
Монашка побледнела.
– Про все-то ты знаешь, княгиня! – воскликнула она. – Почто же тогда пытаешь? Почто не даешь смиренно возносить молитвы господу богу за упокой души невинно убиенного супруга моего Зори?..
– О чем говоришь ты? – удивилась Мария. – По словам твоим поняла я, что мужа твоего уже нет в живых?.. Когда это случилось? И отчего винишь ты в несчастье своем других?
– Оттого и виню, что не было на нем никакого греха. И Пашка он не убивал, а лишь вступился за честь жены своей: хуже кобеля был Пашок, одно слово – зверь лютый. Избил он его и сам искал у Ратьшича справедливости.
– Нешто не поверил ему Кузьма? – перебила ее княгиня. – Пошел бы ко князю. Всеволод милостив...
– Был и у Всеволода Зоря, да не захотел его выслушать князь.
– О чем бормочешь ты, холопка! – вскипела Мария.– Почто хулу возводишь на Всеволода?
Губы ее задрожали, щеки покрылись бледностью. Феодора отшатнулась, закрыв лицо руками.
– А дале, дале? – впилась в нее глазами княгиня.– Дале-то что?
– Велел бить Зорю батогами Ратьшич... Люто били его, ох люто. Так и забили до смерти. Отца тоже прибрал господь. Куды было мне податься?..
Мария с трудом перевела дыхание. Испуганная игуменья, хлопоча возле нее, обмахивала ей лицо убрусцем.
– Да что же ты, княгинюшка? – лепетала она.– Испей водицы вот... Ликом-то, ликом сошла. А ты изыди! – прикрикнула Досифея на черницу. – Изыди, говорю. Будет тебе нынче епитимья... Бесовское отродье...
Монашка отняла руки от лица, глаза ее были сухи, губы крепко сжаты.
– Почто лаешь меня, игуменья? – сказала она, без жалости глядя на изнемогающую от скорби Марию. – Почто хулишь?
– Почто? – вскинулась Досифея, гневно стуча об пол кипарисовым посохом. – По то и хулю, что змею пригрела в сердце своем. Нет в ней ни жалости, ни сострадания. Княгиню, матушку нашу, речами непотребными извела... Да слыханное ли это дело?!
Во дворе монастыря громко загрохотало било. Феодора быстро перекрестилась и вышла из кельи. На лестнице послышались шаги монахинь, спешащих на дневную молитву. В затянутое слюдой окошко бился надоедливый шмель...
4
День князя с утра до позднего вечера полон забот. Сразу же после трапезы отправился он на конюшню – смотреть подаренного булгарским ханом коня.
Еще издали услышал Всеволод возбужденные голоса людей, крики и смех. Челядины, конюшие и «молодшие» дружинники собрались в толпу, и взгляды всех были устремлены вовнутрь конюшни, откуда доносилось возбужденное ржанье, стук копыт о деревянный настил и неспокойная возня. Вдруг из ворот выскочил парень с разбитым а кровь лицом, злобно выругался и остановился как вкопанный перед князем. Подначки и смех затихли, люди, пряча улыбки, низко склонились.
Старший конюший, крепкий мужик с длинными, свисающими до подбородка усами и черными точечками маленьких глаз, смущенно сказал:
– Зверя подарил хан, а не коня. Не подступишьси...
– Экой ты нескладный какой, – упрекнул Всеволод.– Честишь доброго коня, а хан прислал его мне с любовью. Лучшего выбирал в табуне.
– Да погляди-ко, княже, – стал оправдываться конюший, – у него и глаза бесовские. Одно слово – нечистая сила.
– Третьего гридня облягал, – послышалось в толпе. – Верное слово – зверь...
Всеволод прошел через расступившуюся толпу, остановился в воротах. Еще вчера, когда проводили перед крыльцом подаренного ханом коня, в богатой сбруе, был он прекрасен в своей дикой нетронутости: сам серый, в белых яблоках, ноги тонкие, стройные, шея выгнута, морда длинная – с глубокими, трепещущими от возбуждения ноздрями... И так поразил Всеволода подарок, что снился конь ему и ночью. Будто наяву это было. Вел коня в поводу кривоногий булгарин с рассеченным наискось лицом, с вывернутыми губами, в которых застыла злорадная усмешка. Страшно и сладко было князю во сне: гладил он коня по вздрагивающей холке, положив левую руку на луку, ногу вставлял в тонкое стремя... А дальше не видел себя Всеволод. Дальше все во сне путалось и переплеталось.
– Поостерегись, княже, – послышалось за спиной.– Не ровен час – скакнет. Вона как глазищами-то косит...
Конюший дышал над ухом лучным перегаром, качал головой.
– Зови булгарина, – сказал кто-то. – Пущай выводит сам свово беса.
– Ишь ты, – дернулся Всеволод, – а мы, чай, вовсе оробели?
И твердо шагнул в конюшню.
Конь вскинулся на поводке, замесил воздух острыми копытами, заржал, откидывая красивую голову. В толпе охнули.
– Держи его, держи, – сквозь зубы прохрипел Всеволод. Конюший, весь красный от напряжения, вцепился, изогнувшись, в поводок. Грузное тело князя мотнулось в воздухе – и вот он уже в седле. Конюший отшатнулся, кинул Всеволоду повод – князь поймал его в воздухе, потянул на себя. В толпе разом выдохнули, люди раскинулись в стороны от ворот. Кого-то сшибли, кто-то закричал по-заячьи. Конь вымахнул на простор, на миг замер, ослепленный ярким солнечным светом, – малиновый кожух распахнулся у Всеволода на груди.
Ему бы годков десять сбросить с плеч, ему бы ловкости в теле и прежней силы в ногах – тогда бы не одолел его булгарский конь. Но время берет свое, не поворотишь его вспять, не стряхнешь, как дорожную пыль с корзна, – и рухнул Всеволод с коня, покатился по мягкой траве.
– А-а! – заорал, страшно выпучив глаза, конюший. И было с чего орать: нынче он за князя в ответе.
Люди, забыв про коня, кинулись к Всеволоду. Однако князь уже был на ногах. Потирая ушибленное колено, он добродушно улыбался:
– Чего гомозитесь? Аль впервой падать?..
Мужики засмеялись – сначала тихо, потом все громче и громче.
– А и верно, – раздались крики.– Чего испугались?!
– Доброго коня подарил князю булгарский хан.
– А ну, Еська, – подначивали иные конюшего. – Теперь твоя очередь!
– Лови его, братцы!..
Гридни заулюлюкали, погнались за конем – вертелись, прыгали вокруг него, задорно смеялись.
Князю подвели его любимого вороного скакуна. Все еще чувствуя боль в ноге, Всеволод вскочил в седло, повел по двору краем глаза – конюший уже вертелся на взлягивающем булгарском коне, – и в сопровождении двух дружинников выехал за ворота детинца.
Много городов повидал на своем веку Всеволод – был и в Новгороде, и в Чернигове, в Городце и Киеве, в Ростове и Рязани, бродил мальчишкой по улицам Царьграда и Аахена, но во Владимире при виде деревянных изб, могучих валов и церквей его охватывало особое чувство. Сюда въезжал он явно и тайно, под пение церковного клира и в ночной тиши, в украшенном золотом и серебром княжеском одеянии и в кольчуге простого воина. Сколько раз трепетало его сердце при виде Золотых ворот, сколько раз останавливался он в задумчивости, глядя на огненно горящий на солнце крест Успенского собора. Здесь, под сводами протопоповых палат, прощался с отходящим в мир иной Микулицей, а вон там, за углом, высилась ныне сгоревшая усадьба боярина Захарии, дочь которого Евпраксию сватал он за своего удалого дружинника Давыдку. Умер Захария, снесли его, как простого смерда, на погост, исчезла в безвестности удалившаяся в монастырь Евпраксия, Кузьма Ратьшич казнил предавшего князя Давыдку. Казалось, давно ли везли по этой улице на красных санях умершего в Городце на Волге брата Михалку и Всеволод, обливаясь слезами, припадал щекой к его почерневшему, неживому лицу. Двадцать лет минуло с того скорбного дня. Двадцать лет минуло с того дня, когда вели дружинники в поруб плененного Глеба со Всеволодовыми племянниками Мстиславом и Ярополком и горожане, придвигаясь к пленникам, кричали и требовали суровой расправы. И по сей день еще звучит в ушах князя возмущенный гул толпы, и по сей день видит и не может забыть искаженные ненавистью лица людей... Сюда возвратился он после победы над Святославом, отсюда уходил в поход против непокорной Рязани. Видел он здесь и блеск и разорение, казнил Андреевых убийц, с берегов тихоструйной Клязьмы грозил непокорным князьям. И здесь прикипело его сердце к привезенной из далекого далека асской княжне, которую он нарек своей женой.
Причудливо переплетались в жизни быль и небыль. И сказки и песни, пропетые ему матерью его в колыбели, оставили в сердце князя незабываемый след.
Но все меньше и меньше возвращался Всеволод мыслями своими к былому. Все больше ожесточалось сердце. Израненное алчностью и коварством князей и близких, все чаще молчало оно, подчиняясь рассудку. Все чаще замирали на языке слова, дарующие милость побежденным. И думалось Всеволоду: уйдет он из жизни, не исполнив своей мечты. Рухнут своды Золотых ворот, захиреют, покроются плесенью стены соборов, обветшают крепостные валы, сгниют избы, и волки устремятся стаями на опустевшие улицы города. И потому, спеша, как он думал, творить добро, все чаще творил он зло. А сотворив, каялся и отмаливал грех у иконы Владимирской божьей матери.
И все-таки верил князь: объединится Русь в едином порыве, ибо другого пути для нее нет. И в том находил себе оправдание.
Верен он заветам деда своего Владимира Мономаха, который говорил: «В доме своем не ленитесь, но за всем присматривайте сами; не надейтесь ни на тиуна, ни на отрока, чтобы гости не посмеялись ни дому, ни обеду вашему».
Ехал Всеволод к кузнецу Морхине – поглядеть, как кует он дивные свои мечи. Нет таких мечей ни у греков, ни у немцев, ни у шведов. Оттого и предлагают за них заморские купцы самые дорогие товары. С одного удара рассекает Морхинин меч кольчугу, разваливает надвое крепкие щиты.
Неугасаемый огонь денно и нощно пылает в кузне у Морхини, вздыхают меха, стучат по наковальне тяжелые молоты.
Сам Морхиня – не богатырь, низок он и худощав, но рука у него цепка, свита будто из одних только жил. Бугрятся крепкими корневищами мускулы у Морхини под рубахой, пот крупными каплями стекает по его лицу.
– Здравствуй, княже, – кланяясь с достоинством, приветствовал Всеволода кузнец. – Куды уж и посадить тебя, не ведаю. Черно у меня в кузне, и лавки не прибраны.
– О чем речь твоя, Морхиня? – отвечал князь. – Не меды-брагу пить приехал я на твой двор, а взглянуть на колдовскую твою работу. По всей земле говорят про тебя: нет-де на Руси искуснее мастера. Да и мой меч с твоею меткою. Вот крестик, а вот и буковка...
Расцветая от похвалы, кузнец улыбнулся:
– Без крестика и без буковки вижу – мой. Дай-ко сюды его, княже.
Всеволод вынул из ножен, протянул Морхине меч. Тот принял его с уважением, провел черным пальцем по тонкому лезвию, легким взмахом руки рассек упругий воздух.
Юноты, стоя спиной к пылающему в горне огню, глядели на князя восторженно. И еще дивились они кузнецу: всяко говорили про Морхиню, иные-то мастера и поругивали его за глаза, а у кого гостил Всеволод, с кем вел ласковые беседы? То-то же...
– Нынче есть у меня и получше мечи, – задумчиво сказал вконец размякший Морхиня. – Сбегай-ко, – обратился он к одному из юнот, – принеси-ко тот, что висит у меня над лавкой...
А пока юнота, быстроного выскочив за дверь, отсутствовал, стал показывать князю свою работу.
В тот день проковывал он новую пластину для лезвия: складывал вдвое стальную полосу, указуя молоточком, подбадривал второго юноту – бей сюды, не жалей силы. Громким звоном отвечала на каждый удар тяжелая наковальня.
У Всеволода вспыхивали глаза:
– Веселое ремесло у тебя, коваль. А и сноровка какова!..
– Не трудно сделать, а трудно задумать, – откликался Морхиня.—Чай, не в одних руках сила.
– Всякий спляшет, да не как скоморох, – вторил ему князь. – Вижу нонче и сам: не зря про тебя байки складывают,
– В байках что правда, а что и ложь. Куды метишь?! – заорал вдруг Морхиня на юноту, разом забыв, что рядом с ним князь.
– Сюды бей, сюды, – отходя так же быстро, как и вспыхнул, постучал он по пластине молоточком.
Понравился Морхиня князю, в кузне, у жаркого огня, отлетали прочь тревожившие его с утра недобрые мысли. И все больше утверждался он в правоте замысленного и содеянного. И выплавлялось из хаоса мыслей: объятая пожарами Русь, распластанная как этот меч под ударами молота. И выйдет она из горнила краше прежнего – голубою сталью сверкнет в глаза заносчивому чужеземцу. А пришелец думал из своего далека: лепят на Руси горшки, обжигают в печах податливую глину...
Вбежал с сияющими глазами юнога, посланный Морхиней, онемев от восторга, протянул князю в обеих руках тяжелый меч.
– Вот мой тебе подарок. Не обижай отказом, возьми, княже, – сказал, отрываясь от работы, Морхиня.– А вместе с подарком низкий тебе поклон. Не в одной дружине – и в наших руках сила твоя. Сослужит добрую службу сей меч – вспомнишь володимирского коваля.
– Спасибо тебе, коваль, – растрогался Всеволод, принимая подарок.– И за дорогой подарок спасибо, а еще боле – на добром слове.
Объехал Всеволод до полудня почти всю ремесленную слободу: побывал и у городников, и у мостников, и у древоделов, заглянул к стеклянникам, бочечникам, судовщикам и опонникам. Все ему были рады, всюду показывали свое умение и мастерство.
Вечером он пир пировал со своей дружиной. Ласков был и добр – многим сам подносил чашу с вином, одарял мехами и золотом.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Спроси любого во Владимире: кто не знал бывшего заморского купца Веселицу?
Славный был купец, отчаянный – хаживал он с товаром за тридевять земель и всегда возвращался с прибытком. Такой уж был он удачливый: там, где другой берет ногату и рад, Веселица возьмет гривну. И не шибко старался – счастье само его искало. Двор его был не то чтобы самый большой во Владимире (у иных купцов хоромы тягались с боярскими), а ладный: стулья под избой из крепкого дуба, чело любовно украшено резьбой, по углам аккуратно выдолбленные потоки, резные подзоры и полотенца останавливали изумленных прохожих; останавливались прохожие перед избой, дивилсь, покачивали головами. А Веселица поглядывал на них из оконца и улыбался от счастья, в гости зазывал, угощал щедро, ни медов ни яств для добрых людей не жалел.
Самый веселый дом во Владимире был у Веселицы: с утра до вечера толпились на его дворе скоморохи, для убогого и сирого было здесь надежное пристанище.
Разносили гусляры славу о Веселице, девки заглядывались на него, смущенно вспыхивали, встречаясь с купцом на улице. И многих из них одаривал Веселица своим вниманием.
Собирал молодой купец в тереме друзей, пил с ними привезенные издалека сладкие вина, добродушно слушал их похвальбу, полуприкрыв глаза, накручивал на палец черный ус. Водил друзей по дому, показывал погреба и скотницы. Ничего не таил от людей и не ведал еще тогда, что приглядывается к нему боярин Одноок, паучьим взглядом оценивает выставленное напоказ добро.
Хоть и тучен боярин и неповоротлив с виду, да слуги у него поворотливее поворотливого: все выведают и в точности донесут боярину.
Примечал Веселица на пирах в своей избе незнакомых мужичков, но разве могло прийти ему в голову, что каждый круг воска, каждая беличья шкурка и каждый мешок зерна занесены уж Однооком в секретную перепись и что по переписи той выходило: нет у молодого купца за душой ни резаны, а как надумает он отправиться с обозом на далекие края, тут ему и не обойтись без оборотистого и ловкого боярина. Через подставных лиц ссужал боярин деньги под товар, договор скреплял крестоцелованием в присутствии посадника.
Время быстро течет, это только кажется, что с утра до вечера без конца. У Веселицы же за пирами и громкими забавами текло и того быстрее.
И вот уж стоял он в терему у Одноока, ждал, когда проснется боярин, мял в руках лисью шапку.
Не спешил резоимец , давал помучиться молодому купцу, с коварной усмешкой поглядывал на него в дверную щель. Вышел к полудню, рыгая от обильной трапезы, с удивлением рассматривая гостя: а это кто, мол, такой, почто пожаловал не зван?
– Не прогневись, отец мой, что оторвал тебя от важных дел, – униженно обратился к нему Веселица, – а без твоей подмоги мне ноне никак не обойтись...
– О чем тужишь? – успокоил купца Одноок. – Слава о тебе идет по всему городу, и в тереме моем ты – желанный гость. Садись да сказывай, какая одолела тебя кручина.
Сел Веселица, долго не тянул, хоть и сказывал по обычаю степенно. Внимательно выслушал его боярин, покачал головой.
– Знал ты, к кому идти, купец. Не тужи. Деньгами я тебя выручу, велю открыть заветную кубышку, а ты мне вернешь все, до третьего реза, а ежели не вернешь, то взыщет с тебя посадник, как и записано будет в книге...
На том и били по рукам. И счастливый Веселица отправился с обозом, а Одноок прикинул, сколько выручит с товара. Богато выходило – молодой купец любил размах.
А вернулся из дальних краев ни с чем. Приехали боярские людишки на двор к купцу, стали отбирать и складывать в возы собольи меха, грузиться воском и медом. А посадник следил, чтобы все было по сговору. Две лишние лисьи шкурки прихватил Одноок – пришлось вернуть. Да не шибко убивался по ним боярин.
– Приходи еще, Веселица, – прощаясь, сказал он молодому купцу. – Авось в другой раз повезет. Счастье переменчиво.
Но и в другой раз не повезло Веселице. И так раз от разу все меньше и меньше оставалось в его скотницах добра; все больше и больше становилось добра в скотницах у боярина.
Скоро совсем уж нечем стало купцу торговать. Поутихли на его дворе пиры, нищие и те обходили стороной: что возьмешь у задолжавшего боярину изгоя ?!
Настал день, когда и саму избу взял за долги Одноок, выгнал Веселицу.
– Прощай, купец, не поминай лихом. Отвернулось от тебя счастье – назад не воротишь.
– Пустил ты меня по миру, отец мой, – грустно сказал Веселица и отправился жаловаться на Одноока посаднику. Но посадник, хоть и был ему молодой купец по душе, ничем не смог помочь. Только и присоветовал:
– Поклонись еще раз боярину. Может, смягчится, может, и оставит избу, а по книгам выходит, что правда На его стороне...
Горд был Веселица, к боярину кланяться не пошел, а вырыл себе землянку на окраине посада под берегом у Клязьмы и стал побираться с нищими у Золотых ворот.
Видя бывшего удачливого купца грязного и в рубище, нищие потешались над ним:
– А каково попировал, Веселица?
– Не кажной реке своим устьем в море впасть. Мелок ты на быстринке. Вот тебя Одноок всего и вычерпал.
А по вечерам, деля добычу, били его и отбирали последние медяки. Плакал Веселица ночами в своей землянке, копил в себе злобу. Хмурым сделался и неразговорчивым.
Стали его нищие побаиваться. А после того, как погладил он суковатой палкой одного из их собратьев, и вовсе перебрались из-под Золотых ворот поближе к детинцу.
– Страхолюд, а не человек, – говорили про Веселицу в городе. Матери пугали им своих детей: «Нишкните, не то позову Веселицу!», и дети испуганно затихали.
Дочери богатых купцов, коих звал он, бывало, к себе на пиры, нынче, проезжая мимо, глядели в другую сторону. Горько думал Веселица: «С высока полета вскружилась голова. Ходил с перышком в хвосте, да выщипали». Никому теперь он был не нужен.
2
Ночью отшумела над Клязьмой гроза. Лежа на рубище в своей землянке, Веселица вздрагивал, просыпался и, крестясь, вглядывался в темноту.
Крупный дождь пробил верх землянки, и грязные потоки его, журча, сбегали по откосу. Река внизу ворочалась и плескалась в берега, в кустах шуршало и хлюпало.
Протянув руку, Веселица почувствовал, как она погрузилась во что-то мягкое и теплое, лежавшее на рядне под самым его боком. Мягкое шевельнулось, во тьме блеснули два зеленых глаза, послышалось уютное урчанье. Перепугавшийся было Веселица облегченно вздохнул и вспомнил, как, возвращаясь вечером домой, подобрал на перевозе выброшенного кем-то грязного кота.
Кот упруго выпрямился под его ладонью и, тыкаясь холодным влажным носом, полез под рядно. В землянке было сыро и холодно.
Веселице не хотелось вставать, но и лежать ему тоже надоело. Помедлив, он все-таки поднялся, ступая босыми ногами по склизкому полу, подошел к выходу, откинув мешковину, выглянул из землянки.
На склоне горы бушевала вода; у перевоза метались огни факелов, грудились трудно различимые фигуры людей, доносился гул голосов, всполошные крики баб.
«Что-то случилось», – подумал Веселица. Торопливо намотав онучи и подвязав на щиколотках лапти, выскочил из землянки.
Мужики, подбадривая друг друга, тащили из воды крючьями груду какого-то тряпья. Из груды торчали безвольно свесившиеся ноги, голова утопленника была облеплена мокрыми листьями.
Веселица кинулся помогать, но его оттолкнули. Из толпы вырвалась молодуха, заголосила, упав грудью на мертвое тело. Мужики стояли, понурившись, бабы всхлипывали, прикрывая рты платками.
– Сказывают, богатый был купец, – проговорил над ухом Веселицы приглушенный волнением голос. Веселица узнал в говорившем кузнеца Морхиню.
– Да чо понесло его в этакую пору на перевоз? – спросил кто-то.
– Домой поспешал, – пояснил Морхиня, – оскользнулся, должно, ударился о бревно темечком. Перевозчики-то и подняли сполох...
Веселица склонился над телом и тут же отпрянул: в утопленнике он признал Вукола, купца, с которым и сам не раз хаживал торговать, – все так, не соврал Морхиня.
– Мир праху его, – пробормотал, быстро перекрестившись, Веселица. Мужики вокруг тоже перекрестились. Глядя на Веселицу, Морхиня сказал:
– А тебя я, кажись, где-то встречал?
– Вместе меды-брагу пили, – неохотно отозвался Веселица. – Пусти-ко, недосуг мне.
– Э, нет, – попридержал его за рукав Морхиня.
– Пусти...
– Почто бежишь?
– Уж не ентот ли купчишку стукнул? – послышались голоса.
– Он и есть...
– Экой прыткой. Держи-ко его, кузнец, да покрепче.
– Дурни, – сказал с миролюбием в голосе Морхиня. – Аль Веселицу не признали?
– А и верно, – тут же поутихли вокруг. – Веселица и есть. Ты что здесь делаешь, Веселица? – спрашивали с участием, потому что среди простого владимирского люда бывший купец слыл блаженным.
– Услышал, как егозитесь. Вот и прибег поглядеть...
– Жаль купца, – сказал Морхиня, провожая взглядом мужиков, тащивших в гору утопленника.
«Меня никто не жалеет», – с горечью подумал Веселица и собрался уходить. Но тут поднялся все это время сидевший на опрокинутой вверх днищем долбленке человек в грязном, с подвернутыми до локтя рукавами зипуне, тронул его за плечо.
– Постой, Веселица. И ты постой, кузнец, – проговорил он сдавленным голосом. – Вуколу мы уж ничем не поможем, а мой струг стоит на исаде совсем недалече. Помянем раба божьего по нашему старому обычаю. Прибыл я недавно от булгар, есть у меня и меды и сидша. А зовут меня Гостятой...
– Ежели так, – сказал Морхиня, – то вот мы с тобой. Веди на свой струг.
Исад в ту пору находился у самых Волжских ворот. Кроме струга Гостяты было там еще много других лодей, больших и малых.
Дождь поутих, забрезжил рассвет. Гостята проводил Морхиню с Веселицей в лодейную избу, а сам удалился.
«Богатый купец, – подумал о Гостяте Веселица. – Ишь какая изба. Иконы в золотых и серебряных окладах, на лавках ковры...» Но хоть и знал он всех купцов во Владимире наперечет, а Гостяты не припоминал.
Дверь, ведущая в избу, скрипнула, появились люди. Тихо, со скорбными лицами стали рассаживаться по лавкам.
«Вот Спас, а вот Нехорошка», – дивился Веселица старым знакомым. Многие из них в прежние-то, светлые, времена бывали в его дому завсегдатаями. После того, как разорился, перестали его признавать, – нынче же снова кланялись с уважением, как и Морхине.
Кормщики внесли братины с медом, на столе появились блюда с мясом, серебряные кубки. Вошел Гостята и сел во главе стола. Присутствующие все так же молча разлили черпачками мед. Подняли кубки, выпили, зашевелились на лавках, стали поминать Вукола – говорили, кто что знал, и все хорошее. Вздыхали, покачивали головами.
По мере того как пустели братины, беседа становилась оживленнее. Порозовели лица, заблестели глаза.
Веселица ел с жадностью – давно уж не сиживал он за таким изобильным столом. Таясь от соседей, прятал за пазуху куски мяса и обглоданные кости – себе и коту, облизывал жирные пальцы, счастливо улыбался и прислушивался к общей беседе.
Купцы – народ бывалый. Все, что ни творится на белом свете, – всё им ведомо. Говорили наперебой.
– Пришел я нонешней весною в Галич, – степенно сказывал Нехорошка, – вокруг смятение. А почто, спрашиваю? Беда, говорят, зять великого князя киевского Рюрика – Роман – сызнова ищет над нами старшинства, сносится с изгнанным из Польши князем Мечиславом, потакает ему в борьбе против Лешки, малолетнего сына умершего в прошлом году Казимира Справедливого. Поставили бояре над собою Лешку, потому как много бед и невинно пролитой крови стоил им Мечислав... А Роман себе на уме. Шлет к Владимиру галицкому ласковые письма, уверяет в дружбе, но как ему верить, ежели уж однажды садился он на стол в Галиче, да не удержался – ныне, знать, снова замыслил неладное. Хоть и не в ссоре Мечислав с Владимиром, но коварству Романову нет границ...
– То, что ты о Романе сказывал, все правда, – вступил в беседу неторопливый и рассудительный Спас. – Знавал я сего князя и ране. Завистлив он и невоздержан. И ежели бы не угорский король Бела, который поддержал бежавшего к нему с сыновьями, золотом и дружиною Владимира, сидел бы и поныне Роман на галицком столе. А как бы это для Галича обернулось, одному богу известно. Но добра бы с ним галичане все равно не нажили – то верно. Однако, сдается мне, иные у Романа задумки...
Спас отпил из кубка сладкого меду, провел ладонью по бороде и, будто забыв про только что сказанное, уставился на стену перед собой отрешенным взглядом.
– Что-то не договариваешь ты, купец, – сказал со своего конца стола Гостята. – Коли уж начал, то не томи. Кое-что и я слыхивал о Романе...
– Сидит он нынче на Волыни, яко ястреб, – усмехнулся Нехорошка, – головой крутит, глядит далече.
– У всех князей одно на уме. – встревоженно заговорили купцы. – И за Владимира галицкого ты не заступайся, Нехорошка. Владимир, хоть и князь, а все равно не радетель – привел угров с собой... Не то землю будут ему угры орать? Не простаки, чай. Пожировал Бела в Галиче и ушел восвояси – вот и весь сказ.
– Я о Романе,– обидчиво сказал Нехорошка.
– А вот послухайте-ко, купцы, – склонился над столом Спас. – Слово мое верное, сам недавно из Киева. Помер великий князь Святослав (про то вам ведомо), и Рюрик поделил землю русскую промеж родичей. Самый жирный кусок Роману достался...
– Да ну?! – раздались голоса.
– Знать, шибко любит Рюрик свово зятя.
– Для дочери старается...
– Может, так, а может, что и другое, – сказал Спас. – Только отдал Рюрик Роману (и Давыд с ним согласился) лучшие города в земле Черных Клобуков. Торческ, Триполь, Корсунь, Богуслав и Канев – все по границе со степью.
– Славные города, – кивнул Гостята.– Хаживал я в тех краях. Земли богатые, плодородные... Эвона какой кусище отхватил волынский князь! И верно, нынче Роману не до Галича.
Новость всех поразила. Поразила она и Нехорошку, затеявшего разговор. Однако он быстро оправился:
– Новость твоя поистине удивительна, Спас. Дошла ли уж она до Всеволода, не ведаю, кажись, твои гонцы быстрее Князевых. Но только сдается мне, что не конец это, а начало большой беды.
– Не каркай, Нехорошка, – оборвал его Гостята.– Нешто не рад ты, что восстановились на нашей земле мир и согласие?..
– О каком согласии ведешь ты речь? – осерчал Нехорошка. – Разве не известно тебе, что ни одно дело не решается отныне без ведома владимирского князя? А Рюрик в гордыне своей вершил все с одним только Давыдом. Не-ет, не обойтись им без Всеволода – нрав у него крутой, рука тяжелая. Не поступится он своим правом. И городов, кои назвал ты, Спас, Роману не видать. Вот и выходит, что радоваться ему рано...
Дальше серьезная беседа не клеилась. Приуныли купцы, чаще застучали черпаками о края братины. Кормщики едва поспевали носить меды и вина.
Веселица пьянел быстро. Сидевший рядом с ним Морхиня прилежно следил, чтобы чара его была полна.
Кто-то вспомнил про Одноока. Снова расшумелись купцы. Многие из них уже сидели в сетях у оборотистого боярина. Стали жалеть Веселицу. Лезли к нему целоваться.
Морхиня говорил:
– Загубил паук добра молодца. А каков был купец!
– Он и до вас доберется, – мрачно предсказал Нехорошка.
Спас возразил:
– Неча слюни развешивать. Веселица сам виноват. У доброго купца не то что куна – каждая резана на счету. Гулял-веселился – вот и по миру пошел. Для нашего купеческого братства сие – великий позор.







