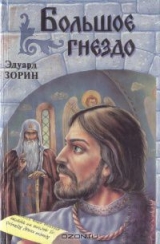
Текст книги " Большое гнездо"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц)
– Бать, а бать...
– Ну что?
– А Веселица святой?
– С чего взял?
– Так мамка говорила...
– Мамка у тебя добрая. Все убогие у ней святые...
Не нравились Никитке вопросы Улыбы – бередили они и его старые раны. Разве мальцу объяснишь, откуда берется горечь? Вырастет – сам поймет...
– Всюду не легок в жизни праведно добытый хлеб,– сказал, укладываясь спать на лавке, Авраам. – А нам не легок вдвойне: своя назола свербит, от чужой сбежать нет мочи... Облика господня в людях не стало.
– Совестливый ты, Авраам. Да у других-то брюхо ровно дырявый куль: сколь в него ни сыпь – всё мало. Спи...
Улыба уже тихонько похрапывал на печи. Аленка спала за перегородкой в закутке.
Ветер шуршал по крыше ледяной крупой.
4
Жизнь человека подобна проточной воде. Одна катится по равнине широко и спокойно; другая – шумит и пенится, сотрясая пороги; иная тоненьким ручейком струится в тени добрых дерев, а бывает и так, что, едва родившись, иссякает она вблизи своего истока – слаба ее жила, не хватает ей силы пробиться к морю, выпивают ее шершавыми губами жаждущие поля, набравшись живительной влаги, взрастают золотыми колосьями к синему небу...
Свой норов у каждой воды, своя судьба, но зря не пропадет и самая малая капля.
Схоронили чернецы Чурилу – и пусто сделалось в святой обители. Куда ни сунься, в какой угол ни загляни – всюду его следы. Кажется, вот-вот выйдет он, могуч и длинноволос, на выложенный плашками чистый двор, сбегутся к нему монахи слушать его чудные рассказы, разинут рты, замрут в изумлении. И умом господь наградил его недюжинным, и богатырским сложением. Казалось всем, что нет Чуриле изводу. Казалось, вечно пребывать ему на земле, как этим лесам, лугам и пажитям, что раскинулись за Каменкою в плодородном ополье.
А вот на ж поди – и его час настал, кончились и его силы.
Трудно расставался с жизнью своей Чурила. Стали примечать монахи, что сделался он не в меру задумчив и одинок. Бывало, раньше-то видели его и на трапезе, и во дворе, беседующим с игуменом, и на молитве в соборе, от коей не отступал он и тогда, когда совсем ослеп и покорный отрок неторопливо водил его на службу и со службы обратно в келью.
– За грехи мои наказует меня бог, – говорил Чурила, уставившись в небо поверх головы игумена широко открытыми глазами.
– Почто хулу на себя возводишь? – отвечал игумен.– Жил ты, Чурила, по правде. А господь наш справедлив и милостив – заберет он тебя к своему светлому престолу. И тако скажет: «Был ты, Чурила, праведен и боголюбив. Оттого и уготовил я тебе на небесах вечное блаженство». Все мы гости на этом свете.
Ласков был игумен, сам одной ногою стоял в могиле. Подумывал и он о вечном царствии небесном. Тело его высохло и ослабело, посох едва удерживал готовую переломиться пополам спину, в груди стесненно клокотало дыхание.
Целыми днями (или ночами – то было ему неведомо) Чурила беззвучно сидел в своей келье, касался пальцами листов пергамента, ловил щекой дуновение проникшего сквозь неплотные задвижки окна ветра и думал, думал, как будто думы могли отсрочить неизбежное...
Вечное блаженство – а есть ли оно?.. Почему не хочет душа расставаться с телом? Не есть ли и ее удел – сырая яма с желтой лужицей на дне, мрак и опустение? Отчего тоскует она по крепким ногам, сильным рукам, большому красивому телу?.. Когда окружал Чурилу праздничный светлый мир, когда водил он писалом по листам пергамента и раскрашивал киноварью заглавные буквицы, тогда не скорбела душа, а теперь, накануне блаженства, скорбит и мается...
Что есть человек? Прах и глина. Безобразные кости, череп с пустыми глазницами... Не истлевает ли и душа, не истончается ли вместе с костьми и не растворяется ли в полых водах, не разносится ли по долам и весям с песком и пылью?
– Верую, господи, – шептал Чурила бескровными губами. – Верую, верую...
Но мысли его возвращались на круги своя, жесткой ясностью сжигали последнюю надежду.
Вся жизнь проходила перед взором Чурилы – своя и чужая. Большая жизнь, которая сейчас казалась ничтожной, как островок в безответном, безграничном мраке. Придут другие люди, начнут всё заново – еще и еще. И они растают в безбрежности...
Лишь руки, касавшиеся теплых листов пергамента, напоминали ему что-то, но что?..
И вот однажды сверкнула молния, обожгла пальцы и разлилась внутри его спокойным светом: разве не вложил он душу свою в эти листы, в эти маленькие черные буковки? Разве не осенил его бог своей благодатью, ниспослав ему великое знамение? И разве не его избрал он среди многих, водя рукой его? И не свои ли помыслы вложил в пергаментные листы, которые останутся и будут жить вечно?..
– Господи, – шептал Чурила, – верую. Воистину душа человеческая бессмертна...
Так и умер он с этими словами на устах. Игумен закрыл его глаза и вышел из кельи. На всходе стояли плачущие монахи.
– Почто плачете? – спросил их игумен, глотая слезы.
– Жаль Чурилу, – сказали монахи.
– Возрадуйтесь, скоро душа его встретится с богом.
– Воистину так, – сказали монахи, но слез не могли унять. Тогда взошел игумен в собор, и следом за ним взошли в собор все. И повелел игумен, как в праздник, зажечь восковые свечи. И свечи зажгли, как он повелел, и встали на колени.
– Помолимся, братие, – сказал игумен.
– Помолимся, – сказали монахи. И долго молились и клали земные поклоны.
Спи спокойно, Чурила. Пусть не тревожат тебя земные сны. Прольются над тобой дожди, лягут снега, взойдут весенние травы, созреют на полях злаки. И снова прольются дожди, и снова лягут снега, и снова взойдут весенние травы...
Призовет к себе Всеволод обученного грамоте ратника и скажет ему так:
– Забудут ли внуки наши содеянное отцами и дедами? Умрет ли память о нас вместе с нами?..
– Нет, не умрет, – скажет ратник, и преклонит колена, и возьмет из руки князя твою летопись.
Пролетят годы. Придет лихолетье. И над могилой твоей. Чурила, подымет пыль до небес чужая конница. Принесет она с собой запах далеких становищ и горькой степной полыни. Рухнут городницы Владимира и Суздаля, вспыхнут, как свечи, белокаменные соборы, умоется кровью земля... Пронзенный стрелой, падет ратник на желтые листы пергамента.
Но разве люди дадут оборваться памяти?.. Темной ночью придут они и похоронят ратника, а бесценные листы, рискуя жизнью, унесут с собою в леса.
Спи спокойно, Чурила. Пусть не тревожат тебя земные сны. Не скоро придет на могилу твою страшная весть – далеко отсюда еще только собирается конница в бескрайние табуны...
А пока ни стар, ни млад не пройдут мимо – присядут у холмика, развернут тряпицу с нехитрой едой, помянут тебя, отдохнут и тронутся дальше в путь...
...Бродит русский мужик по земле – ищет себе лучшей доли. Проложил дороги во все концы, пробил тропы сквозь бурелом и болота. Но заветной тропы всё никак не найдет.
А от Дышучего моря, треща небывалыми морозами, идет с великими снегами суровая зима...
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Все, что сказывал Морхиня про Веселицу, все истинно так и было. Не удержал его Мисаил – ни добротой своей не удержал, ни речьми праведными.
– Ища озлобления в сердце своем, – говорил Мисаил, – ступаешь ты, Веселица, на грешный и зело опасный путь. И в том я тебе не помощник, и благословения моего для себя не жди.
Горько было сознавать старцу, что не нашел он в сердце Веселицы отклика на свою доброту, но верил еще: не много пройдет времени, потолкается Веселица в миру – и вернется назад. Не сыскать ему правды – зарыта она глубоко, милости княжеской не добиться – нет у него послухов против Одноока. Посмеется над ним боярин и велит вдругорядь гнать со двора. А князь сурово накажет за наговор.
Предостерег бы Мисаил Веселицу, да по глазам прочел: падут слова его на бесплодный камень. Почто надрываться зря?..
Ушел Веселица. Придя во Владимир, перво-наперво заглянул к Морхине.
Кузнец вытаращил глаза:
– Покойничек не то ожил?
– Не хоронил ты меня...
– Другие хоронили...
– Хоронить-то хоронили, да в гроб положить забыли. Вот он я!
– Не серчай, Веселица, – мягко сказал кузнец. – Видеть тебя я рад.
– Одноока тоже порадую...
– Эко удивил!.. А в беде своей ты сам виноват. Одноок брал, что в руки шло: на то он и резоимец.
– Ко Всеволоду пойду.
– Вовсе помутился у тебя рассудок. Да нешто князь боярина даст в обиду?
Совсем отчаялся Веселица. Обессилев, прислонился к наковальне, опустил безвольно руки. Острые лопатки жалко торчали сквозь продранную на спине рубаху, грязные пальцы высовывались из худых лаптей.
Умолял Веселица:
– Ну, научи меня, Морхиня. Ты человек мудрой – про то все говорят. И князь тебя чтит. Как быть?..
– Купцы тебя к себе не примут, знаешь сам, – вслух рассуждал кузнец. – Идти тебе в закупы, а иного пути нет...
– Эко присоветовал! – ожесточившись, вскочил Веселица.– А из закупов – в холопы?..
– Почто в холопы? Откупишься – снова станешь свободным...
– Немощен я...
Жалко было Морхине Веселицу, но как ему помочь?
– Ты князю-то замолвил бы за меня словечко, – снова принялся за свое Веселица. Г лаза его лихорадочно блестели.
– Не послушает меня князь...
– Куды ж мне?
Морхиня помолчал. Веселица перекатывал на худых скулах жесткие желваки.
– Пропал я, Морхиня, яко капустный червь, – сказал он.
– Сам на себя веревку свил, других винить неча, укорил кузнец.
Веселица побледнел:
– На пиру много друзей...
– Не ярись. Эко явился – словно полымем тебя принесло. Послушайся моего совета...
– Ко князю пойду.
– Одно заладил...
– Прощай, Морхиня..
– Прощай.
Вышел Веселица на улицу – ослеп от яркого солнца. Шел, качаясь, как пьяный. И чем дальше он шел, тем все больше западали ему в душу слова, сказанные Морхиней. Не кривил душою кузнец – говорил то, что знал. Надежный он человек, и зря обругал его Веселица.
В закупы идти – все равно что на кривой и кособокой жениться. Но кривую жену не избыть вовек, а из закупов можно выкарабкаться...
Был у него еще смиренник – отец Мисаил. Но принимать суровый обет Веселица не хотел. Не чувствовал он в себе близости к богу и еще мечтал рассчитаться с Однооком.
Припекало осеннее солнышко Веселице спину, а в тени под заборами снег лежал.
Шел Веселица, не глядя по сторонам. У Медных ворот увязались за ним ребятишки. Поначалу дразнили незлобно, дергали за штаны, потом принялись кидать в него комья мерзлой земли.
– Весел Веселица, да рожа невесела! – кричали они, сбиваясь в озорную толпу.
Взрослые выходили из ворот – иные отгоняли ребятишек, другие тоже скалили зубы.
– Принесло его нам на лихо.
– Куды только посадник глядит?!
Бабы жалились:
– Не трожьте убогого.
Мужики со знанием говорили:
– Не убогой он, без понятия. Глупо рожено – не научишь...
Вдруг будто споткнулся Веселица. Поднял затуманенный взгляд и увидел, что стоит перед бывшей своей избой. На крыше – те же петухи, оконца облачены в кружевные наличники. Перед воротами стоит возок, одна к одной – белые лошади украшены нарядной сбруей. Выводят отроки красну девицу в высоком кокошнике, придерживают ее под локотки.
Ах ты, господи, ведь привидится же такое! И не красну девицу вовсе подсаживают в возок отроки, а боярина Одноока. Кланяются ему низко, ноги, обутые в мягкие сапоги, бережно упутывают ласковым мехом.
Тут-то и глянул боярин на убогого, вытаращил глазищи, разинул, набравши воздуха, рот, заорал:
– Гони!..
Взяли кони с места, понесли возок по разбитой дороге, ударили его задом в плетень, выровняли бег и скрылись за поворотом.
Веселица задрожал, кинулся вслед. Ребятишки веселой гурьбой бежали с ним рядом. Улица наполнилась беспокойной суетой и криками:
– Лови!
– Держи!
– Хватай вора!..
Шла навстречу монашка, испуганно крестясь, попятилась с дороги.
– Помогай вам бог, люди добрые, – обратилась она к бабам. – Не скажете ли почто шум?
– Здрава будь, Феодора,– отвечали ей бабы. – Нанесло на нас опять Веселицу. Сколь дён не показывался – думали, сгиб. Ан нет. Сызнова грозится Однооку...
– Чего грозится-то? – удивилась монашка.
– Аль не слыхала?
– Наше дело – богу молиться, – скромно отвечала Феодора.
– Пустил его Одноок по миру, все богатство отобрал, избу тож – вот эту самую... Да ты не печалуйся, матушка: сам Веселица всему виной и причиной. Жил неправедно, вот его господь и покарал... Одно слово, убогой он.
– Убогих бог любит, – сказала Феодора. – А мальцы ваши убогим помыкают.
– Неразумны ишшо, вот и скалятся...
Ребятишки наседали на Веселицу со всех сторон, со смехом валили на землю. Он отбивался от них, как мог.
На помощь мальцам поспешили замешкавшиеся было у вррот отроки. Отшвырнули ребятишек, прижали Веселицу к плетню. Стали размахивать кулаками.
Бабы запричитали в голос, Принялись стыдить своих мужиков:
– А вы что рты разинули?
– Убого бьют – вам все нипочем.
– Нынче Веселицу – завтра за вас прймутся. И так житья никакого от них не стало...
Мужики поначалу пересмеивались, отмахивались от надоедливых баб. Но, когда отроки сбили Веселицу наземь и взялись пинать лежащего ногами, забеспокоились:
– А и впрямь, доколь боярским прихвостням человека страмить?
– Эй вы, волки гривастые, будя вам колотить Веселицу!..
Отроки не слушали мужиков, занятые привычным делом. Кряхтели, посапывали, с удовольствием приговаривали:
– Будя тебе боярина нашего поносить.
– Раз проучили – проучим ишшо!..
Мужики загалдели, нестройно двинулись по улице.
– Кому сказано, оставьте убогого! – послышались смелые голоса.
– Ступайте, мужики, по избам, – дерзко отвечали отроки. – Не то и вам перепадет.
– Эко разохотились! – из толпы вывернулся кряжистый парень, с незлобивой улыбкой на бледном лице выдернул из плетня липовый кол.
– А ну, помогай, кто смел! – крикнул задиристо, и весело. Размахнулся, огрел ближайшего отрока по ягодицам.
– Так его! – подначивали бабы.
– Бог в помочь! – закричали мужики и, поплевав на ладони, принялись расшвыривать и бить по загривкам боярских приспешников.
Потасовка перерастала в драку. Про Веселицу забыли. Вспоминали всяк про свои обиды:
– Это тебе, сивый мерин, за Агапку!
– А это – должок за порушенные борти!..
– За боярского кобеля. Покусал прошлым летом мово Ковдюшку...
– А вот получай за клин, что прирезал Одноок к своему огороду!.. Мой клин, моя земля!..
Наваляли отрокам на долгую память, загнали во вдор, еще издевались под воротами:
– Сопляки желторотые!..
– Псы шелудивые!..
Тем временем, отделясь от толпы, Феодора уговаривала харкающего кровью Веселицу:
– Ты о меня обопрись, миленький... Ну-ко.
Веселица бормотал в беспамятстве:
– Убивцы, звери лютые... Ко князю пойду, ко князю...
– Ко князю? – усмехнулась Феодора. – Князь тя рассудит...
– Князь рассудит...
– Мужика мово рассудил...
– Да ты кто такая? Откудова взялась? – подозрительно воззрился на нее Веселица отекшим глазом.
– Не видишь, что ль? Черница я. Феодора...
– То-то что черница. Не твое это дело – мирское. Почто встряла? Пущай бьют... Пущай...
Терпеливо снося упреки, Феодора подталкивала Веселицу в спину, свернув за угол, вынула из холщовой сумы тряпицу:
– Ha-ко, лицо утри.
Стих Веселица, покорно вытер лицо, поплелся, прихрамывая, с ней рядом. Слово за слово, пока дошли до Медных ворот, Феодора узнала про него почти всё.
Страж у ворот, улыбаясь, окликнул монашку:
– Помогай бог, сестра Феодора!
– Дай бог и тебе счастья, – отвечала монашка.
Стражу наскучило без дела. День ото дня – всё одно и то же. Прислонив копье к стене, он сидел на скамеечке, расставив ноги рогатиной, грелся на солнышке, довольно жмурился.
– А ты куды, Веселица, путь наладил? – спросил воротник.
– На Кудыкину гору, – отвечал Веселица.
– А далеко ли гора-то? – скучая, переспросил воротник.
– Отселева не видать. Отчепись ты!..
Откинув голову, воротник зашелся неслышным смехом – над открытым вырезом суконвика прыгал обросший седыми волосами кадык.
– Шутник ты, Веселица, – сказал он, вытирая согнутым пальцем выступившие на глазах слезы. – А синяк у тебя откудова?
– Однооковы псы наваляли...
– Неуемен ты, Веселица.
– За правду завсегда наваляют...
– Суд людской – не божий. Бог – милостив.
Из-за ворот вылетела навстречу Веселице с Феодорой стайка ворон. Над Лыбедью сумеречно виднелись перелески. Темнело. Сиверко гнал на город сбитые над полями в лохматые кучи облака.
2
Из печи выносило струистый дымок, потрескивала береста. Теремок, вертя хвостом, стоял возле лавки и тыкал в щеку Веселицы холодным влажным носом.
– Ну, чего тебе? – сказал Веселица, все еще пребывая в спокойной дреме и не приподымая головы. Пес взвизгнул и присел на задних лапах. У него были смиренные, как у хозяина, глаза, в приоткрытой пасти мотался красный язык.
Веселица нехотя встал, напялил на плечи влажную одежду и вышел за тоненько скрипнувшую дверь.
Мисаил рубил дрова. Повесив на сучок однорядку, он стоял посреди припорошенной снегом поляны в застиранной нательной рубахе, заносил топор над лесиной и, с силой опуская его, громко выдыхал.
– Дай-ко мне, – попросил топор Веселица.
– Богу наперед помолись, – буркнул Мисаил, не глядя.
Веселица потоптался неловко, с виной в голосе промямлил:
– Не серчай, отче.
Мисаил продолжал молча рубить дрова.
– Крепок ты, – польстил смиреннику Веселица. – Силушка из тебя так и прет...
Мисаил опустил топор.
– Ну что пялишься? – спросил хоть и грубовато, но с потаенной добротой.
– Поразмяться бы...
– Ну-ко, – протянул Мисаил топор. – Передохну покуда.
Снял однорядку с сучка, набросил на плечи. Веселица обрадованно схватил топор, непутево зачастил легкими ударами. Лесина была тугая и влажная, топор отскакивал от нее, разбрасывая мелкую щепу.
– Слаб ты ишшо, – говорил Мисаил, стоя рядом. – Сока ишшо не набрал. А туды ж петушишься. Почто в город зачастил?
Веселица выпрямился, глядя в сторону, пощупал пальцем синяк.
– Душа истомилась, отче.
– Оттого истомилась, что помыслы все твои суета и тлен. В ночь-то стонал дюже, зубами скрипел. Думал, огневица у тебя...
– Помереть бы мне...
– Помереть – дело не хитрое.
– Что делать-то?
– Смирись и не богохульствуй.
Веселица в сердцах бросил топор.
– Всё одно заладил: смирись да смирись... Нешто слов у тебя других нет, отче?
– Другие-то слова у других для тебя припасены. Ввергают помыслы твои в безумие, распаляют сердце. В смирении обретешь благодать, в смирении!..
Сорвался Мисаил на крик, глаза стали красны и неистовы – Веселица, испугавшись, даже отпрянул от старца. Таким не видел он его еще ни разу. Теремок тоже встрепенулся, дивясь хозяину, закружился с громким лаем на поляне.
– Ишь ты, божья тварь, – сам смутившись от неожиданного гнева, проговорил смиренник и торопливо перекрестился .– Господи, вводишь ты меня во грех, Веселица... Дай-ко топор!
Снова повесив на сучок однорядку, Мисаил с еще большим ожесточением принялся за лесину.
Неожиданно Теремок навострил уши, подобрал хвост, зарычал и вдруг, отчаянно залаяв, бросился в припорошенные снегом кусты.
Укутанная в меховую душегрейку, из-под которой выглядывали полы строгой монашеской ряски, на тропе показалась черница с плетенкой из луба за спиной и палкой в руке.
Остановившись над преградившим ей дорогу Теремком, она ласково проговорила:
– Собачка, собачка, вот тебе хлеба краюшка. Не ярись – пропусти к хозяевам...
Теремок не то понял ее, не то уловил ласковость в ее голосе – приветливо завилял хвостом, вернулся к Мисаилу и свернулся клубком возле его ног.
– Бог в помощь, люди добрые, – сказала монашка, выходя на поляну.
– Спасибо на добром слове, – ответил Мисаил и воткнул в лесину сочно хрястнувший топор.
Монашка подошла к Веселице, поглядела на него снизу вверх, улыбаясь, и певуче спросила:
– Не признал не то?
– Феодора это, – растерянно произнес Веселица, оборачиваясь к Мисаилу. – Вчерась вместе из города шли...
Мисаил посопел и строго пробубнил:
– Проходи, что ль, коли пришла.
– Спасибо, дедушка, – поклонилась ему Феодора. – Дай тебе бог здоровья.
– Здоров покуда, – ворчливо сказал Мисаил.
В тепле Феодора расстегнула душегрею и скинула к ногам плетенку.
– А я вам монастырского угощенья принесла, – сказала она.
Мисаил поставил в печь горшок с водой, подул на тлеющую бересту, подбросил в огонь сухих сучьев.
Оглядываясь, Феодора говорила с улыбкой:
– Хорошо у вас, чисто, прибрано, а живете без бабы...
– Тоже люди, чай, – сказал от печи Мисаил. Сидя на корточках, он чистил широким ножом репу и бросал в горшок.
Веселица, не отрываясь, разглядывал Феодору. Вот ведь чудно – шли вечор рядом, а не заметил он ни ее глаз, ни губ; не помнил даже – молода она или стара: заслонила весь мир от него обида.
Сегодня начали таять коловшие сердце льдинки, отпускала тягучая боль.
– Откуда ты, Феодора? – спрашивал он изумленно, боясь шевельнуться на лавке.
– Из монастыря, – потупила она глаза.
– Не черница ты...
– Грех так говорить, – отвечала с упреком.
– Не ведал я таких черниц...
– А каких ведал? – вскидывала она ресницы.
– Пахнет от тебя землей и травами...
– От земли я, Веселица. Вот и пахнет землей.
– Как звали тебя в миру?
– Малкой.
– Беда к беде путь ищет. Должно, шибко обидели тебя, Малка?
– Ох как обидели!..
Затаенную боль прочел в ее глазах Веселица. Запнулся, замолчал. Опустил голову на руки.
– Ты не молчи, Веселица. Ты говори, – тихо попросила Феодора. – Ты про себя расскажи...
– Про меня сказывать нечего. Пропащий я человек.
– Ты его, Феодора, не пытай, – глухо проговорил смиренник. – Нет у него ничего на уме, окромя Одноока. Как выхаживал я его, читал Святое писание. Ничо. Поку
да болен был, взывал к богу: спаси! А встал на ноги – и все заповеди забыл. Кощунствует и пребывает в постоянном грехе...
– Хочу смириться, а не могу, – сказал Веселица.– Бес меня оседлал...
– Не бес, но гордыня, – спокойно поправил Мисаил.
Не засиделась Феодора в гостях: ей еще в городе дел было невпроворот. Навязали монашки рукавиц для клобучника Лепилы. Они ему – рукавицы, он им – иное что.
– Тем и сыты, – сказала Феодора.
– Ваша игуменья тщится Одноока перебодать, – осудил Досифею Мисаил.
Феодоре понравился старец, старцу пришлась по душе Феодора. Но Веселице он сказал:
– Всё одно – баба. И знаться с ней – грех.
Окуривая после ухода Феодоры избу, чтобы изгнать нечистую силу, он бормотал молитвы и качал толовой:
– Зря приютил я тебя, Веселица. Отвернется от меня господь. Разгневается.
– Куды же мне?
– А вот куды хошь, туды и иди.
Но, когда Веселица собрал мешок и стал креститься на иконы, Мисаил вдруг обхватил его и, склоняясь к груди, заговорил сбивчиво:
– Прости меня, старого. Ей-ей, прости. Не ведал, что язык бормотал. Грешен, грешен еси...
Так и остался Веселица у Мисаила.
С того дня все реже вспоминал он Одноока и все чаще – Феодору. Подолгу сидел перед избой, смотрел на тропинку, ждал, когда мелькнет среди кустов ее знакомая душегрейка.
Но дни шли за днями, а Феодора не приходила. Крепкие легли снега, ударили морозы.
Однажды утром, взяв Мисаиловы лыжи, Веселица встал на них и отправился к монастырю...
3
Не зря беспокоился Веселица: с Феодорой и впрямь приключилась беда.
Еще на подходе к городу было ей недоброе знамение: у Лыбеди встретилась ей баба с пустым ведром, а у самой избы, где жил Лепила, перебежал дорогу черный кот.
Был клобучник навеселе и, пока раскладывала она на лавке перед ним разноцветные рукавицы (будто радугу, высыпала из своего лубка!), все норовил ущипнуть ее за бок.
Феодора ловко уворачивалась от него, не серчая, но распаленный Лепила не отставал.
– Ай да черница!.. Ай да лада! – хоркал он, щекоча бородой ее ушко.
– Куды лезешь, старой бес? – говорила Феодора, отдирая от груди его руки.
И раньше, случалось, Лепила приставал к Феодоре. Не пропускал он и других черниц. За себя-то она шибко не беспокоилась...
Тут вошла со двора жена клобучника и стала жаловаться Феодоре на мужа:
– Извели его меды-то. Вовсе ошалел, умишком тронулся...
– Ты, баба, не встревай, коли не смыслишь, – сердился Лепила, с неохотой отходя от Феодоры, но и издали продолжал ласкать ее блудливым взглядом.
– Ну, будя, поозоровал – так нишкни, – рассердилась жена. – Не то шоркну по спине коромыслом.
Так было всегда. Жена Лепилы положила Феодоре в луб съестного, поклонилась ей и выпроводила за ворота.
– Помолись за нас, грешных, – сказала на прощанье...
Шла Феодора по улице, глядела на поседевшие от снега крыши, улыбалась и вдруг встала как вкопанная: катилась навстречу ей, словно опавшие листья, густая толпа.
– Куды побёгли? – сунулась любопытная Феодора к запыхавшимся мужикам.
– Изба горит!..
– Чья изба?..
Голоса становились все внятнее:
– Подпалили Одноока!
– Беда!..
– Свое спасай, мужики!..
Толпа подхватила Феодору, поволокла с собой по замерзшим лужам, по кочкам и колдобинам. Теперь увидела она поверх голов растрепанный столб дыма почти у самых Медных ворот. Натруженно грохотало било...
Сердце Феодоры сжалось в недобром предчувствии, в висках застучало. Обмякли ноги. «Кажись, Веселицына изба! – подумала она со страхом. – Эко место заклятое!»
...Гудело и било в окна яркими искрами откуда-то изнутри. Осклизаясь на подтаявшем снегу, по крыше ползали мокрые люди с ведрами, лили воду на дымящиеся доски. Воду вытаскивали из колодца во дворе, несли от соседних изб.
У ворот Феодора увидела на коне Одноока. Был он одет наспех, без шапки и без рукавиц, кричал, раздирая большой рот:
– Наддай, мужички!.. Ставлю бочонок меду!.. Два бочонка!.. Наддай, мужички!
Но пламя не сдавалось, оно уже вылизывало стены, подбиралось к причелинам, крыша курилась и корчилась; окна выстреливали горячими снопами огня.
Не выдержав жара, мужики покатились с крыши на снег. Крестились. Бабы причитали, стадно жались к плетням...
– Что же вы, мужички?! – взывал Одноок. – Почто отступились?..
– Была охота в полымя лезть, – отвечали ему из толпы.
– Своя жизнь дорога...
– Твоя изба, боярин, ты и лезь...
– Чужое-то к рукам не прилипло...
– Вона как полыхает – любо!
Мелькнули в толпе отчаянные и злые глаза.
– Ты поджег? – схватили какого-то мужика растолкавшие людей отроки. До хруста заломили руки за спину, бросили на дорогу, били кулаками и топтали. Глаза мужика, исполненные страдания, налились кровью. Голова безвольно моталась и вздрагивала от ударов.
Стоявшая ближе всех к нему Феодора отшатнулась, попятилась, закрыв лицо руками. Всплыло давнишнее, почти забытое, – так же били Зорю, мужа ее, на усадьбе у боярина Разумника. Звери, звери лютые!..
– Заступитесь, бабоньки! – завопила Феодора, не узнав своего голоса. Оглохнув от ненависти, ослепнув, вцепилась в кого-то – руками не отдерешь.
– Вовсе сдурела черница! – лопнул, как пузырь, у самого уха надсадный голос.
Феодора раскрыла глаза, увидела удивленное безусое лицо в крови, отшатнулась. Кто-то схватил ее за плечи, оттащил в сторону, встряхнул.
– Она это!.. Она! – завопил, приходя в себя, отрок. Наскочил, как петух, закружился вокруг Феодоры на одной ноге, на второй переломился в голенище сапог.
Из лубяной сумы на спине Феодоры вывалилась на дорогу краюха хлеба, бурачок и две луковки.
Бабы тоже ее признали:
– Куды ж принесло тебя, черница?
– То купчкшкина зазноба! – кричал отрок. – Никак, и он здеся!..
– Не страми божьего человека,– осаживали его бабы.– Чо разорался?.. Не зазноба она, а смиренница.
– Веселица здеся, Одноок! – выслуживался отрок перед боярином. – Вот ента черница вчерась подле него кудахтала. Никто другой – он и поджег избу-то...
Тут все забыли про Феодору, да и она сама замерла с открытым ртом: горевшая изба закачалась, крышу словно приподняло знобящим ветром – она с грохотом провалилась, на толпу посыпались горячие головешки... Тихо стало, как на похоронах, кто-то всхлипнул, кто-то завыл в голос. Боярин, сидя на коне, смотрел остановившимся взором в дотлевающие желтыми и синими искрами угольки.
Слава богу, мимо соседних изб огонь пронесло. А то, что боярские хоромы сгорели, мужиков не очень опечалило. Иные только жалели:
– Бочонок меду ставил боярин...
– Дык ежели бы потушили...
– А жаль бочонок-то.
– Погуляли б...
– Своя бражка есть, неча кланяться...
– Пошли, мужики!..
Народ стал неторопливо расходиться. Феодора тоже сунулась за ними вслед. Отроки преградили ей дорогу:
– А ты погодь, черница.
Подъехал на коне Одноок. Подергивая дрожащей рукой опущенные,поводья, вперил в Феодору колючий взгляд.
– Твоя игуменья – не Досифея ли? – спросил тихо.
– Она, боярин, – поклонилась Феодора.
Одноок сказал:
– Почто в городе? Почто людей моих страмишь?
– В город игуменья меня послала – рукавички снести клобучнику Лепиле. А людей твоих, боярин, я не стремила. Сами острамились перед честным народом.
– Это как же? – удивился Одноок.
– Не кормишь ты их, боярин. Вот и кидаются, яко псы голодные...
– Да что слушать ее? – вскипел отрок с поцарапанной щекой. – Она те наговорит... Смиренной прикидывается, а сама будто кошка. Вели брать ее, боярин, с Веселицей она заодно.
– Ты жгла избу? – наступал на нее Одноок.
– Окстись, боярин, – отступив, сказала Феодора. – Нешто я на пожогщицу похожа?.. Да и почто жечь мне твою избу? Мы с тобой отродясь не встречались...
– А вот сказывают отроки, что видели тебя с Веселицей.
– Веселицей его зовут али еще как, то мне неведомо. Били вчера твои отроки мужика – я его и пожалела. Нынче тож не могла утерпеть... Одно слово – псы голодные.
– Ты про псов-то и говорить позабудь! – рассердился Одноок. И, обернувшись к своим людям, сказал:
– Черницу и пальцем не троньте. А отведите ее в монастырь и сдайте игуменье Досифее с рук на руки. Скажите, Одноок прислал.
Феодоре пригрозил:
– Наложит на тебя игуменья епитимью, чтобы впредь неповадно было мешаться в мирские дела.
– Виданное ли дело – вести черницу под стражей в святую обитель? – подслушав разговор, вступились за Феодору любопытные бабы.
– Сороки вертлявые, – сказал Одноок. – Ступайте отседова. Не ваша это забота.
Феодору подтолкнули.
– Чо встала? – прикрикнул отрок.
Монашка обернулась, охладила его взглядом.
– Храброй...
Неторопливо подобрала выпавший из лубяной сумы хлеб, луковицы и бурачки, пошла гордо, вскинув голову.
4
С вечера внезапно наступила оттепель – поплыли снега, обнажая покатые ребра оврагов и желтые поляны. На дорогах шуршала и пенилась коричневая жижа, с крыш обрывалась буйная капель. А утром проснулась Досифея, сунулась к оконцу – обмерла: за ночь такие нанесло снега, что коням по брюхо...
У всхода, ведущего в покои игуменьи, костлявая, огромного роста баба в сдвинутом на затылок вязаном колпаке разгребала сугробы деревянной лопатой. Было свежо и ясно.
Двор лежал нетронут и чист, как выбеленный на солнце холст. Только к собору тянулись темные пятна шажков – словно вороны на белом снегу...
Досифея крепко зажмурилась, набрала в грудь пьянящего воздуха.
Сунув под мышку черенок лопаты, баба поклонилась игуменье. Досифея перекрестила ее и осторожно спустилась на очищенную дорожку.







