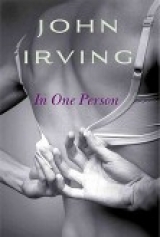
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц)
Я уже наполовину пересек двор, где умер Грау, когда мне пришло в голову, что ненависть к гомосексуалам полностью гармонирует с моими мыслями. Я не мог выговорить «пенисы» и, однако, без сомнений ставил себя выше парня, который не мог произнести «время».
Помню, как я подумал, что всю оставшуюся жизнь мне нужно будет искать таких людей, как Марта Хедли, и окружать себя ими, но всегда будут и другие люди, которые будут ненавидеть и оскорблять меня – или даже пытаться нанести мне физический вред. Эта мысль была такой же бодрящей, как морозный воздух, убивший доктора Грау. Единственная беседа с сочувствующей мне учительницей музыки дала мне немало пищи для размышлений – вдобавок к непростому осознанию, что миссис Хедли – властная женщина и что-то в ее доминантности привлекает меня сексуально. Или же в этой доминантности было что-то непривлекательное? (Только тогда меня осенило, что, может быть, я сам хочу стать таким, как миссис Хедли – в сексуальном плане, – а не быть с ней.)
Может быть, Марта Хедли была хиппи, опередившей свое время; в шестидесятом году слово «хиппи» еще не употребляли. В то время я практически не слышал и слова «гей»; в академии Фейворит-Ривер оно не было популярным. Может, для нашей школы «гей» звучало слишком уж дружелюбно – или по крайней мере слишком нейтрально для всех этих гомоненавистников. Конечно, я знал, что значит это слово, просто в моем узком кругу общения его редко произносили, – но в своей сексуальной наивности я не особенно размышлял над тем, что в недостижимом, как мне казалось, мире гомосексуальности означают слова «доминантный» и «субмиссивный».
Не так уж много лет спустя, когда я жил с Ларри – из всех мужчин и женщин, с кем я пытался жить, мы с Ларри протянули дольше всего, – он любил подшучивать надо мной, рассказывая окружающим, в каком я был «шоке», когда он подцепил меня в той подпольной кофейне в Вене.
Я учился за границей первый год. Два года немецкого в колледже – не говоря уже об изучении языка в академии Фейворит-Ривер – подготовили меня к году жизни в немецкоговорящей стране. Те же два года, что я проучился в Нью-Йорке, одновременно подготовили и не подготовили меня к атмосфере секретности, царившей в венской кофейне, когда я попал туда в 1963/64 учебном году. В то время все гей-бары в Нью-Йорке были закрыты; в шестьдесят четвертом году в Нью-Йорке проходила Всемирная выставка, и мэр вознамерился «очистить» город для туристов. Остался бар «У Джулиуса» – хотя, может, были и другие, – но даже «У Джулиуса» мужчинам за стойкой не разрешалось прикасаться друг к другу.
Я не говорю, что в Вене все афишировалось еще меньше, чем в Нью-Йорке; ситуация была примерно такой же. Однако в том месте, где меня подцепил Ларри, кое-какой физический контакт между мужчинами все же имел место – разрешалось это или нет. Но я помню, что не Вена шокировала меня, а сам Ларри.
– Ты актив или пассив, красавчик Билл? – спросил меня Ларри. (Я действительно был шокирован, но не самим вопросом.)
– Актив, – ответил я, не раздумывая.
– Да ну! – воскликнул Ларри то ли с искренним, то ли с притворным удивлением; по нему частенько невозможно было сказать наверняка. – А мне ты показался пассивом, – сказал он, и после паузы – такой долгой, что я уже решил, что он пригласит к себе кого-то другого, – продолжил: – Пойдем-ка отсюда, Билл.
Ну да, я был шокирован, но только тем, что я был студентом, а Ларри – моим профессором. Я учился в Институте европейских исследований – das Institut, как называли его студенты. Наша группа состояла из американцев, но преподавательский состав был смешанным: несколько американцев (Ларри был из них самым известным), один милейший чудаковатый англичанин, а остальные – австрийцы, преподаватели Венского университета.
Институт европейских исследований стоял в том конце улицы Волльцайле, что ближе к Штубенринг и Доктор-Карл-Люгер-плац. Студенты жаловались на то, как далеко das Institut находится от университета; многие наши студенты (из тех, у кого немецкий был получше) слушали дополнительные курсы в Венском университете. Но не я; меня не интересовали курсы. Я отправился в колледж в Нью-Йорк, потому что хотел жить в Нью-Йорке; я учился в Вене, чтобы жить в Вене. Меня совершенно не волновала удаленность от университета.
Моего немецкого вполне хватило, чтобы устроиться в шикарный ресторан на Вайбурггассе – почти в противоположном конце Кернтнерштрассе от Оперы. Назывался он «Цуфаль» («Совпадение»), и я получил работу, потому что уже работал официантом в Нью-Йорке и потому что вскоре после приезда в Вену узнал, что единственного официанта в «Цуфаль», говорившего по-английски, уволили.
Узнал я об этом как раз в той подпольной гей-кофейне на Доротеергассе – одном из переулков, отходящих от улицы Грабен. Называлась она «Кафе Кафих» – «кофейная клетка». Днем там, по-видимому, сидели в основном студенты; и девушки тоже – на самом деле именно днем одна девушка рассказала мне, что в «Цуфаль» уволили официанта. Но после наступления темноты в «Кафе Кафих» появлялись мужчины постарше, а девушки исчезали. Так оно и было тем вечером, когда я столкнулся с Ларри и он огорошил меня своим вопросом.
В том первом осеннем семестре в Институте я еще не учился у Ларри. Он читал курс о пьесах Софокла. Ларри был поэтом, а я хотел стать романистом – я полагал, что с театром покончено, а стихов я не писал. Но я знал, что Ларри пользуется уважением, и спросил его, не подумывает ли он организовать курс для писателей – в зимнем или весеннем семестре 1964 года.
– О господи – только не курс писательского мастерства! – сказал Ларри. – Даже не говори мне ничего. Когда-нибудь писательское мастерство будут преподавать повсеместно!
– Мне просто хотелось бы показать свою работу другому писателю, – сказал я ему. – Я не поэт, – признался я. – Я пишу романы. Я пойму, если вам это неинтересно.
Я уже уходил – стараясь выглядеть обиженным, – когда он остановил меня.
– Погоди, погоди, как тебя зовут, юный романист? – спросил Ларри. – Я читаю романы, – сказал он мне.
Я сообщил ему свое имя – я сказал «Билл», потому что именем «Уильям» владела мисс Фрост. (Я публиковал романы под именем Уильям Эбботт, но никому больше не позволял называть себя Уильямом.)
– Ну, Билл, – мне надо над этим подумать, – сказал Ларри. Тогда-то я и понял, что он гей и о чем он подумал в тот момент, но учиться к нему я пришел только в январе 1964-го, когда он начал читать курс писательского мастерства в зимнем семестре.
Ларри был уже признанным поэтом – для коллег и студентов он был Лоуренс Аптон, но его приятели-геи (и кружок почитательниц женского пола) звали его Ларри. К тому времени я успел познакомиться с несколькими мужчинами постарше – я не жил с ними, но они были моими любовниками, – и я знал, кто я, когда речь заходила об активах и пассивах.
Не прямота вопроса Ларри шокировала меня; даже новые студенты знали, что Лоуренс Аптон – известный сноб – порой ведет себя совершенно хамски. Я обалдел от того, что мой преподаватель, столь знаменитая фигура в литературном мире, подкатил ко мне. Но Ларри никогда не рассказывал эту историю в таком варианте, и спорить с ним было невозможно.
Если верить Ларри, он не спрашивал меня, актив я или пассив.
– В шестидесятых, милый Билл, мы не говорили «актив» и «пассив» – мы говорили «питчер» и «кэтчер»[3], – утверждал Ларри. – Хотя, может, у вас в Вермонте все были настолько продвинутые и опередившие свое время, что уже спрашивали «плюс или минус», пока мы, отсталые, все еще задавали вопрос про питчера и кэтчера, который вскоре превратится в вопрос «актив или пассив». Но не в шестидесятых, дорогой мой Билл. Когда я встретил тебя в Вене, я точно помню, что спросил, питчер ты или кэтчер.
Затем, поворачиваясь к нашим друзьям – к своим друзьям, по большей части; что в Вене, что позднее в Нью-Йорке большинство друзей Ларри были старше меня, – Ларри говорил:
– Билл пишет художественные романы, но от первого лица, в манере исповеди; его романы настолько похожи на мемуары, насколько ему только удается.
Затем, снова повернувшись ко мне – глядя только на меня, словно мы с ним остались наедине, – Ларри говорил:
– И все же, дорогой Билл, ты настаиваешь на анахронизмах – для шестидесятых слова «актив» и «пассив» – анахронизмы.
Вот таким был Ларри; так он разговаривал всегда – он неизменно оказывался прав. Я научился не спорить с ним по мелочам. Я просто отвечал: «Да, профессор», потому что если бы я сказал, что он ошибается, что он точно использовал слова «актив» и «пассив», Ларри отмочил бы еще одну остроту о моем вермонтском происхождении или начал бы трепаться о том, как я сказал, что я питчер, хотя все это время он считал, что я кэтчер. («Разве вам не кажется, что он больше похож на кэтчера?» – спрашивал он обычно своих друзей.)
Поэт Лоуренс Аптон принадлежал к старшему поколению геев, которые искренне верили, что большинство гомосексуалов – пассивы, что бы они там ни говорили – или что даже те из нас, кто утверждает, что они активы, в итоге все равно станут пассивами. С момента нашей встречи в Вене это неизменное расхождение относительно сказанного на первом «свидании» омрачалось еще и тем, что большинство европейцев думали в шестидесятые и думают до сих пор – а именно что мы, американцы, слишком много значения придаем вопросам активности и пассивности. Европейцы всегда считали, что мы слишком жестко воспринимаем эти различия, как будто любой гей должен непременно быть либо одним, либо другим – как сегодня иногда заявляют мне некоторые юные самоуверенные типчики.
Ларри – стопроцентный пассив – умудрялся жаловаться на то, как я его не понимаю, раздраженно и кокетливо одновременно.
– Я более гибкий, чем ты! – сказал он мне однажды, всхлипывая. – Можешь говорить, что тебе нравятся и женщины, или ты притворяешься, что они тебе нравятся, но это не я по-настоящему закоснелый тип в нашей паре!
В Нью-Йорке конца семидесятых, когда мы все еще встречались, но уже не жили вместе, – Ларри называл семидесятые «благословенной эпохой промискуитета» – однозначно определить чью-либо сексуальную роль можно было быть только в чересчур бросающихся в глаза «кожаных» барах: платок в левом заднем кармане обозначал актива, а в правом – пассива. Голубой платочек означал секс, красный – фистинг; а, да какая теперь разница! Была еще эта жутко раздражавшая меня примета: куда ты вешаешь ключи – справа или слева от пряжки ремня на джинсах. В Нью-Йорке я не обращал внимания, с какой стороны прицепляю ключи, и ко мне вечно приставали какие-нибудь разбирающиеся в сигналах активы, а я и сам был актив! (Иногда это действовало на нервы.)
Даже в конце семидесятых, почти через десять лет после освобождения геев, гомосексуалы постарше – те, что были старше не только меня, но и Ларри, – жаловались на такое явное афиширование. («И почему нужно непременно раскрывать все тайны? Ведь в тайне и заключается волнующая часть секса, разве не так?»)
Мне нравилось выглядеть как гей – или, по крайней мере, походить на гея настолько, чтобы другие голубые парни и мужчины засматривались на меня. Но при этом мне хотелось, чтобы девушки и женщины задавались вопросом о моей ориентации – и тоже оборачивались, чтобы взглянуть на меня еще раз. Я хотел сохранить что-нибудь провокативно мужественное в своей внешности. («Что, сегодня пытаешься выглядеть поактивнее?» – как-то раз спросил меня Ларри. И да, наверное, так оно и было.)
Помню, когда мы репетировали «Бурю», Ричард сказал, что пол Ариэля «изменчив»; тогда он сказал, что и пол ангелов тоже изменчив.
– На выбор режиссера? – спросил тогда Ричарда Киттредж.
Думаю, я пытался выглядеть сексуально изменчивым, уловить что-то от неясной сексуальности Ариэля. Я знал, что я невысок ростом, но привлекателен. Я мог быть и невидимым, когда хотел, – как Ариэль, я мог быть «духом воздуха». Нет одного определенного способа выглядеть бисексуалом, но именно такой внешности я и хотел добиться.
Ларри любил подтрунивать над моим «утопическим понятием андрогинности», как он выражался; наверное, его поколение придерживалось мнения, что так называемые освобожденные геи уже не должны выглядеть как «девчонки». Ларри, я знаю, полагал, что я выгляжу (и одеваюсь) как «девчонка» – вероятно, потому я и казался ему пассивом, а не активом.
Но я считал себя почти нормальным парнем; под «нормальным» я подразумеваю, что никогда не тащился от кожи или этих идиотских разноцветных платочков. В Нью-Йорке – как и в большинстве городов в семидесятых – многие искали партнеров на улицах. Мне нравился андрогинный внешний вид тогда и нравится сейчас – а слова андрогинный и андрогинность никогда не доставляли мне проблем.
– Билл, ты хорошенький мальчик, – часто говорил мне Ларри. – Но не воображай, что вечно будешь таким стройным. Не думай, что можешь одеться стильно или даже переодеться в женщину и этим как-то повлиять на кодекс мачо, против которого бунтуешь. Ты не изменишь то, как выглядят настоящие мужчины, и никогда не станешь одним из них!
– Да, профессор, – отвечал я ему.
В легендарные семидесятые, когда я подцеплял парня или он подцеплял меня, неизбежно наступал момент, когда моя рука оказывалась на его заднице; если он любил, чтобы его трахали, он начинал стонать и ерзать – чтобы дать мне понять, что я нашел волшебную точку. Но если он оказывался активом, мы ограничивались супербыстрым «шестьдесят девять» и отправлялись спать; иногда получалось супергрубое «шестьдесят девять». («Кодекс мачо», как называл его Ларри, может в конце концов победить. Мое «утопическое понятие андрогинности» может оказаться в проигрыше.)
В конце концов жуткая ревность Ларри вынудила меня расстаться с ним; даже когда ты настолько юн, как был я, неизменное восхищение не может вечно служить заменой любви. Когда Ларри подозревал, что я был с кем-то другим, он пытался дотронуться до моего ануса – проверить, нет ли там следов спермы или смазки.
– Я же актив, забыл? – говорил ему я. – Лучше бы конец мой понюхал.
Но ревность Ларри была до безумия нелогичной; даже прекрасно зная меня, он действительно верил, что с кем-то другим я мог быть пассивом.
Когда я встретился с Ларри в Вене, он изучал там оперу – из-за оперы он и приехал. Отчасти благодаря опере выбрал Вену и я. В конце концов, мисс Фрост сделала из меня преданного поклонника романов XIX века. Оперы, которые я любил, по сути и были романами XIX века!
Лоуренс Аптон был заслуженным поэтом, но он всегда мечтал написать либретто для оперы. («В конце концов, Билл, рифмовать я умею».) Ларри горел желанием написать оперу о геях. Он был очень строг к себе как к поэту; быть может, он воображал, что как автор либретто он сможет больше расслабиться. Однако Лоуренс Аптон, мечтавший создать гей-оперу, не написал ни одного открыто гейского стихотворения – раньше это доводило меня до бешенства.
В опере Ларри в роли рассказчика выступает некий циничный гей – сильно напоминающий самого Ларри. Рассказчик поет намеренно дурацкую жалобную песнь – не помню, как там она рифмуется. «Слишком много индейцев, но мало вождей, – сетует рассказчик. – Так много цыплят и так мало петухов». В самом деле, все очень расслабленно.
В опере предполагался также хор пассивов – разумеется, многочисленный – и комически маленький хор активов. Если бы Ларри продолжил писать оперу, вероятно, он добавил бы средних размеров хор медведей[4], но движение медведей зародилось лишь в середине восьмидесятых. Эти здоровые волосатые парни, намеренно неряшливые, бунтовали против точеных, подтянутых, подстриженных геев с бритыми яйцами и подкачанными в зале телами. (Поначалу эти ребята были просто как глоток свежего воздуха.)
Ни к чему и говорить, что либретто Ларри так и не стало оперой; его карьера либреттиста завершилась, не начавшись. Ларри будут помнить только как поэта, хотя мне запомнилась его идея гей-оперы – и те бесчисленные вечера в Штаатсопер, громадной Венской Опере, в пору моей молодости.
Это поражение великого человека, признанного поэта, многому научило меня, юного начинающего писателя. Нужно быть осторожным, если отклоняешься от установленных правил, – когда я сошелся с Ларри, я только начинал понимать, что работа писателя подчиняется правилам. Опера, конечно, пышная форма повествования, но и либреттист должен соблюдать некоторые условия; хорошая работа не может быть «расслабленной».
К чести Ларри, он первым признал свое фиаско. И это тоже стало для меня важным уроком.
– Если ты поступаешься своими стандартами, Билл, то не вини форму. Опера не виновата. Я не жертва этой неудачи – я и есть преступник.
Можно научиться у любовников многому, но – как правило – друзья дольше остаются с тобой, и узнаешь от них больше. (По крайней мере, так было со мной.) Я даже сказал бы, что мать моей подруги Элейн, Марта Хедли, повлияла на меня сильнее, чем Лоуренс Аптон.
В академии Фейворит-Ривер, где зимой 1960-го я учился только первый год – и еще был наивным вермонтским мальчишкой, – мне не доводилось слышать слов «актив» и «пассив» в том смысле, в котором позднее употреблял их Ларри (а также мои друзья-геи и любовники), но еще до того, как я вообще начал заниматься сексом с кем-либо, я знал, что я актив.
В тот день, когда я признался (не во всем) Марте Хедли и ее очевидная доминантность произвела на меня сильное, но неоднозначное впечатление, я уже точно знал, что хочу трахаться с другими мальчиками и мужчинами, но только засовывая свой член в них; мне никогда не хотелось, чтобы чужой член проникал в меня. (В рот – да, в задницу – нет.)
Даже желая Киттреджа, я осознавал это: я хотел трахнуть его и хотел взять в рот его член, но я не хотел, чтобы он трахнул меня. Конечно, это было полным безумием, ведь если Киттредж и рассматривал когда-либо возможность гомосексуальной связи, было до боли очевидно, какую позицию он занял бы. Если Киттредж и был геем, то, конечно же, активом.
Любопытно, что я проскочил свой первый год учебы в Вене и предпочел начать историю моей будущей жизни с рассказа о Ларри. Хотя логичнее было бы начать с рассказа о моей первой настоящей девушке, Эсмеральде Солер, поскольку я встретил Эсмеральду вскоре после приезда в Вену (в сентябре 1963 года) и прожил с ней несколько месяцев, прежде чем записался на курс к Ларри – и, спустя короткое время, стал его любовником.
Но, кажется, я знаю, почему я откладывал рассказ об Эсмеральде. Среди геев моего поколения принято рассуждать о том, насколько легче сегодня подростку заявить о своей гомосексуальности. Но я хочу вам сказать: в таком возрасте это всегда нелегко.
Я стыдился сексуального влечения к другим парням и мужчинам; я боролся с этими чувствами. Возможно, вы думаете, что я преувеличил свое влечение к мисс Фрост и миссис Хедли в отчаянной попытке быть «нормальным»; может быть, у вас сложилось впечатление, что меня никогда по-настоящему не привлекали женщины. Но женщины меня привлекали – и привлекают. Просто так вышло – особенно в академии Фейворит-Ривер, несомненно, потому, что там учились только мальчики, – что мне пришлось подавлять свое влечение к мужчинам.
После того лета в Европе с Томом, после выпуска из Фейворит-Ривер и позднее, когда я жил один – в колледже, в Нью-Йорке, – я наконец смог принять свою гомосексуальность. (Да-да, я непременно расскажу вам про Тома; просто с Томом все так сложно.) И после Тома у меня было множество отношений с мужчинами. К девятнадцати-двадцати годам – двадцать один мне исполнился в марте шестьдесят третьего, вскоре после того, как я узнал, что меня приняли в венский Институт европейских исследований, – я уже принял свою гомосексуальность. К тому моменту, как я отправился в Вену, я уже успел два года прожить в Нью-Йорке с одним молодым геем.
Это не значит, что меня больше не привлекали женщины; очень даже привлекали. Но мне казалось, что поддаться этому влечению – значит снова задавить в себе гея, вернувшись к прежнему состоянию. Не говоря уже о том, что все мои тогдашние друзья и любовники верили, что любой, кто называет себя бисексуалом, на самом деле просто гей, одной ногой еще стоящий «в чулане». (Полагаю, в девятнадцать, двадцать и двадцать один год какая-то часть меня тоже в это верила.)
Однако я знал, что я бисексуален – так же ясно, как знал, что меня привлекает Киттредж и как именно он меня привлекает. Но в юности я сдерживал свою страсть к женщинам – так же, как раньше подавлял желание к мужчинам. Даже в таком юном возрасте я, должно быть, чувствовал, что бисексуальным мужчинам не доверяют; может, и никогда не будут доверять, но тогда не доверяли точно.
Я никогда не стыдился своего влечения к женщинам, но как только я начал заводить любовников-геев – а в Нью-Йорке обзавелся еще бо́льшим количеством друзей-геев, – я быстро усвоил, что из-за этого другие геи относятся ко мне с недоверием, подозрением и даже страхом. Так что я помалкивал об своей тяге к женщинам и просто смотрел на них. (Тем летом шестьдесят первого в Европе, когда мы путешествовали с Томом, бедный Том как раз застал меня за этим занятием.)
Наша группа была маленькой; я говорю об американских студентах, которых зачислили в Институт на 1963/64 учебный год. Мы погрузились на один из круизных лайнеров в Нью-Йоркской гавани и пересекли Атлантику – как мы с Томом два года назад. Я быстро выяснил, что среди студентов этого курса геев нет, по крайней мере таких, кто это афишировал бы – или заинтересовал бы меня в этом смысле.
Мы поехали в Вену на автобусе через Западную Европу – за две недели пересмотрев больше достопримечательностей, чем мы с Томом за все лето. Соученики ничего обо мне не знали. Я подружился кое с кем – с гетеросексуальными (вроде бы) парнями и девчонками. Я обратил внимание на нескольких девушек, но еще до прибытия в Вену я решил, что у нас все же ужасно маленькая группа; было бы не самым мудрым решением переспать с одной из институтских сокурсниц. Кроме того, я уже пустил слух, будто «стараюсь» хранить верность девушке, оставшейся в Штатах. Я дал сокурсникам понять, что я парень с нормальной ориентацией и не очень расположен к общению.
Получив место единственного англоговорящего официанта в «Цуфаль», я окончательно отдалился от Института европейских исследований: этот ресторан был слишком дорогим для студентов. За исключением посещения занятий на Доктор-Карл-Люгер-плац, я мог продолжать играть роль молодого писателя в чужой стране – а именно выполнять самую важную задачу – находить время побыть одному.
С Эсмеральдой я познакомился случайно. Я заметил ее в опере; из-за габаритов (меня всегда привлекали высокие и широкоплечие женщины) и из-за того, что она делала пометки. Она стояла в дальнем конце зала Штаатсопер и яростно что-то строчила. В тот первый вечер я принял Эсмеральду за критика; хотя она была всего на три года старше меня (осенью шестьдесят третьего года Эсмеральде было двадцать четыре), выглядела она взрослее.
Но я встречал ее снова и снова – она всегда стояла позади – и сообразил, что, будь она критиком, она сидела бы в зале. Но она стояла, как я и прочие студенты. В те времена в Опере студентам разрешалось стоять за креслами; для них это было бесплатно.
Венская Опера возвышалась на перекрестке Кертнерштрассе и Опернринг. От «Цуфаль» до нее было всего десять минут пешком. Когда в Опере давали представление, в «Цуфаль» подавали ужин в две смены: ранний ужин перед оперой, и второй, более роскошный, после. Когда я работал в обе смены, как обычно и бывало, я попадал в оперу после начала первого акта и уходил до конца последнего.
Однажды во время антракта Эсмеральда заговорила со мной. Должно быть, я выглядел как американец, что меня страшно разочаровало, потому что она заговорила со мной на английском.
– Что с тобой такое? – спросила меня Эсмеральда. – Ты вечно опаздываешь и вечно уходишь, не дожидаясь конца! (По ней сразу было видно, что она американка; как выяснилось, она родилась в Огайо.)
– Такая работа, я официант, – ответил я. – А с тобой что такое? Почему ты все время что-то записываешь? Пытаешься стать писателем? Я, например, пытаюсь, – признался я.
– Я просто дублерша – я пытаюсь стать сопрано, — сказала Эсмеральда. – Ты пытаешься стать писателем, – повторила она медленно. (Меня тут же потянуло к ней.)
Однажды, когда я не работал в «Цуфаль» в последнюю смену, я остался в опере до занавеса и предложил Эсмеральде проводить ее домой.
– Но я не хочу «домой» – мне не нравится место, где я живу. Я не особенно много времени провожу там, – сказала Эсмеральда.
– А-а.
Мне тоже не нравилось мое жилище в Вене – и я тоже нечасто сидел дома. Но большую часть вечеров я работал в ресторане на Вайбурггассе; и пока что не очень представлял себе, куда можно пойти в Вене ночью.
Я привел Эсмеральду в ту гей-кофейню на Доротеергассе; она была неподалеку от Штаатсопер, и раньше я бывал там только днем, когда в ней сидели в основном студенты – в том числе девушки. Я еще не знал, что ночная клиентура «Кафе Кафих» состоит из одних мужчин – из одних геев.
Нам с Эсмеральдой не потребовалось много времени, чтобы понять мою ошибку. «Днем тут все по-другому», – сказал я ей, когда мы уходили. (Слава богу, Ларри в тот вечер там не было, я ведь уже предложил ему провести курс писательского мастерства в Институте; Ларри еще не сообщил мне о своем решении.)
Эсмеральду развеселило то, что я повел ее в «Кафе Кафих»: «На первом же свидании!» – восклицала она, пока мы шли вверх по улице Грабен к Кольмаркт. На Кольмаркт нашлась одна кофейня; я там не бывал, но выглядела она недешевой.
– У меня по соседству есть одно заведение, – сказала Эсмеральда. – Можем пойти туда, а потом проводишь меня домой.
К нашему обоюдному изумлению, оказалось, что мы живем в одном районе – по ту сторону Рингштрассе, за пределами центрального района, поблизости от Карлскирхе. На углу Аргентиньештрассе и Швиндгассе находился кафе-бар – такой же, как сотни других в Вене. Он совмещал в себе бар и кофейню; когда мы сели, я сообщил Эсмеральде, что тоже живу неподалеку. (Я часто приходил сюда писать.)
Так мы начали описывать друг другу наши далекие от совершенства ситуации с жильем. Выяснилось, что оба мы живем на Швиндгассе, в одном и том же доме. Жилье Эсмеральды было больше похоже на нормальную квартиру. У нее была спальня, собственная ванная и крохотная кухонька, но прихожая была общая с хозяйкой; почти каждый вечер, возвращаясь домой, Эсмеральде приходилось проходить через гостиную хозяйки, где эта сварливая пожилая дама уютно сидела на диванчике со своей маленькой сварливой собачкой. (Они всегда смотрели телевизор.)
Бормотание телевизора постоянно просачивалось в спальню Эсмеральды, где она слушала оперы (в основном немецкие) на старом граммофоне. Ей велено было слушать свою музыку тихонько, хотя «тихонько» оперу слушать невозможно. Оперы звучали достаточно громко, чтобы заглушить звук хозяйского телевизора, и Эсмеральда слушала и слушала немецкие голоса, и пела сама – тоже тихонько. Как она мне сказала, ей нужно было поработать над своим немецким произношением.
Поскольку мне самому не помешало бы поработать над грамматикой и порядком слов – не говоря уже о словарном запасе, – я сразу же понял, как мы с Эсмеральдой можем помочь друг другу. Произношение было единственным, в чем мой немецкий был лучше, чем у Эсмеральды.
Другие официанты в «Цуфаль» старались меня подготовить: осень закончится, придет зима и туристы разъедутся – и настанут вечера, когда в ресторане не будет англоговорящих клиентов. И лучше бы мне подтянуть мой немецкий до начала зимы, предупреждали они. Австрийцы не особенно приветливы к чужестранцам. В Вене слово Ausländer (иностранец) всегда имело негативный оттенок; все местные жители были немного ксенофобами.
Сидя в кафе-баре на Аргентиньештрассе, я начал описывать Эсмеральде свою ситуацию с жильем – на немецком. Мы уже решили говорить друг с другом по-немецки.
Эсмеральда носила испанское имя – на испанском оно означает «изумруд», – но она не говорила по-испански. Ее мать была итальянкой, и Эсмеральда говорила (и пела) на итальянском, но чтобы петь в опере, ей нужно было поработать над немецким произношением. Она сказала, что в Штаатсопер ее положение дублерши сопрано, «запасного» сопрано, как называла себя Эсмеральда, служит предметом насмешек. Если ее и выпустят когда-нибудь на сцену в Вене, то лишь в том случае, если их «основное» сопрано, как называла ее Эсмеральда, умрет. (Или если вдруг подвернется опера на итальянском.)
Даже сейчас, когда она рассказывала мне все это на грамматически безупречном немецком, я слышал в ее произношении явные кливлендские нотки. Учительница музыки в начальной школе Кливленда обнаружила у нее талант певицы; затем Эсмеральда получила стипендию в Оберлинском колледже. Первый год обучения за границей Эсмеральда провела в Милане; она стажировалась в Ла Скала и влюбилась в итальянскую оперу.
Но этот немецкий, сказала Эсмеральда, будто щепки во рту. Ее отец бросил их с матерью; он уехал в Аргентину, где встретил другую женщину. Эсмеральда заключила, что у женщины, с которой ее отец сошелся в Аргентине, по всей видимости, в предках были нацисты.
– Как еще объяснить, что я не могу справиться с произношением? – спросила меня Эсмеральда. – Я жопу рвала с этим немецким!
Я все еще размышляю над тем, что связывало нас с Эсмеральдой. У нас обоих сбежали отцы, мы жили в одном доме на Швиндгассе и обсуждали это в кафе-баре на Аргентиньештрассе – на ломаном немецком. Unglaublich! (Невероятно!)
Студентов Института расселили по всей Вене. Как правило, у постояльца была собственная спальня, но общая с хозяевами ванная; у поразительного числа наших студентов квартирными хозяйками были вдовы, и готовить на кухне квартирантам не разрешалось. Моя хозяйка тоже была вдовой, и у меня была собственная спальня, а ванную я делил с разведенной хозяйской дочерью и ее пятилетним сыном Зигфридом. На кухне постоянно кто-нибудь хлопотал, приводя ее в совершенный хаос, но мне разрешалось варить себе кофе, а в холодильнике я держал пиво.
Моя овдовевшая квартирная хозяйка регулярно плакала; днем и ночью она шаркала по квартире в разлезающемся махровом халате. Разведенная дочка была большегрудой женщиной с командирскими замашками; не ее вина, что она напоминала мне деспотичную тетю Мюриэл. Пятилетний Зигфрид смотрел на меня с демоническим прищуром; каждое утро на завтрак он съедал яйцо всмятку – вместе со скорлупой.
Когда я впервые увидел, как Зигфрид это проделывает, я тут же поспешил к себе в спальню и заглянул в англо-немецкий словарь. (Я не знал, как по-немецки будет «скорлупа».) Когда я сообщил матери Зигфрида, что ее пятилетний сын съел скорлупу, она пожала плечами и сказала, что, наверное, от нее пользы больше, чем от самого яйца. По утрам, когда я варил себе кофе и наблюдал, как малыш Зигфрид поедает свое яйцо всмятку, вместе со скорлупой, разведенка обычно выходила на кухню одетой в слишком большую для нее мужскую пижаму – по-видимому, принадлежавшую ее бывшему мужу. Расстегнутых пуговиц на пижаме всегда бывало чересчур много, и у матери Зигфрида была прискорбная привычка то и дело почесываться.








