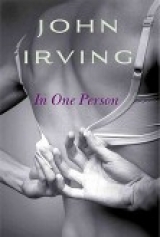
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
Как-то раз, уже весной, я спросил об этом Херма Хойта, случайно встретившись с ним во дворе.
– Теперь все будет по-другому – один турнир для всех был круче, – сказал мне старый тренер.
Я спросил тренера Хойта и о Киттредже – я хотел знать, чем можно объяснить его поражения.
– Киттреджу было насрать на утешительный матч, – сказал Херм. – Раз ему не удалось получить все, разница между третьим и четвертым местом была ему абсолютно по херу.
– Ну а первое поражение? – спросил я тренера Хойта.
– Я не раз говорил Киттреджу, что всегда найдется тот, кто лучше него, – сказал старый тренер. – Единственный способ победить того, кто лучше, – быть жестче. Второй парень оказался лучше, а Киттредж не был жестче.
На этом все и закончилось. Мы с Аткинсом были разочарованы. Когда я рассказал об этом Ричарду Эбботту, он ответил:
– Это прямо по Шекспиру, Билл; множество важных вещей у Шекспира происходит вне сцены – а зритель только слышит о них.
– По Шекспиру, – повторил я.
– И все равно я разочарован, – сказал Аткинс, когда я передал ему слова Ричарда.
Если Киттредж и присмирел, то разве что самую малость; я не заметил, чтобы поражения как-то сказались на нем. К тому же это был наш выпускной год, и мы начали получать ответные письма из колледжей и университетов. Сезон борьбы закончился.
Академия Фейворит-Ривер не принадлежала к числу престижных школ Новой Англии, и потому ее выпускники не подавали документы в престижные колледжи и университеты. Большая часть поступила в маленькие колледжи свободных искусств, но Том Аткинс считал, что его место в университете штата; он уже видел, что такое маленький – теперь ему хотелось чего-то побольше, он с тоской сказал мне, что ищет «такое место, где можно затеряться».
Сам я, в отличие от Аткинса, не особенно стремился затеряться. Меня интересовал факультет английского языка – и то, смогу ли я продолжить знакомство с теми писателями, которых мне рекомендовала мисс Фрост. Меня интересовало, смогу ли я переехать в Нью-Йорк или его окрестности.
«В каком колледже вы учились?» – спросил я когда-то мисс Фрост.
«Я училась в Пенсильвании, ты об этом колледже все равно не слышал», – ответила она. (Идея учиться в колледже, о котором никто не слышал, мне тоже нравилась, но самым важным для меня было попасть в Нью-Йорк.)
Я отправил документы во все колледжи и университеты Нью-Йорка, в какие только мог – и в те, о которых слышали все, и в такие, о которых не знал никто. Также я решил поговорить с кем-нибудь на факультете немецкого. В любом случае, заверили меня, мне помогут, если я захочу учиться в какой-нибудь немецкоговорящей стране.
Я уже чувствовал, что после лета в Европе мое желание оказаться как можно дальше от Ферст-Систер, штат Вермонт, будет только усиливаться. Мне казалось, что самое подходящее для будущего писателя – жить в другой стране, где говорят на чужом языке, и (в то же время) делать первые серьезные попытки писать на родном языке, как будто я был первым и единственным, кто пытался это проделать.
Том Аткинс в итоге поступил в Массачусетский университет в Амхерсте; университет был достаточно большим, чтобы Аткинс мог там затеряться – может, даже больше, чем ему хотелось бы.
Конечно, моя подача документов в Нью-Хэмпширский университет вызвала дома некоторые подозрения. Прошел слух, будто бы мисс Фрост переезжает в Нью-Хэмпшир. тетя Мюриэл на это заметила, что хорошо бы мисс Фрост переехала подальше от Вермонта – а я ответил, что и сам надеюсь переехать подальше. (Вероятно, это озадачило Мюриэл, знавшую, что я подал документы в университет Нью-Хэмпшира.)
Но той весной никакого подтверждения тому, что мисс Фрост якобы переезжает в Нью-Хэмпшир, не обнаружилось, – и никто не сказал, куда именно она планирует уехать. Правду сказать, моя подача документов в Нью-Хэмпширский университет никак не была связана с будущим местонахождением мисс Фрост. (Я отправил туда документы просто чтобы моя семейка понервничала – я и не собирался туда поступать.)
Гораздо большей тайной – занимавшей в основном меня и Тома Аткинса – было то, как Киттреджу удалось поступить в Йельский университет. Ну ладно, допустим, наши с Аткинсом результаты академического оценочного теста были такими, что Йель – и любой другой университет Лиги Плюща – был для нас недосягаем. Однако отметки у меня были получше, чем у Киттреджа, и как могли в Йеле проглядеть, что Киттредж был вынужден остаться на второй год в выпускном классе? (У Аткинса оценки были неровные, но выпустился он вовремя.) Мы с Аткинсом знали, что Киттредж получил высокие баллы за академический тест, но в Йель его приняли по другим причинам; и это мы с Аткинсом тоже знали.
Аткинс заикнулся про борцовскую карьеру Киттреджа, но, кажется, я знаю, что сказала бы на это мисс Фрост: отнюдь не борьба помогла Киттреджу попасть в Йель. (Как потом оказалось, в колледже он все равно не боролся.) Вероятно, баллы за академический тест тоже сыграли свою роль, но в итоге я узнал, что в Йеле учился отец Киттреджа.
– Уж поверь мне, – сказал я Тому, – Киттредж попал в Йель не благодаря своему немецкому – за это я ручаюсь.
– Билли, почему тебе важно, где собирается учиться Киттредж? – спросила меня миссис Хедли. (У меня были проблемы со словом Йель, поэтому она подняла эту тему.)
– Дело не в зависти, – сказал я ей. – Честное слово, я не хотел бы там учиться – я даже название-то произнести не могу!
Как потом оказалось, то, куда поступил Киттредж или куда поступил я, не имело никакого значения – но в то время сам факт его зачисления в Йельский университет приводил меня в ярость.
– Ну хорошо, оставим в стороне справедливость, – сказал я Марте Хедли. – Но разве достоинства уже ничего не значат?
Это был вопрос восемнадцатилетнего юноши, хотя мне исполнилось уже девятнадцать (в марте 1961 года); конечно, со временем меня перестанет волновать, в каком колледже оказался Киттредж. Даже той весной шестьдесят первого года нас с Томом Аткинсом больше интересовало лето в Европе, чем то, как Киттредж попал в Йель.
Признаюсь, теперь, когда мы реже виделись, забывать Киттреджа стало легче. Либо он больше не нуждался в моей помощи с немецким, либо просто перестал просить о ней. Поскольку Киттредж уже был зачислен в Йель, его не волновало, какую оценку он получит по немецкому – ему достаточно было просто окончить школу.
– Позволь тебе напомнить, – презрительно фыркнул Том Аткинс, – в том году Киттреджу тоже нужно было всего лишь окончить школу.
Но в шестьдесят первом году Киттредж все же выпустился – как и все мы. Честно говоря, выпуск меня тоже разочаровал. Ничего особенного не случилось, но, собственно, чего мы ожидали? Очевидно, миссис Киттредж не ждала ничего; она не пришла. Элейн также не приехала, но ее можно было понять.
Почему миссис Киттредж не пришла на выпускной своего единственного сына? («Не очень по-матерински, а?» – вот и все, что сказал на это Киттредж.) Киттредж, похоже, не был удивлен; к выпуску он относился с нескрываемым равнодушием. Чувствовалось, что мысленно он уже оставил нас всех позади.
– Можно подумать, что он уже учится в Йеле – как будто он уже не совсем здесь, – высказал свое наблюдение Аткинс.
На выпускном я встретился с родителями Тома. Его отец бросил на меня безнадежный взгляд и отказался пожать мне руку; он не назвал меня педиком вслух, но я почувствовал, что мысленно он произнес это слово.
– Мой отец очень… прямолинейный человек, – сказал мне Аткинс.
– Ему бы с моей мамой познакомиться, – только и ответил я. – Мы едем в Европу вместе, Том, – это самое главное.
– Это самое главное, – повторил Аткинс. Я ему не завидовал: оставшиеся дни перед поездкой ему придется провести дома, и было ясно, что все это время отец будет непрерывно капать ему на мозги. Аткинс жил в Нью-Джерси. Я видел только тех нью-джерсийцев, которые приезжали в Вермонт покататься на лыжах, и если судить по ним, Аткинсу опять же нельзя было позавидовать.
Делакорт представил меня своей матери.
– Этот тот парень, который должен был играть шута Лира, – объяснил ей Делакорт.
Когда хорошенькая миниатюрная женщина в платье без рукавов и соломенной шляпе тоже отказалась пожать мне руку, я сообразил, что история о том, как я должен был играть шута Лира, вероятно, тесно переплетается с историей о моем сексе с транссексуальной городской библиотекаршей.
– Сочувствую вашим бедам, – сказала мне миссис Делакорт. Только тут я вспомнил, что не знаю, в каком колледже собирается учиться Делакорт. Теперь он мертв, и я жалею, что так и не спросил его тогда. Может быть, выбор колледжа был важен для Делакорта – может быть, так же важен, как не важен он был для меня.
Репетиции пьесы Теннесси Уильямса не отнимали у меня много времени – роль-то была маленькой. Я был занят только в последней картине, где на сцене остается одна Альма, подавленная женщина, которую прекрасно могла бы сыграть мисс Фрост – по мнению Нильса Боркмана. Альму играла тетя Мюриэл, самая подавленная женщина, которую я когда-либо видел, но мне удалось вдохнуть жизнь в своего «молодого человека», воображая на ее месте мисс Фрост.
Молодой человек должен быть увлечен Альмой, так что повышенное внимание к груди тети Мюриэл казалось мне естественным для этой роли, хотя грудь у нее была гигантской (и, по моим понятия, отталкивающей) по сравнению с грудью мисс Фрост.
– Билли, тебе обязательно пялиться на мою грудь? – спросила меня Мюриэл на одной достопамятной репетиции.
– Предполагается, что я в тебя влюблен, – ответил я.
– В меня всю, как мне представлялось, – ответствовала тетя Мюриэл.
– Я думаю, молодому человеку уместно таращиться на грудь Альмы, – подчеркнул наш режиссер Нильс Боркман. – В конце концов, этот парень продавец обуви – он не очень рафинадный.
– Когда мой племянник так на меня смотрит, в этом есть что-то нездоровое! – возмутилась Мюриэл.
– Конечно, грудь миссис Фримонт привлекает взгляды многих молодых человеков! – сказал Нильс в неудачной попытке польстить Мюриэл. (Я на минуту забыл, что тетя не жаловалась, когда я таращился на нее в «Двенадцатой ночи». Ах да, но ведь тогда я был пониже, и грудь Мюриэл мешала ей увидеть меня.)
Моя мать вздохнула. Дедушка Гарри, игравший мать Альмы – и потому щеголявший парой огромных фальшивых грудей, – предположил, что «совершенно естественно», если любой молодой человек пялится на грудь «щедро одаренной» женщины.
– И ты называешь меня, собственную дочь, «щедро одаренной» – поверить не могу! – вскричала Мюриэл.
Мама снова вздохнула.
– Все пялятся на твою грудь, Мюриэл, – сказала она – Было время, когда ты хотела, чтобы на нее пялились.
– Лучше не развивай эту тему – было время, когда и ты кое-чего хотела, Мэри, – предупредила ее Мюриэл.
– Девочки, девочки, – сказал дедушка Гарри.
– А ты бы помолчал, старый трансвестит! – отрезала мама.
– Может, мне можно смотреть на одну из грудей, – предположил я.
– Не то чтобы тебя волновала хоть одна из них, Билли! – крикнула мама.
Той весной многие вздохи и крики мамы адресовались мне; когда я объявил о своих планах поехать в Европу с Томом Аткинсом, мне досталось и то, и другое. (Сначала, конечно, вздох, за которым тут же последовало: «С Томом Аткинсом – с этим гомиком!».)
– Дамы, дамы, – вмешался Нильс Боркман. – Этот Арчи Крамер – дерзкий молодой человек, он ведь спрашивает Альму: «А чем тут можно заняться в вашем городе, как стемнеет?»[9]. Это же довольно дерзко, правда?
– Ах да, – подхватил дедушка Гарри. – И есть еще ремарка про Альму: «его юношеская неуклюжесть помогает ей собраться с духом». И вот еще одна: «откинувшись на скамье, смотрит на него из-под полуопущенных век с некоторым даже, пожалуй, намеком». Я думаю, Альма вроде как подзуживает этого парня взглянуть на ее грудь!
– Одного режиссера с нас довольно, папуля, – сказала ему мама.
– Я не играю «намеков», я никого не подзуживаю смотреть на мою грудь, – сказала Мюриэл Нильсу Боркману.
– Ну ты и здорова врать, Мюриэл, – сказала моя мама.
В последней сцене должен быть фонтан – чтобы Альма дала молодому человеку одну из своих снотворных таблеток, а тот запил ее водой из фонтана. Сначала в этой сцене были и скамейки, но Нильс решил их убрать. (Мюриэл никак не могла усидеть спокойно, когда я таращился на ее грудь.)
Я уже предвидел проблему, связанную с отсутствием скамеек. Когда молодой человек узнает, что в городе есть казино, предлагающее (по словам Альмы) «все мыслимые удовольствия», он произносит: «Так какого же черта мы тут сидим?». Но скамеек не было; Альме и молодому человеку не на чем было сидеть.
Я указал на это Нильсу:
– Может, лучше сказать «Так какого же черта мы тут делаем?». Ведь мы с Альмой не сидим – нам не на чем сидеть.
– Билли, нельзя просто так взять и переписать пьесу – она уже написана, – сказала мама (наш вечный суфлер).
– Значит, вернем скамейки, – устало сказал Нильс. – Мюриэл, тебе придется сидеть спокойно. Ты только что поглотила снотворную таблетку, помнишь?
– Поглотила! – воскликнула Мюриэл. – Надо было поглотить весь пузырек! Не могу я сидеть спокойно, когда Билли таращится на мою грудь!
– Билли не интересуют груди, Мюриэл! – заорала моя мама. (Это было неправдой, как мы с вами знаем – просто меня не интересовала грудь Мюриэл.)
– Я просто играю – вы не забыли? – сказал я тете Мюриэл и маме.
В самом конце пьесы я убегаю ловить такси. Альма остается в одиночестве. Она «медленно поворачивается лицом к залу и все стоит с поднятой рукой – жест изумления и неотвратимости, – пока не опускается занавес».
Я понятия не имел, как выкрутится Мюриэл – «жест изумления» был далеко за пределами ее возможностей. А вот что касается «неотвратимости» – тут у меня сомнений не было, неотвратимость она могла передать.
– Давайте разок попробуем еще, – умолял нас Нильс Боркман. (Когда наш режиссер уставал, порядок слов иногда подводил его.)
– Давайте попробуем еще разок, – поддержал его дедушка Гарри, хотя миссис Уайнмиллер и не появляется в этой последней сцене. (В парке сгущаются сумерки; на сцене остаются только Альма и юный коммивояжер.)
– Веди себя нормально, Билли, – сказала мне мама.
– Последний раз, – сказал я, улыбнувшись так мило, как только мог – и маме, и тете Мюриэл.
– Вода… очень холодная, – начала Мюриэл.
– Вы что-то сказали? – обратился я к ее груди – живо, как и указано в ремарке.
«Актеры Ферст-Систер» давали премьеру Теннесси Уильямса в нашем маленьком театре примерно через неделю после моего выпуска из Фейворит-Ривер. Ученики академии никогда не ходили на спектакли любительского театра; поэтому было не важно, что все, кто жил в интернате, в том числе Киттредж и Аткинс, разъехались по домам.
Все представление, до двенадцатой и последней сцены, я просидел за кулисами. Меня больше не волновал неодобрительный взгляд мамы на дедушку Гарри в образе женщины; я уже узнал все, что хотел об этом знать. Миссис Уайнмиллер «была в детстве избалованной, эгоистичной девчонкой и сохранила нелепую ребячливость и в зрелые годы, прячась за нее и оправдывая ею свою полнейшую безответственность. Знакомым жена мистера Уайнмиллера известна как его „крест“».
Мне и маме было очевидно, что свой образ раздражительной миссис Уайнмиллер дед срисовал с бабушки Виктории, показав, каким «крестом» она была для него. (От самой бабушки это тоже не укрылось; она сидела в первом ряду, как обухом по голове ударенная, пока Гарри потешал зрителей своим фиглярством.)
Маме пришлось суфлировать обоим малолетним актерам, которые буквально уничтожили пролог. Но в первой картине – когда миссис Уайнмиллер в третий раз заверещала: «Куда девался мороженщик?» – зал взревел от смеха. В конце пятой картины миссис Уайнмиллер произносит последнюю реплику, издеваясь над своим мужем-подкаблучником: «Сам ты невыносимый крест, пустомеля несчастный…» – прокудахтал дедушка Гарри, и занавес опустился.
Это была лучшая пьеса, которую Нильс Боркман когда-либо ставил на сцене «Актеров Ферст-Систер». Приходится признать, что тетя Мюриэл великолепно сыграла Альму; мне было трудно представить, чтобы мисс Фрост могла состязаться с подавленностью исполнения моей нервной тети.
Кроме подсказывания реплик юным актерам в прологе, маме не осталось работы; никто не переврал ни строчки. И хорошо, что маме не пришлось больше никому суфлировать, поскольку вскоре после начала мы оба заметили в первом ряду зрительного зала мисс Фрост. (То, что бабушка Виктория обнаружила себя сидящей в одном ряду с мисс Фрост, вероятно, тоже отразилось на ее контуженном виде; вдобавок к тому, что ее муж изображал на сцене сварливую жену и мать, бабушке Виктории пришлось сидеть через какие-то пару кресел от борца-транссексуала!)
Заметив в зале мисс Фрост, моя мать невольно просуфлировала: «Да чтоб тебе всю жизнь в кошачий лоток срать!». Разумеется, мисс Фрост выбрала место в переднем ряду не случайно. Она знала, где обычно находится суфлер; она знала, что я всегда сижу рядом с суфлером. Если мы ее видели, значит, и мисс Фрост могла видеть нас. И в самом деле, на протяжении всей пьесы мисс Фрост не обращала внимания на актеров на сцене; она продолжала улыбаться мне, пока мама постепенно приобретала тот же контуженный вид, что и бабушка Виктория.
Как только на сцене появлялась Мюриэл-Альма, мисс Фрост доставала из сумочки пудреницу. Пока Альма изображала подавленность, мисс Фрост разглядывала в маленьком зеркальце свою помаду или слегка припудривала нос и лоб.
Перед занавесом, скрывшись за кулисами с криком «Такси!» – и оставив Мюриэл искать жест, который (без слов) подразумевал бы одновременно «изумление и неотвратимость» – я столкнулся с мамой. Она знала, где я спускаюсь со сцены, и успела перехватить меня.
– Билли, ты не будешь говорить с этим существом, – сказала мама.
Я предвидел это столкновение; я много раз репетировал, что скажу матери, но не ожидал, что она даст мне такую идеальную возможность для атаки. Ричард Эбботт, игравший Джона, должно быть, отлучился в уборную; его не было рядом, чтобы помочь ей. Мюриэл оставалось еще несколько секунд на сцене – после которых начнутся громкие, все заглушающие аплодисменты.
– Я буду говорить с ней, мама, – начал я, но дедушка Гарри перебил меня. Парик миссис Уайнмиллер съехал набок, а ее огромные фальшивые груди сбились в кучу, но теперь она не требовала мороженого. Она больше не была ничьим крестом – не в этой сцене, – и дедушка Гарри не нуждался в суфлере.
– Хватит, Мэри, – сказал дедушка Гарри моей матери. – Забудь уже о Фрэнни. Хоть раз в жизни перестань себя жалеть. На тебе наконец-то женился хороший человек, господи ты боже мой! С чего тебе так злиться?
– Я разговариваю со своим сыном, папуля, – начала мама, но как-то неуверенно.
– Ну так и обращайся с ним как со своим сыном, – сказал дед. – Уважай Билла таким, какой он есть, Мэри. Что ты, гены ему собираешься поменять?
– Это существо, – снова повторила мама, подразумевая мисс Фрост, но в этот момент со сцены спустилась Мюриэл. В зале раздались громовые аплодисменты; массивная грудь Мюриэл вздымалась. Кто знает, что так подействовало на нее – изумление или неотвратимость?
– Это существо здесь – в зале! – крикнула ей моя мать.
– Я в курсе, Мэри. Думаешь, я его не видела? – сказала Мюриэл.
– Ее, – поправил я тетю.
– Ее! — презрительно произнесла она.
– Не смей называть ее существом, – сказал я маме.
– Мэри, она изо всех сил старалась присматривать за Биллом, – сказал дедушка (миссис Уайнмиллер). – Она правда заботилась о нем.
– Дамы, дамы, – повторял Нильс Боркман. Он пытался подтолкнуть тетю Мюриэл и дедушку Гарри к выходу на финальный поклон. Нильс был тираном, но он позволил мне пропустить поклон, и я это оценил; Нильс знал, что мне предстоит более важная роль здесь, за кулисами.
– Пожалуйста, Билли, не говори с этой… женщиной, – умоляла моя мама. Ричард присоединился к нам, готовый выйти на поклон, и мама бросилась к нему в объятия. – Ты видел, кто здесь? Она пришла сюда! Билли хочет с ней поговорить! Я этого не вынесу!
– Дай Биллу поговорить с ней, Золотко, – сказал Ричард, прежде чем выбежать на сцену.
Аплодисменты продолжали нарастать, когда мисс Фрост возникла за кулисами, буквально через несколько мгновений после того, как вышел Ричард.
– Киттредж проиграл, – сказал я мисс Фрост. Я месяцами представлял себе, как заговорю с ней; и вот все, что я смог произнести.
– Дважды, – сказала мисс Фрост. – Херм рассказал мне.
– Я думала, вы уехали в Нью-Хэмпшир, – сказала моя мама. – Вам нельзя здесь находиться.
– Мне вообще не следовало бы здесь находиться, Мэри, не надо было тут и рождаться, – ответила ей мисс Фрост.
Ричард и остальные актеры спустились со сцены.
– Пойдем, Золотко – надо оставить их наедине, – сказал Ричард Эбботт моей матери. Но нам с мисс Фрост не суждено было больше остаться «наедине» – это было понятно всем.
Ко всеобщему удивлению, мисс Фрост обратилась к Мюриэл.
– Хорошая работа, – сказала мисс Фрост моей высокомерной тете. – А Боб здесь? Мне надо бы словечком перемолвиться с Ракеткой.
– Я тут, Ал, – смущенно сказал дядя Боб.
– У тебя есть ключи от всего, Боб, – сказала ему мисс Фрост. – Я хочу кое-что показать Уильяму, прежде чем уеду из Ферст-Систер, – сказала она; в ее голосе не было театральности. – Кое-что в зале для борьбы. Я могла бы попросить Херма впустить нас, но я не хотела его впутывать.
– В зале для борьбы! – воскликнула Мюриэл.
– Вы с Билли пойдете в зал для борьбы, – медленно сказал дядя Боб, как будто силился себе это представить.
– Ты можешь пойти с нами, Боб, – сказала мисс Фрост, но смотрела она при этом на мою маму. – Вы с Мюриэл тоже можете пойти, Мэри – если считаете, что нам с Уильямом одного сопровождающего недостаточно.
Я думал, вся моя чертова семейка помрет на месте – от одного слова сопровождающий, – но тут снова вмешался дедушка Гарри:
– Просто дай ключи мне, Боб, – я буду сопровождающим.
– Ты? – вскричала бабушка Виктория. (Никто не заметил, как она появилась за кулисами.) – Да ты посмотри на себя, Гарольд! Ты же сексуальный клоун! Ты не в состоянии кого-либо сопровождать!
– Э-э, ну… – начал дедушка Гарри, но продолжить не смог. Он почесывал под одной из фальшивых грудей и одновременно обмахивал лысую голову париком. За кулисами было жарко.
Вот так все и вышло – в тот последний раз, когда я увиделся с мисс Фрост. Боб отправился в свой кабинет за ключами от зала; ему придется пойти с нами, объяснил мой дядя, потому что только он и Херм Хойт знают, где включается свет в новом зале. (Нужно было пройти через новый зал и перейти в старый по бетонному коридору; иначе попасть в зал для борьбы было невозможно.)
– В мое время нового спортзала еще не было, Уильям, – сообщила мисс Фрост, пока мы брели по темному кампусу Фейворит-Ривер вместе с дядей Бобом и дедушкой Гарри – увы, уже не с миссис Уайнмиллер, Гарри снова облачился в свою одежду лесоруба. Нильс Боркман тоже решил присоединиться к нам.
– Мне любознательно, что там за дела с борьбой! – нетерпеливо сказал норвежец.
– Любопытно, – поправил дедушка Гарри.
– Ты выходишь в большой мир, Уильям, – спокойно сказала мисс Фрост. – А вокруг множество недоумков-гомоненавистников.
– Гомонедоумков? – переспросил ее Нильс.
– Недоумков-гомоненавистников, – поправил старого друга дедушка Гарри.
– Я никого еще не пускал в спортзал ночью, – сказал нам дядя Боб ни к селу ни к городу. В темноте кто-то догнал нас. Это оказался Ричард Эбботт.
– Все больше народу интересуется, что там за дела с борьбой, Билл, – сказал дедушка Гарри.
– Я не планировала проводить краткий курс борьбы, Уильям, – пожалуйста, постарайся быть внимательным. У нас мало времени, – прибавила мисс Фрост – как раз в этот момент дядя Боб отыскал выключатель, и я увидел, что она улыбается мне. В этом была вся наша история – у нас всегда было мало времени.
Несмотря на присутствие зрителей в лице дяди Боба, дедушки Гарри, Ричарда Эбботта и Нильса Боркмана, особенного зрелища не получилось. Не все лампы в старом зале горели, и после конца сезона шестьдесят первого года никто не озаботился почистить маты; они были покрыты песком и пылью, а на полу возле скамеек валялось несколько грязных полотенец. Боб, Гарри, Ричард и Нильс устроились на скамье домашней команды; мисс Фрост велела им сесть там, и мужчины повиновались. (Каждый из них по-своему и по собственным причинам был без ума от мисс Фрост.)
– Сними ботинки, Уильям, – велела мисс Фрост; я заметил, что она уже разулась. Ногти у нее на ногах были покрыты бирюзовым лаком – или, может, этот зеленовато-синий цвет называется аквамариновым.
В эту теплую июньскую ночь мисс Фрост была в белом топике и брюках-капри; брюки, такого же сине-зеленого цвета, как лак на ее ногтях, были немного тесноваты для борьбы. На мне были мешковатые бермуды и футболка.
– Привет, – неожиданно послышался голос Элейн. Я не заметил ее в театре. Она последовала за нами в спортзал – без сомнения, специально немного задержавшись, – и теперь смотрела на нас, сидя на краю беговой дорожки.
– Опять борьба, – только и сказал я Элейн, но я был рад, что моя дорогая подруга тоже здесь.
– Когда-нибудь к тебе начнут цепляться, Уильям, – сказала мисс Фрост. Она взяла мою шею в захват, который Делакорт назвал «воротником». – Рано или поздно тебя начнут задирать.
– Наверное, – сказал я.
– Чем больше и агрессивнее твой соперник, тем сильнее тебе нужно к нему прижаться – тем ближе надо стоять, – сказала мне мисс Фрост. Я ощущал ее запах; я чувствовал ее дыхание на своем лице. – Нужно, чтобы он оперся на тебя – прижался щекой к щеке, вот так. Тогда ты вдавливаешь ему в горло его же руку. Вот так, – сказала она; внутренняя сторона моего собственного локтя перекрыла мне дыхание. – Нужно, чтобы он оттолкнул тебя – нужно заставить его поднять эту руку, – сказала мисс Фрост.
Когда я попытался оттолкнуть ее – когда я поднял руку, чтобы убрать локоть от горла, – мисс Фрост проскользнула у меня под мышкой. В следующую секунду она оказалась сбоку и позади меня. Ее рука легла сзади мне на шею, наклоняя мою голову вниз; всем своим весом она обрушила меня на теплый мягкий мат. Я почувствовал, как что-то сместилось у меня в шее. Я приземлился под неудобным углом; падение сильно отдалось в плече и где-то в области ключицы.
– Представь, что это тротуар или просто старый добрый деревянный пол, – сказала она. – Было бы не очень-то приятно, правда?
– Да, – согласился я. Я видел звездочки перед глазами – впервые в жизни.
– Еще раз, – сказала мисс Фрост. – Давай я несколько раз покажу тебе, Уильям, а потом попробуешь сам.
– Ладно, – сказал я. И мы повторили еще несколько раз.
– Это называется нырок со сбросом, – объяснила мисс Фрост. – Его можно выполнить с кем угодно – нужно только, чтобы он отталкивал тебя. С любым человеком, который ведет себя агрессивно.
– Понял, – сказал я.
– Нет, Уильям, – ты только начинаешь понимать, – сказала мне мисс Фрост.
Мы провели в зале больше часа, отрабатывая нырок со сбросом.
– Легче проделать это, если противник выше тебя, – объясняла мисс Фрост. – Чем он выше и чем сильнее напирает на тебя, тем крепче он ударится головой о мат – или о дорожку, пол, землю. Понимаешь?
– Начинаю понимать, – сказал я.
Я запомнил, как соприкасались наши тела, пока мы тренировали нырок со сбросом; как и со многими другими вещами, когда начинаешь проводить прием правильно, постепенно входишь в ритм. Мы изрядно вспотели, и мисс Фрост сказала:
– Сделаешь правильно еще десять раз подряд – и можешь идти домой, Уильям.
– Я не хочу идти домой – я хочу продолжать, – прошептал я ей.
– Ни за что на свете не отказалась бы от знакомства с тобой, Уильям! – прошептала она в ответ.
– Я вас люблю! – сказал я ей.
– Не сейчас, Уильям, – ответила мисс Фрост. – Если не можешь прижать его локоть к горлу, прижми ко рту, – сказала она мне.
– Ко рту, – повторил я.
– Не поубивайте там друг друга! – кричал дедушка Гарри.
– Что тут происходит? – услышал я голос тренера Хойта. Херм заметил горящий свет; зал для борьбы был его святилищем.
– Ал показывает Билли нырок со сбросом, Херм, – сказал старому тренеру дядя Боб.
– Я сам показал его Алу, – сказал Херм. – Думаю, Ал знает, как он делается.
Тренер Хойт уселся на скамью домашней команды – как можно ближе к судейскому столу.
– Я никогда вас не забуду, – прошептал я мисс Фрост.
– Думаю, пора заканчивать, Уильям – если ты не можешь сосредоточиться на приеме, – сказала она.
– Хорошо, я сосредоточусь – еще десять нырков! – сказал я ей; она только улыбнулась и взъерошила мои пропотевшие волосы. Кажется, она не ерошила мне волосы с тех пор, как мне было тринадцать или пятнадцать – в общем, уже давно.
– Нет, Уильям, хватит – теперь у тебя есть Херм. Тренер Хойт может меня заменить, – сказала мисс Фрост. Я вдруг увидел, что она устала – раньше я никогда не замечал, чтобы она выглядела уставшей.
– Обними меня, но не целуй, Уильям, – давай просто сыграем по правилам, и пусть все будут довольны, – сказала мне мисс Фрост.
Я обнял ее изо всех сил, но она едва ответила на мое объятие – и вполовину не так крепко, как могла бы.
– Счастливого пути, Ал, – сказал дядя Боб.
– Спасибо, Боб, – ответила ему мисс Фрост.
– Мне пора домой, пока Мюриэл не отправила на мои поиски полицию и пожарных, – сказал дядя Боб.
– Я закрою зал, Боб, – сказал ему тренер Хойт. – Мы с Билли прогоним еще несколько нырков.
– Еще несколько, – повторил я.
– Пока я не увижу, что ты понял, – сказал мне тренер Хойт. – Почему бы вас всем не пойти по домам? И тебе, Ричард, и тебе тоже, Гарри, – сказал Херм; вероятно, тренер не был знаком с Нильсом Боркманом, а об Элейн Хедли если и слышал, то только как о невезучей преподавательской дочке, залетевшей от Киттреджа.
– Увидимся, Ричард, – я тебя люблю, Элейн! – крикнул я им вслед.
– А я люблю тебя, Билли! – крикнула в ответ Элейн.
– Увидимся дома – я оставлю свет включенным, – ответил мне Ричард.
– Береги себя, Ал, – сказал дедушка Гарри мисс Фрост.
– Я буду по тебе скучать, Гарри, – сказала ему мисс Фрост.
– И я по тебе тоже! – ответил дед.
Я понял, что не должен смотреть, как мисс Фрост уходит, и отвернулся. Иногда ты просто знаешь, что никогда больше не увидишь человека.
– Так вот, Билли, вся штука в том, чтобы заставить противника сделать все самому – в этом весь фокус, – говорил тем временем тренер Хойт. Когда я попробовал взять его в уже знакомый захват-воротник, мне показалось, что я пытаюсь обнять ствол дерева – у тренера была такая толстая шея, что обхватить ее было не так-то просто.
– Локоть противника можно прижимать куда угодно, лишь бы ему было неудобно, – объяснял Херм. – К горлу, ко рту – да хоть к носу, если сможешь. Нужно сунуть ему локоть в лицо, просто чтобы вынудить его отреагировать. Нужно, чтобы он оттолкнул тебя чересчур сильно, Билли – вот и все.








