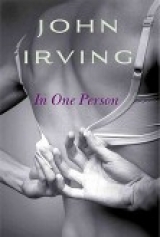
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц)
(Если мисс Фрост считала, что Оливер чересчур плаксив, интересно, что же она думала обо мне.) Увы, я уже не помню, какое предложение из «Оливера Твиста» я решил заучить.
После «Дэвида Копперфильда» мисс Фрост позволила мне отведать Томаса Харди. Кажется, мне было тогда почти пятнадцать? (Думаю, да; так получилось, что Ричард Эбботт проходил тот же роман Харди с учениками Фейворит-Ривер, только они были уже старшеклассниками, а я тогда был всего лишь в восьмом классе, в этом я точно уверен.)
Помню, как я недоверчиво посмотрел на заглавие – «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» – и с явным разочарованием спросил мисс Фрост:
– Это что, про девчонку?
– Да, Уильям, – про очень невезучую девчонку, – быстро ответила мисс Фрост. – Но что важнее для тебя как для молодого человека, это книга о мужчинах, которых она встречает. Не дай бог тебе, Уильям, стать одним из мужчин, с которыми встретилась Тэсс.
– А-а, – сказал я. Вскоре я узнал, что она имела в виду, говоря о мужчинах, с которыми встретилась Тэсс; и действительно, я не хотел бы сделаться одним из них.
Об Энджеле Клэре мисс Фрост сказала только: «Ну и лапша». И когда я непонимающе взглянул на нее, пояснила:
– Представь себе переваренные макароны, Уильям, – представь мягкотелость, представь безволие.
– А-а.
Я мчался домой из школы – читать; я мчался и по страницам книг, не в силах послушаться мисс Фрост и притормозить. Я мчался в публичную библиотеку Ферст-Систер после каждого ужина. Я взял за образец детство Ричарда Эбботта – и поселился в библиотеке, особенно на выходных. Мисс Фрост вечно заставляла меня пересесть на тот диван или стул, где освещение было поярче.
– Уильям, не испорти себе глаза. Они тебе еще пригодятся в дальнейшем, если ты собираешься быть читателем.
Неожиданно оказалось, что мне уже пятнадцать. Настало время «Больших надежд» – впервые в жизни мне захотелось перечитать книгу – и у нас с мисс Фрост вышел тот неудобный разговор о моем желании стать писателем. (Это было не единственное мое желание, как вам уже известно, но второе желание я не стал обсуждать с мисс Фрост – по крайней мере тогда.)
Так же неожиданно пришло время поступать в академию Фейворит-Ривер. Именно мисс Фрост, всячески способствовавшая моему общему образованию, открыла мне, какой удачей для меня стала свадьба мамы с Ричардом Эбботтом. Поскольку они поженились летом 1957-го – а точнее, поскольку Ричард Эбботт официально усыновил меня, – я превратился из Уильяма Фрэнсиса Дина-младшего в Уильяма Маршалла Эбботта. Так что я начал свое обучение в старших классах под новым именем – и это имя мне нравилось!
Ричарду, как преподавателю, выделили квартиру в одном из общежитий интерната, где они с мамой и поселились, и у меня там была своя спальня. Общежитие было недалеко от Ривер-Стрит, где стоял дом бабушки с дедушкой, и я часто навещал их. Пусть бабушку я недолюбливал, зато обожал деда; конечно, я продолжал видеть дедушку на сцене, в образе женщины, но после начала учебы в академии я уже не мог присутствовать на всех репетициях «Актеров Ферст-Систер».
Домашних заданий приходилось делать намного больше, чем в начальной и средней школе, а вдобавок Ричард Эбботт стал руководителем так называемого Клуба драмы. Постепенно Ричард со своими грандиозными шекспировскими планами переманил меня в Клуб драмы, и пьесы из репертуара «Актеров Ферст-Систер» я смотрел уже только на премьере. Театр в академии, где проходили представления Клуба драмы, был больше и современнее, чем маленький допотопный городской театр. (Слово допотопный было для меня в новинку. За время учебы в Фейворит-Ривер я сделался немножко снобом, по крайней мере, так в один прекрасный день мне сообщила мисс Фрост.)
И как моя неуместная влюбленность в Ричарда Эбботта оказалась «вытеснена» (как я уже говорил) пылкой страстью к мисс Фрост, так и место двух одаренных любителей (дедушки Гарри и тети Мюриэл) в моем сердце заняли двое несравнимо более талантливых актеров. Ричард Эбботт и мисс Фрост вскоре стали звездами театра Ферст-Систер. Дуэтом невротической Гедды и мерзкого асессора Бракка дело не ограничилось; осенью 1956-го мисс Фрост сыграла Нору в «Кукольном доме». Ричарду, как он и догадывался, досталась роль скучного невнимательного мужа, Торвальда Хельмера. Непривычно подавленная тетя Мюриэл не разговаривала с родным отцом почти месяц из-за того, что дедушка Гарри (а не Мюриэл) получил роль фру Линде. Ричарду Эбботту и мисс Фрост удалось уговорить Нильса Боркмана сыграть несчастного Крогстада, что угрюмый норвежец и исполнил, жутковатым образом соединив в своем персонаже добродетельность и обреченность.
Но важнее, чем надругательство нашего разношерстного любительского сборища над Ибсеном, оказалось прибытие в академию новых преподавателей – семейной пары по фамилии Хедли. С ними приехала и единственная дочь, нескладный подросток по имени Элейн. Мистер Хедли был учителем истории. Миссис Хедли, игравшая на фортепьяно, давала уроки вокала; она заведовала несколькими школьными ансамблями и дирижировала хором академии. Чета Хедли подружилась с мамой и Ричардом, так что и нам с Элейн приходилось встречаться довольно часто. Я был старше на год и считал себя намного взрослее Элейн, грудь которой явно запаздывала в развитии. (Я решил, что у Элейн вообще не предвидится какой-либо груди, поскольку уже заметил, что мисс Хедли фактически плоскогруда – даже когда поет.)
Элейн страдала сильной дальнозоркостью; тогда от нее не было иного средства, кроме толстенных очков, из-за которых глаза казались такими большими, словно вот-вот выскочат из глазниц. Но мать научила ее пению, и у Элейн был звучный отчетливый голос. Даже обычная ее речь звучала так, как будто она пела, – и было слышно каждое слово.
– Элейн умеет звучать, – так говорила миссис Хедли. Звали ее Марта; хорошенькой она не была, но зато была очень милой, и именно она первой заметила, что я затрудняюсь произносить определенные слова. Она сказала маме, что я могу попробовать кое-какие вокальные упражнения, и пение тоже может принести пользу, но той осенью пятьдесят шестого я еще учился в средней школе, и чтение без остатка поглотило меня. «Вокальные упражнения» и пение меня совершенно не интересовали.
Все эти перемены обрушились на меня разом, и жизнь внезапно понеслась, набирая обороты: осенью пятьдесят седьмого я уже стал учеником академии Фейворит-Ривер; я все еще перечитывал «Большие надежды» и (как вы уже знаете) обмолвился мисс Фрост, что хочу стать писателем. Мне было пятнадцать, а Элейн Хедли была дальнозоркой, плоскогрудой, громкоголосой четырнадцатилетней девчонкой.
Однажды сентябрьским вечером в дверь постучали, но было время занятий, и никто из учеников к нам зайти не мог, если только ему не стало плохо. Я открыл дверь, ожидая увидеть в коридоре смущенного ученика, но передо мной стоял Нильс Боркман, наш обезумевший режиссер; он выглядел так, будто только что увидел призрак – возможно, какого-нибудь прежнего знакомого, прыгнувшего во фьорд.
– Я видел ее! Я слышал ее голос! Из нее выйдет великолепная Хедвиг! – вскричал Нильс Боркман.
Бедная Элейн Хедли! Так уж сложилось, что она была подслеповата и вдобавок плоскогруда, зато обладала пронзительным голосом. (У Хедвиг в «Дикой утке» тоже не все в порядке со зрением, и это важно для сюжета.) Элейн, это бесполое, но кристально чистое дитя, будет выбрана на роль многострадальной Хедвиг, и Боркман снова обрушит (ужасающую) «Дикую утку» на ошеломленных жителей Ферст-Систер. Еще не оправившись от своего неожиданного успеха в образе Крогстада, Нильс взял себе роль Грегерса.
«Моралист несчастный» – так охарактеризовал Грегерса Ричард Эбботт.
Боркман был тверд в своем намерении воплотить в Грегерсе идеалиста и в результате непреднамеренно довел до совершенства шутовскую грань своего персонажа.
Никто, и менее всех суицидальный норвежец, не мог объяснить четырнадцатилетней Элейн Хедли, действительно ли Хедвиг намеревается застрелить дикую и утку и случайно попадает в себя, или же – как говорит доктор Реллинг – Хедвиг убивает себя намеренно. Тем не менее из Элейн вышла отличная Хедвиг – по крайней мере, громкая и отчетливая.
Одновременно грустной и смешной получилась фраза доктора о пуле, попавшей в сердце Хедвиг: «Пуля попала в грудь». (У бедняжки Элейн никакой груди не было и в помине.)
– Дикая утка! – вскрикивает четырнадцатилетняя Хедвиг, заставляя зрителей вздрогнуть.
Это происходит как раз перед уходом Хедвиг со сцены. Ремарка гласит: «Прокрадывается к полкам, достает пистолет». Что ж, у нас выходило не совсем так. Элейн Хедли хватала пистолет и, потрясая им, громко топала за кулисы.
Больше всего Элейн переживала, что в пьесе нет ни слова о дальнейшей судьбе дикой утки.
– Бедняжка! – сокрушалась Элейн. – Она ранена! Она пыталась утопиться, но эта ужасная собака вытащила ее со дна моря. И утку держат на чердаке! Как может дикая утка жить на чердаке? А после того, как Хедвиг кончает с собой, кто поручится, что ненормальный старикан-военный – или даже Ялмар, этот зануда, который так себя жалеет, – просто не пристрелит ее? Просто ужас, как обращаются с этой уткой!
Конечно, я знаю, что не сочувствия к утке Генрик Ибсен столь ревностно добивался, и не его старался вызвать Нильс Боркман у простодушных зрителей Ферст-Систер, но Элейн Хедли будет всю жизнь нести отпечаток своей слишком юной, слишком невинной героини в той бессмысленной мелодраме, которую Боркман сделал из «Дикой утки».
До сего дня мне не приходилось видеть профессиональной постановки этой пьесы; ее правильное, насколько это вообще возможно, исполнение может оказаться невыносимым для зрителя. Но Элейн Хедли станет моим хорошим другом, и я не предам Элейн, оспаривая ее интерпретацию пьесы. Гина (мисс Фрост) заслуживала сострадания намного больше, чем другие персонажи, но именно дикая утка – нам даже ни разу не показывают эту дурацкую птицу! – завоевала львиную долю сочувствия Элейн. Оставшийся без ответа или вовсе не имеющий ответа вопрос – «А что будет с уткой?» – нашел во мне отклик. Он станет одним из наших с Элейн приветствий при встрече. У всех детей есть свой тайный язык.
Дедушка Гарри вовсе не стремился получить роль в «Дикой утке»; он даже симулировал бы ларингит, только бы не участвовать в этой постановке. Кроме того, дедушка Гарри уже немного устал подчиняться режиссерским указаниям своего старого делового партнера Нильса Боркмана.
Ричард Эбботт тем временем развил в нашей добропорядочной академии бурную деятельность: он не просто преподавал Шекспира безотрадно однополым ученикам Фейворит-Ривер – Ричард ставил его на сцене и на женские роли брал настоящих девушек и женщин. (Или специалиста по перевоплощению в женщин, то есть Гарри Маршалла, который, по крайней мере, мог научить старшеклассников изображать девушек и женщин.) Ричард Эбботт не только женился на моей брошенной матери и вызвал во мне влюбленность; вдобавок он нашел родственную душу в дедушке Гарри, который (особенно в женском образе) явно предпочитал видеть режиссером Ричарда, а не меланхоличного норвежца.
В те первые два года, когда Ричард Эбботт выступал с «Актерами Ферст-Систер» – а также преподавал и ставил Шекспира в академии Фейворит-Ривер, – был один случай, когда дедушка Гарри поддался знакомому искушению. В бесконечном списке пьес Агаты Кристи, ожидавших своей очереди, были и пьесы с участием Эркюля Пуаро, толстого бельгийца, известного мастера выводить убийц на чистую воду. И тетя Мюриэл, и дедушка Гарри множество раз играли мисс Марпл, но в Ферст-Систер был, как сказала бы тетя Мюриэл, дефицит толстых бельгийцев, подходящих на роль Пуаро.
Ричард Эбботт не играл толстяков и вообще отказывался участвовать в постановках Агаты Кристи. У нас просто не было Эркюля Пуаро, и Боркман, вспоминая об этом, мрачнел и начинал оглядываться в поисках ближайшего фьорда.
– Нильс, тут напрашивается одна идея, – в один прекрасный день сказал озабоченному норвежцу дедушка Гарри. – Зачем нам непременно Эркюль Пуаро? Может, согласишься на Эрмион?
Вот так и случилось, что любительский театр Ферст-Систер поставил «Черный кофе» с дедушкой Гарри в роли холеной, проворной (и почти по-балетному изящной) бельгийки Эрмион Пуаро. Из сейфа похищена формула взрывчатки; персонаж по имени сэр Клод отравлен, ну и так далее. Пьеса была не менее заурядной, чем прочие пьесы Агаты Кристи, но дед в роли Эрмион сорвал овацию.
– Агата Кристи в гробу переворачивается, отец, – неодобрительно сказала тетя Мюриэл.
– Осмелюсь заметить, еще как переворачивается, Гарольд! – встряла и бабушка.
– Агата Кристи еще не умерла, Вики, – сообщил дед бабушке Виктории, подмигнув мне. – Агата Кристи, Мюриэл, еще живее всех живых.
Как я обожал его – особенно как ее!
Однако за те два года, что Ричард Эбботт оставался новичком в нашем городе, он так и не смог убедить мисс Фрост принять участие хотя бы в одной пьесе Шекспира, поставленной в Клубе драмы академии Фейворит-Ривер.
– Едва ли, Ричард, – отвечала ему мисс Фрост. – Я вовсе не уверена, что мальчикам будет полезно, если я, скажем так, выйду к рампе – я хочу сказать, это же мальчишки, они еще юны и очень впечатлительны.
– Мисс Фрост, но ведь Шекспир может быть и веселым, – не соглашался Ричард. – Мы можем поставить пьесу просто удовольствия ради.
– Едва ли, Ричард, – повторила она и, похоже, больше об этом говорить не желала. Мисс Фрост не играла Шекспира – или не хотела его играть для этих «впечатлительных» мальчишек. Я не знал, что и думать об ее отказе; ее игра всегда волновала меня – хотя я и не нуждался в дополнительных поводах, чтобы любить и желать ее.
Но, начав учебу в Фейворит-Ривер, я очутился среди множества парней постарше; большинство не были особенно дружелюбными, а некоторые из них приводили меня в смятение. Я издали восхищался поразительно красивым парнем из борцовской команды академии; и не только из-за его великолепного тела. (Издали – потому что поначалу делал все возможное, чтобы держаться от него подальше.) Вот вам и влюбленность в неподходящего человека! Старшеклассники через слово (и это не было плодом моего воображения!) вставляли «гомик», «педик» и «голубой»; эти унизительные слова казались мне худшим, что можно сказать о другом парне.
Были ли мои влюбленности в неподходящих людей частью генетического набора, который я унаследовал от своего отца-связиста? Забавно, но в этом я сомневался; я считал, что именно эти влюбленности – полностью моя вина: разве не был сержант отъявленным женолюбцем? Разве не так назвала его моя задиристая кузина Джерри? Она, скорее всего, услышала что-то подобное от дяди Боба или тети Мюриэл. (Разве женолюбец не было словом, характерным для тети Мюриэл?)
Наверное, нужно было поговорить обо всем этом с Ричардом Эбботтом, но я этого не сделал; я не осмелился заикнуться об этом и мисс Фрост. Я помалкивал о своих несчастных влюбленностях – как обычно и поступают дети.
Я начал сторониться городской библиотеки Ферст-Систер. Должно быть, мне казалось, что мисс Фрост достаточно умна, чтобы почувствовать, что я ей неверен – пусть даже только в воображении. На самом деле первые два года учебы в Фейворит-Ривер практически полностью прошли в фантазиях, и в моей жизни появилась новая библиотека – более современная и ярко освещенная библиотека академии. Я делал там домашние задания и предпринимал первые робкие попытки писать.
Был ли я единственным мальчиком в мужском интернате, который обнаружил, что борцовские поединки несут гомоэротический заряд? В этом я сомневаюсь, но такие, как я, обычно не высовываются.
От неподобающих влюбленностей то в одного, то в другого соученика я перешел к мастурбации при сомнительной поддержке одного из маминых каталогов одежды. Мое внимание привлекали фотографии лифчиков и корсетов. Моделями для демонстрации корсетов служили в основном взрослые женщины. С ними я начал выполнять первые творческие упражнения – по крайней мере, вырезать и приклеивать у меня получалось неплохо. Я отрезал головы у женщин постарше и приклеивал их к телам молоденьких девушек-моделей в тренировочных лифчиках; так передо мной возникала мисс Фрост, пускай (как и многие другие вещи) всего лишь в моем воображении.
Девочки моего возраста, как правило, меня не интересовали. Зато у меня возникло странное влечение к некрасивой и плоскогрудой миссис Хедли – наверное, из-за того, что мы часто виделись и она искренне интересовалась мной (или, по крайней мере, моим растущим списком непроизносимых слов).
– Билли, какие слова тебе сложнее всего выговаривать? – спросила она меня однажды, когда они с мистером Хедли (и с громогласной Элейн) ужинали вместе с нами.
– У него проблемы со словом «библиотека», – объявила Элейн, как всегда, четко и громко. (Мой интерес к Элейн в сексуальном плане равнялся нулю, но в остальном она нравилась мне все больше. Она никогда не издевалась над моими речевыми ошибками; видимо, она так же искренне хотела помочь мне говорить правильно, как и ее мать.)
– Я спрашивала Билли, Элейн, – сказала миссис Хедли.
– Думаю, Элейн не хуже меня знает, с какими словами мне труднее всего, – сказал я.
– Билли все время говорит «зловещный», – продолжила Элейн.
– А еще я говорю «пениф», – отважился я.
– Понятно, – сказала Марта Хедли.
– Только не проси его сказать это во множественном числе, – сказала Элейн матери.
Если бы в то время академия Фейворит-Ривер принимала девочек, возможно, мы с Элейн Хедли подружились бы быстрее, но мне не довелось учиться вместе с Элейн. Мы так часто виделись только потому, что супруги Хедли много общались с мамой и Ричардом – они крепко сдружились.
Итак, время от времени я представлял в тренировочном лифчике невзрачную и плоскогрудую Марту Хедли – и думал о ее маленькой груди, рассматривая юных моделей в маминых каталогах одежды.
В библиотеке, где я учился писать – а точнее, мечтал о том, чтобы стать писателем, – мне особенно нравилась комната, где хранилось огромное собрание ежегодников академии. Остальных учеников эта комната, по-видимому, не интересовала; иногда туда заглядывали преподаватели – почитать или проверить домашние задания.
Академии Фейворит-Ривер было немало лет; она была основана еще в XIX веке. Мне нравилось листать старые ежегодники. (Вероятно, секреты можно найти в любом прошлом; я знал, что в моем они уж точно есть.) Если продолжать в таком духе, – думал я, – может быть, у меня получится дойти до собственного выпуска – но не раньше весны последнего года обучения. Осенью своего третьего года в академии я все еще просматривал ежегодники 1914-го и 1915 годов. Шла Первая мировая; должно быть, этим мальчишкам было страшно. Я вглядывался в лица выпускников, читал об их планах поступления в колледжи и мечтах о карьере; многие еще «не определились» ни с тем, ни с другим. Почти у всех старшеклассников были прозвища, даже в те годы.
Я очень внимательно разглядывал фотографии борцовской сборной и несколько менее внимательно – Клуба драмы; на фотографиях Клуба было множество мальчиков, одетых и загримированных под девочек. Похоже, борцовская команда и Клуб драмы существовали в Фейворит-Ривер с момента основания. (Не забудьте, я просматривал ежегодники 1914–1915 годов осенью 1959 года; интернат продолжал активно поддерживать эти прославленные традиции на протяжении пятидесятых и позднее, в шестидесятых.)
Вероятно, эта читальня, куда лишь изредка заглядывал случайный преподаватель, нравилась мне потому, что там никогда не было других учеников – а значит, ни хулиганов, ни лишних влюбленностей. Мне повезло, что я жил вместе с мамой и Ричардом и у меня была собственная комната. Все ученики, жившие в академии, делили комнаты с соседями. Не могу даже представить, какие оскорбления (или другие, менее прямые формы насилия) пришлось бы мне переносить от соседа по комнате. И что бы я тогда делал с мамиными каталогами? (Сама мысль о невозможности мастурбации была оскорбительна – да вы только представьте себе такое!)
Осенью 1959-го мне было семнадцать лет, и у меня не было никаких причин возвращаться в городскую библиотеку Ферст-Систер – точнее, ни одной причины, которую я осмелился бы высказать вслух. Я нашел убежище, где мог делать домашние задания; комната с ежегодниками в библиотеке академии отлично годилась для того, чтобы писать – или просто предаваться мечтам. Но, должно быть, я все равно тосковал по мисс Фрост. На сцене я тоже слишком редко ее видел, ведь теперь я пропускал репетиции театра Ферст-Систер и видел ее только на самих представлениях; а их можно было по пальцам сосчитать, как сказала бы моя бабушка.
Я мог бы поговорить с дедушкой Гарри; он понял бы меня. Я мог бы рассказать ему, как скучаю по мисс Фрост, о моей влюбленности в нее и в старших парней – даже о самой первой неуместной влюбленности в моего отчима, Ричарда Эбботта. Но я не стал обсуждать все это с дедушкой Гарри – тогда не стал.
Был ли Гарри Маршалл настоящим трансвеститом? Или же дедушка Гарри просто иногда переодевался в женскую одежду? Сказали бы сегодня, что дедушка был латентным геем и вел себя как женщина, когда это позволяли обстоятельства? Честно говоря, не знаю. Если уж мое поколение было затравленным, то поколению дедушки, был ли он гомосексуалом или нет, и подавно приходилось держаться тише воды, ниже травы.
Итак, мне казалось, что средства от тоски по мисс Фрост мне не найти – если только я не придумаю причину с ней увидеться. (Раз уж я, в конце концов, собирался стать писателем, то должен был без труда выдумать достоверный повод, чтобы снова зачастить в городскую библиотеку.) И вот я остановился на такой легенде: якобы я могу писать только в городской библиотеке, где мне не будут то и дело мешать друзья из академии. Может, мисс Фрост не в курсе, что друзей у меня немного, а те, что есть, такие же робкие, как я сам, и не осмелились бы кому-либо помешать.
Поскольку я сказал мисс Фрост, что хочу стать писателем, она, наверное, поверит в то, что я хочу сделать свои первые шаги именно в городской библиотеке Ферст-Систер. Я знал, что по вечерам там можно встретить разве что горстку пенсионеров; может, еще пару мрачных старшеклассниц, обреченных продолжать свое образование в Эзра-Фоллс. Некому будет мешать мне в пустынной городской библиотеке (и уж детей там точно не будет).
Я боялся, что мисс Фрост не узнает меня. Я уже начал бриться и воображал, что во мне что-то изменилось, – сам я казался себе ужасно взрослым. Я предполагал, что мисс Фрост знает о моей новой фамилии и что она, вероятно, видела меня хотя бы иногда за кулисами или в зрительном зале маленького театра Ферст-Систер. Она определенно знала, что я сын суфлерши – я был тем самым мальчиком.
Тем вечером, когда я объявился в городской библиотеке – не взять книгу и не посидеть за чтением, а заняться работой над собственной книгой, – мисс Фрост посмотрела на меня необыкновенно долгим взглядом. Я решил, что она не может меня вспомнить, и сердце мое разрывалось, но она помнила куда больше, чем я себе представлял.
– Подожди, не подсказывай – ты Уильям Эбботт, – неожиданно сказала мисс Фрост. – Видимо, ты хочешь прочесть «Большие надежды» в рекордный третий раз.
Я признался ей, что пришел не затем, чтобы читать. Я сказал мисс Фрост, что хочу спрятаться от друзей – чтобы писать.
– Ты пришел сюда, в библиотеку, чтобы писать, – повторила она. Я вспомнил, что у мисс Фрост есть привычка повторять сказанное собеседником. Бабушка Виктория как-то предположила, что мисс Фрост нравится повторять чужие слова, потому что так можно хоть немного растянуть беседу. (А тетя Мюриэл заявила, что никому не нравится разговаривать с мисс Фрост.)
– Да, – сказал я мисс Фрост. – Я хочу писать.
– Но почему здесь? Почему именно в этом месте? – требовательно спросила мисс Фрост.
Я не знал, что ей ответить. Потом слово (а за ним еще одно) просто всплыло у меня в голове, и я так переволновался, что выпалил первое слово и тут же добавил второе.
– Ностальгия, – сказал я. – Наверное, я ностальгирую.
– Ностальгия! – воскликнула мисс Фрост. – Ты ностальгируешь! – повторила она. – Уильям, сколько же тебе лет?
– Семнадцать, – ответил я.
– Семнадцать! – возопила мисс Фрост, словно ее ударили ножом. – Ну, Уильям Дин – прости, то есть Уильям Эбботт, – если ты в семнадцать лет ностальгируешь, может, из тебя и выйдет писатель!
Она была первой, кто сказал мне об этом, – какое-то время никто, кроме нее, не знал, кем я хочу стать, – и я ей поверил. Тогда мисс Фрост казалась мне самым искренним человеком из всех, кого я знал.
Глава 3. Маскарад
Борца с самым красивым телом звали Киттредж. Мощные пластины мышц до странности четко выделялись на его безволосой груди, и в результате он напоминал персонажа комиксов. Тонкая полоска темно-русых, почти черных волос спускалась вниз от пупка, а пенис (как меня ужасает это слово!) загибался к правому бедру или же каким-то странным образом изначально рос с уклоном вправо. Мне некого было спросить, о чем может говорить такой изгиб члена у Киттреджа. В раздевалке спортзала я обычно старался опускать глаза; мой взгляд почти никогда не поднимался выше его сильных волосатых ног.
У Киттреджа густо росла борода, но кожа при этом была идеально гладкой, и обычно он был чисто выбрит. Однако я считал, что наиболее сногсшибательно он выглядит с двух-трехдневной щетиной, из-за которой он казался старше большинства учеников и даже некоторых преподавателей – в том числе мистера Хедли и Ричарда Эбботта. Осенью Киттредж играл в футбол, а весной в лакросс, но лучше всего ему удавалось продемонстрировать свое прекрасное тело в борьбе, которая к тому же отвечала присущей ему жестокости.
Хотя я нечасто видел, чтобы он угрожал кому-то физически, его агрессивность пугала, а сарказм резал как бритва. В академии Киттреджа почитали как атлета, но мне больше запомнилось, как мастерски он умел оскорбить. Киттредж знал, как задеть за живое, и при этом обладал физической силой в подкрепление слов; никто не осмеливался бросить ему вызов. Если кто-либо недолюбливал Киттреджа, то держал свое мнение при себе. Я же одновременно презирал и обожал его. Увы, презрение нимало не ослабляло мою влюбленность в него; влечение к нему было бременем, которое я тащил на себе весь третий год учебы; Киттредж был в выпускном классе, и я думал, что мне остается терпеть эту агонию всего лишь до конца года. Я мечтал о том дне, уже недалеком, когда страсть к нему перестанет терзать меня.
Однако меня ждал удар, и бремя мое лишь стало тяжелее: Киттредж провалил иностранный язык; он остался в школе еще на один год. Нам предстояло параллельно учиться в выпускном классе. К тому времени Киттредж не просто выглядел старше прочих учеников Фейворит-Ривер – он и был старше.
В самом начале этих нескончаемых (для меня) лет нашего совместного заключения я недослышал имя Киттреджа. Мне показалось, что все зовут его Джок – как обычно насмешливо называют тупоголовых здоровяков-спортсменов. Разумеется, я решил, что это его прозвище – у всех, кто был так же крут, как Киттредж, были прозвища. Но выяснилось, что его имя – настоящее имя – Жак.
Оказалось, что все звали его Жаком. Вероятно, ослепленный восторгом, я вообразил, что мои соученики тоже без ума от его красоты – и потому инстинктивно офранцузили кличку Джок, ведь Киттредж был так хорош собой.
Он родился и вырос в Нью-Йорке, где его отец занимался чем-то связанным с международной банковской системой – или, может, международным правом. Мать Киттреджа была француженкой. Ее имя было Жаклин – женская форма имени Жак.
– Моя мать, хотя я не верю, что она мне мать, ужасно высокого мнения о себе, – то и дело повторял Киттредж – как будто сам не был таким же. Мне было любопытно, говорит ли о самомнении Жаклин Киттредж то, что она назвала сына – своего единственного ребенка – в честь себя.
Я видел ее всего однажды – на борцовских состязаниях – и пришел в восхищение от того, с каким вкусом она была одета. Она, несомненно, была красива, хотя, в моих глазах, и не так красива, как ее сын. Привлекательность миссис Киттредж была скорее мужественной – у нее были точеные черты лица и даже такая же выдающаяся челюсть, как у сына. Как мог Киттредж думать, что она не его мать? Они ведь были так похожи.
– Да это тот же Киттредж, только с грудью, – сказала мне Элейн Хедли, как всегда, громко и безапелляционно. – Как она может не быть его матерью? – спросила Элейн. – Разве что она его старшая сестра. Брось, Билли, – если бы они были одного возраста, она сошла бы за его близняшку!
Весь матч мы с Элейн таращились на мать Киттреджа; ее это, похоже, нисколько не беспокоило. Со своим крупным сложением, высокой грудью, идеально сидящей по фигуре одеждой миссис Киттредж, несомненно, привыкла к тому, что на нее смотрят.
– Интересно, удаляет ли она волосы на лице, – сказал я Элейн.
– Зачем бы? – спросила Элейн.
– Легко могу представить ее с усами, – ответил я.
– Ага, но с безволосой грудью, как у него, – ответила Элейн. Вероятно, миссис Киттредж притягивала наши взгляды отчасти потому, что мы видели в ней копию Киттреджа, но она будоражила воображение и сама по себе, и это меня беспокоило. Она была первой женщиной, заставившей меня ощутить, что я слишком молод и неопытен, чтобы понять ее. Помню, как подумал, что, должно быть, страшновато иметь такую мать – даже Киттреджу.
Я знал, что Элейн влюбилась в Киттреджа, поскольку она сама мне об этом рассказала. (Неловко вышло, что нам обоим запомнилась его безволосая грудь.) Той осенью пятьдесят девятого я еще не открыл Элейн правду о собственных влюбленностях; у меня не хватало духу признаться ей, что мне нравятся мисс Фрост и Жак Киттредж. И как я мог рассказать Элейн о моем странном влечении к ее матери? Я до сих пор время от времени мастурбировал на невзрачную и плоскогрудую Марту Хедли – эту высокую ширококостную женщину с большим тонкогубым ртом, чье продолговатое лицо я приставлял в воображении к телам юных моделей в тренировочных лифчиках из маминых каталогов.
Возможно, Элейн стало бы чуть легче, если бы она узнала, что я разделяю ее несчастную любовь к Киттреджу, который поначалу относился к нам обоим с безразличием или едким сарказмом (или одновременно с тем и другим). Однако в последнее время он стал к нам чуть помягче – после того, как Ричард Эбботт дал нам троим роли в шекспировской «Буре». Со стороны Ричарда было мудрым решением самому сыграть Просперо, поскольку в Фейворит-Ривер просто не было ученика, который вытянул бы роль «законного», как указывает Шекспир, герцога миланского и любящего отца Миранды. За двенадцать лет на острове волшебная сила Просперо возросла, и не многие выпускники могли бы показать эту силу на сцене.








