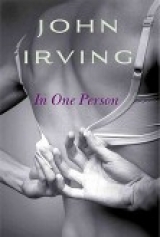
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц)
У Элейн был мальчишеский, то есть отсутствующий, зад, о бедрах и речи не шло; она была в мужских джинсах (подходящих к рубашке), и пока я целовал ее шею и влажные волосы, мне неожиданно пришло в голову, что Элейн и пахнет как мальчишка. В конце концов, она вспотела; она не пользовалась ни духами, ни какой-либо косметикой, даже помадой, и вот теперь я терся членом об ее мальчишеский зад.
– У тебя все еще стоит, да? – спросила она.
– Да, – ответил я. Мне было стыдно, что я не могу перестать об нее тереться, но Элейн и сама начала двигать бедрами; теперь она тоже терлась об меня.
– Это нормально – то, что ты делаешь, – сказала мне Элейн.
– Нет, это не нормально, – сказал я, но в моем голосе недоставало убежденности, которая слышалась в голосе Элейн, когда всего минуту назад она произнесла те же самые слова. (Я, конечно, имел в виду, что теперь и я думал о Киттредже.)
Мисс Фрост была крупной женщиной, широкоплечей и широкобедрой. Чего у мисс Фрост точно не было – так это мальчишеской задницы; никаким усилием воображения я не мог бы представить себе мисс Фрост, пока терся о беззвучно плачущую Элейн Хедли.
– Нет, правда, все нормально, мне тоже нравится, – тихо сказала Элейн – и тут мы услышали с улицы голос Киттреджа.
– Милая моя Неаполь, твой ли это синий свет горит в окне? – воззвал Киттредж. Я почувствовал, как напряглось тело Элейн. Во дворе слышались и другие голоса – со стороны спортивного общежития Тилли, – но лишь голос Киттреджа явственно выделялся среди них.
– Я же тебе говорила, что он не будет смотреть конец вестерна – вот ублюдок, – прошептала мне Элейн.
– О Неаполь, мне ли предназначен быть маяком твой синий огонек? – продолжал Киттредж. – Дева ли ты еще, Неаполь, или уж нет?
(Однажды я вдруг понял, что Киттредж по самой своей сути был насмешкой над Шекспиром – чем-то вроде поддельного Шекспира.)
Элейн, всхлипывая, потянулась к выключателю своего синего ночника. Когда она снова прижалась ко мне, ее всхлипы стали громче; она терлась об меня, постанывая. Всхлипы и стоны странным образом смешивались, напоминая повизгивания спящей собаки.
– Не поддавайся ему, Элейн – он же такой мудак, – прошептал я ей в ухо.
– Ш-ш-ш! – шикнула она на меня. – Не надо говорить, – запыхавшись, выговорила она между полузадушенными стонами.
– Ты ли это, Неаполь? – снова позвал Киттредж. – Так скоро гасишь свет? Увы, снова в одинокую постель!
Моя рубашка выбилась из брюк; наверное, из-за непрекращающегося ерзания. Рубашка была синей – как боксеры Киттреджа, подумал я. Элейн начала стонать громче.
– Не останавливайся! Сильнее! – простонала она. – Да! Вот так – господи, еще! – закричала она.
Я видел пар от ее дыхания в ледяном потоке воздуха из открытого окна; я терся об нее, как мне показалось, очень долго, прежде чем осознал, что повторяю: «Вот так? – спрашивал я ее. – Так?» (Никаких разговоров, как и просила Элейн, и все же наши голоса разносились по двору – до самого спортзала и Тилли, где все еще выгружались из автобусов вернувшиеся спортсмены.)
Мерцающий свет проектора уже погас; в окнах спортзала зала было темно. Вестерн кончился; дым от выстрелов рассеялся, и ученики Фейворит-Ривер тоже рассеялись по общежитиям – все, кроме Киттреджа.
– Прекращай, Неаполь! – крикнул Киттредж. – Нимфа, ты тоже там? – позвал он меня.
Элейн начала протяжный вопль оргазма. Позже она сказала: «Больше было похоже на схватки, чем на оргазм, по крайней мере, мне так кажется – детей я не собираюсь заводить. Видел, какого размера у младенцев головы?» – спросила она меня.
Так или иначе, для ушей Киттреджа этот кошачий концерт прозвучал как оргазм. Мы с Элейн еще расправляли покрывало на кровати, когда в дверь квартиры постучали.
– Господи, где мой лифчик? – спросила Элейн. Она пыталась найти его в складках одеяла, но все равно времени надеть его у нее не оставалось. (Ей нужно было открыть дверь.)
– Это он, – предупредил я.
– Кто же еще, – сказала она. Элейн вышла в гостиную; перед тем, как открыть дверь, она осмотрела себя в зеркале в прихожей.
Я нашел ее лифчик на кровати – он затерялся в складках измятого одеяла – и быстро запихал его себе в трусы. Моя эрекция уже полностью исчезла; для лифчика Элейн в трусах нашлось больше места, чем для моего вставшего члена.
– Хотел убедиться, что ты в порядке, – услышал я голос Киттреджа. – Я боялся, что у тебя тут пожар или типа того.
– Еще какой пожар, но со мной все хорошо, – сказала ему Элейн.
Я вышел из спальни Элейн. Она не пригласила Киттреджа войти; он стоял в проеме двери. Обитатели Бэнкрофта сновали по коридору, стараясь заглянуть в прихожую.
– Значит, ты тоже здесь, Нимфа, – сказал мне Киттредж.
Я заметил свежий ожог от мата у него на щеке, но самоуверенности у него не убавилось ни на йоту.
– Я полагаю, ты выиграл матч, – сказал я ему.
– Совершенно верно, Нимфа, – ответил он, не отрывая глаз от Элейн. Ее рубашка была белой, и сквозь ткань виднелись соски, а темные кольца вокруг – эти непроизносимые ареолы – на ее бледной коже выглядели как пятна от вина.
– Нехорошо, Неаполь. Где твой лифчик? – спросил ее Киттредж.
Элейн улыбнулась мне.
– Ты его нашел? – спросила она меня.
– Да я не особенно-то искал, – соврал я.
– Неаполь, тебе следует подумать о своей репутации, – сказал ей Киттредж. Это был неожиданный поворот, и он застал нас с Элейн врасплох.
– Все нормально с моей репутацией, – начала защищаться Элейн.
– Нимфа, и тебе тоже следовало бы подумать о ее репутации, – обратился ко мне Киттредж. – Однажды потерянную репутацию девушке уже не вернуть, если ты понимаешь, о чем я.
– Не знала, что ты такой ханжа, – сказала ему Элейн, но я видел, что слово «репутация» – или то, что подразумевал под ним Киттредж – действительно ее расстроило.
– Я не ханжа, Неаполь, – сказал он, улыбнувшись ей. Такую улыбку дарят девушке, оставшись с ней наедине; я видел, что ему удалось задеть ее.
– Я просто притворялась, Киттредж! – заорала она на него. – Я – мы – просто разыгрывали тебя!
– Звучало непохоже на притворство – по крайней мере, не совсем, – сказал он ей. – Лучше тебе понимать, кем ты прикидываешься, Нимфа, – сказал мне Киттредж, но он все еще смотрел на Элейн – так, как будто, кроме них двоих, вокруг никого не было.
– Прошу простить меня, Киттредж, мне нужно отыскать и надеть лифчик, пока родители не вернулись. Билли, тебе тоже пора, – сказала мне Элейн, не отрывая глаз от Киттреджа. Оба и не взглянули в мою сторону.
Еще не было одиннадцати, когда мы с Киттреджем вышли в коридор общежития; обитатели Бэнкрофта, слонявшиеся по коридору или торчавшие в дверях своих спален, явно не ожидали увидеть его здесь.
– Ты опять победил? – спросил его один из мальчишек. Киттредж молча кивнул.
– Я слышал, борцовская команда проиграла, – сказал другой.
– Я не команда, – сообщил ему Киттредж. – Я могу победить только в своем весе.
Мы спустились до лестничной клетки третьего этажа, где я и распрощался с Киттреджем. Отбой в общежитиях – даже для старшеклассников в субботний вечер – был в одиннадцать часов.
– Я так понимаю, твоя мама и Ричард уехали вместе с Хедли, – как бы между прочим сказал Киттредж.
– Да, в Эзра-Фоллс идет иностранный фильм, – ответил я.
– Потрах на французском, итальянском или шведском, – сказал Киттредж. Я рассмеялся, но он вовсе не шутил. – Знаешь, Нимфа, ты-то не в Италии и не в Швеции. Тебе нужно быть поосторожнее с этой девчонкой, которую ты трахаешь или не трахаешь.
В тот момент я засомневался – а вдруг Киттреджа и правда искренне заботит «репутация» Элейн, но с ним нельзя было ничего сказать наверняка; часто вообще невозможно было понять, куда он клонит.
– Я никогда не сделаю ничего, что причинило бы боль Элейн, – сказал я.
– Слушай, Нимфа, – сказал он мне, – человеку можно причинить боль как занимаясь с ним сексом, так и не занимаясь.
– Наверное, так и есть, – осторожно сказал я.
– Твоя мама спит голой или что-то на себя надевает? – как ни в чем не бывало спросил Киттредж, словно в продолжение разговора.
– Надевает, – сказал я ему.
– Да, такие они, матери, – сказал он. – Большая их часть, по крайней мере.
– Уже почти одиннадцать, – предупредил его я. – Не опоздай на поверку.
– А Элейн спит голой? – спросил Киттредж.
Конечно, нужно было заявить ему, что нежелание причинять боль Элейн не позволяет мне рассказывать ему подобным, спит Элейн голой или нет, но я и правда не знал, в каком виде она спит. Я решил, что следующий ответ прозвучит достаточно таинственно:
– Когда Элейн со мной, она не спит.
На что Киттредж просто сказал:
– А ты у нас загадка, а, Нимфа? Я тебя пока не раскусил, но когда-нибудь я все выясню – будь уверен.
– Опоздаешь на поверку, – сказал я.
– Я в медпункт – пусть посмотрят этот ожог, – сказал он, указывая на свою щеку.
По-моему, ничего серьезного там не было, но Киттредж объяснил:
– Мне нравится медсестричка, которая дежурит по выходным – это просто повод ее повидать. Почему бы не провести субботнюю ночь в лазарете, – сказал он мне.
С этой информацией он меня и оставил – в этом был весь Киттредж. Пусть он еще не раскусил меня – но и я пока не смог раскусить его. Действительно ли по выходным в медпункте Фейворит-Ривер дежурила медсестра? Правда ли у Киттреджа что-то было со взрослой женщиной? Может, он играл, как и мы с Элейн? Может, он просто притворялся?
Буквально через пару минут после того, как я вошел к себе в комнату, из кино вернулись мама и Ричард. Я едва успел вытащить из трусов лифчик Элейн. (И только-только сунул его под подушку, как раздался телефонный звонок.)
– Мой лифчик у тебя, да? – спросила Элейн.
– А что будет с уткой? – спросил я, но она не была настроена шутить.
– Билли, мой лифчик у тебя?
– Да, – сказал я. – Как-то само собой получилось.
– Ничего страшного, – сказала она. – Оставь его себе.
Я не стал говорить ей, что Киттредж интересовался, спит ли она голой.
Потом Ричард с мамой вернулись домой, и я спросил их, как им понравился фильм.
– Отвратительно, – сказала мама.
– Не знал, что ты такая ханжа, – сказал я ей.
– Полегче, Билл, – сказал Ричард.
– Я не ханжа! – ответила мама. Похоже, мои слова неожиданно расстроили ее. А я просто пошутил. Всего лишь повторил то, что Элейн сказала Киттреджу.
– Золотко, я не знал, о чем будет фильм, – сказал ей Ричард. – Извини.
– Посмотри на себя! – сказала мне мама. – Весь измятый, как будто спал в одежде. По-моему, тебе пора поговорить с Билли, Ричард.
Мама ушла в спальню и закрыла дверь.
– Поговорить о чем? – спросил я Ричарда.
– О том, чтобы ты был поосторожнее с Элейн, – сказал Ричард. – Она младше тебя, мы хотели убедиться, что ты бережешь ее.
– Ты о резинках, что ли? – спросил я. – Если что, их можно купить только в Эзра-Фоллс, и этот мудак аптекарь не продает презервативы подросткам.
– Не надо говорить «мудак», Билл, – сказал Ричард. – По крайней мере, при матери. Тебе нужны резинки? Я тебе куплю.
– Элейн ничто не угрожает, – сообщил я ему.
– Это Киттреджа я видел на выходе из Бэнкрофта, когда мы возвращались? – спросил Ричард.
– Не знаю, – ответил я. – А ты его видел?
– Билл, ты сейчас в… переломном возрасте, – сказал мне Ричард. – Мы просто просим, чтобы ты был поосторожнее с Элейн.
– Я и так с ней осторожен, – ответил я.
– Лучше следи, чтобы Киттредж держался подальше от нее, – сказал Ричард.
– И каким же образом? – спросил я.
– Ну, Билл… – начал Ричард, и тут из спальни вышла мама. Помнится, я подумал, что Киттредж был бы разочарован – на ней была фланелевая пижама без всякого намека на эротику.
– Вы все еще о сексе, да? – спросила мама нас с Ричардом. Она явно злилась. – Я знаю, что вы об этом говорите. Так вот, ничего смешного тут нет.
– Мы не смеялись, Золотко, – попытался ответить Ричард, но она не дала ему договорить.
– Держи свой конец в штанах, Билли! – велела мне мама. – Поосторожнее с Элейн, и передай ей, чтобы опасалась Жака Киттреджа – пусть держит ухо востро! Таким, как Киттредж, мало просто соблазнить женщину – они хотят, чтобы женщины им подчинялись! – сказала моя мать.
– Золотко, Золотко, успокойся, – уговаривал ее Ричард.
– Ты не знаешь всего, Ричард, – сказала ему мама.
– Не знаю, – согласился Ричард.
– А я знаю таких парней, как Киттредж, – сказала мама; она обращалась ко мне, а не к Ричарду – и все же покраснела.
Я сообразил, что мама сердится на меня из-за того, что видит во мне что-то от моего отца-женолюбца – возможно, я становился все больше похожим на него. (Как будто я мог с этим что-то поделать!)
Я подумал о лифчике Элейн, ждущем меня под подушкой. «Скорее вопрос облачения, чем физических признаков», – ответил Ричард на вопрос о поле Ариэля. (Если уж этот маленький лифчик с поролоном не подходил на роль облачения, то не знаю, что подходило.)
– О чем был фильм? – спросил я Ричарда.
– Тебе об этом знать не надо, – сказала мне мать. – Не смей ему рассказывать, Ричард.
– Извини, Билл, – покорно сказал Ричард.
– Готов поспорить, ничего такого, чего Шекспир бы не одобрил, – сказал я Ричарду, продолжая при этом смотреть на маму. Но мама не встретилась со мной глазами; она вернулась в спальню и закрыла дверь.
Я не был честен с Элейн Хедли, моим единственным настоящим другом, но в этом я определенно пошел в свою мать; я не мог рассказать Ричарду о своей влюбленности в Киттреджа или признаться в любви мисс Фрост, но я точно знал, откуда взялся этот недостаток откровенности. (Разумеется, я унаследовал его от матери, но, быть может, не обошлось и без моего отца-женолюбца. Возможно – меня только что осенило – тут были замешаны гены обоих моих родителей.)
– Спокойной ночи, Ричард. Я тебя люблю, – сказал я своему отчиму. Он быстро поцеловал меня в лоб.
– Спокойной ночи, Билл. И я тебя люблю, – ответил Ричард. Он виновато улыбнулся мне. Я действительно любил его, но одновременно мне приходилось бороться со своим разочарованием в нем.
Вдобавок я смертельно устал: очень утомительно быть семнадцатилетним и не знать, кто ты есть на самом деле; и лифчик Элейн звал меня в постель.
Глава 5. Прощание с Эсмеральдой
Вероятно, нужно, чтобы весь твой мир переменился, для того чтобы понять, зачем вообще писать эпилоги – а тем более для чего нужен пятый акт «Бури» и почему эпилог (который произносит Просперо) там тоже уместен. В тот день, когда я наивно раскритиковал финл «Бури», мой мир еще не успел перемениться.
«Теперь власть чар моих пропала», – начинает эпилог Просперо, вроде бы невзначай и без задней мысли, совершенно в манере Киттреджа.
Той зимой 1960 года мы с Элейн продолжали свой маскарад; мы стали держаться за руки даже на матчах Киттреджа, а Марта Хедли тем временем предприняла первые официальные попытки разобраться с возможной причиной (или причинами) моих проблем с произношением. Официальные – потому что теперь я записывался на занятия к миссис Хедли и приходил к ней в кабинет, находившийся в музыкальном корпусе академии.
В свои семнадцать лет я еще ни разу не был у психиатра; если бы у меня и возникло вдруг желание пообщаться с герром доктором Грау, уверен, что мой нежно любимый отчим Ричард Эбботт отговорил бы меня. Кроме того, старик Грау умер в ту же зиму, когда я начал свои занятия с миссис Хедли. Только следующей осенью академия нашла ему замену в лице более молодого (но не менее замшелого) психиатра.
Однако пока я занимался с Мартой Хедли, в психиатре не было нужды; миссис Хедли, которая терпеливо помогала мне выискивать многочисленные трудные для произношения слова и делала проницательные замечания о причине (или причинах) моего речевого расстройства, стала моим первым психиатром.
Поближе пообщавшись с миссис Хедли, я осознал причину своего влечения к ней. Марта Хедли была некрасива потому, что внешне напоминала мужчину; у нее были тонкие губы, но широкий рот и крупные зубы. Ее челюсть выдавалась вперед, как у Киттреджа, но шея была длинной и неожиданно женственной; как и у мисс Фрост, у нее были широкие плечи и большие руки. Волосы миссис Хедли были длиннее, чем у мисс Фрост, и она целомудренно собирала их в конский хвост. Ее плоская грудь неизменно напоминала мне о больших сосках Элейн и тех темных кружках – ареолах, которые, как я представлял себе, были одинаковыми у матери и дочери. Но, в отличие от Элейн, миссис Хедли выглядела очень сильной. И я начал понимать, насколько мне это нравится.
Когда к длинному списку моих проблемных слов прибавились «ареола» и «ареолы», Марта Хедли спросила меня:
– Твои затруднения связаны с тем, что обозначают эти слова?
– Может быть, – ответил я ей. – К счастью, мне не каждый день приходится их произносить.
– Тогда как «библиотеку» и «библиотеки», не говоря уже о «пенисе»… – начала Марта Хедли.
– Проблема больше со множественным числом, – напомнил я ей.
– Полагаю, с «пенисами» ты сталкиваешься нечасто – я имею в виду форму множественного числа, – сказала Марта Хедли.
– Не каждый день, – сказал я. Я имел в виду, что необходимость произносить «пенисы» выпадала нечасто, а не то, что я не думал о них каждый день – что было бы неправдой. И вот – может быть, потому, что я не мог ничего рассказать ни Элейн, ни Ричарду Эбботту, ни дедушке Гарри, и, вероятно, потому, что не осмеливался открыться мисс Фрост – я поведал обо всем миссис Хедли. (Ну, почти обо всем.)
Я начал со своей влюбленности в Киттреджа.
– Как, и ты, и Элейн! – воскликнула миссис Хедли. (Элейн даже своей матери уже рассказала!)
Я сообщил миссис Хедли, что еще до того, как увидел Киттреджа, я испытывал сексуальное влечение к другим борцам и, разглядывая старые ежегодники в библиотеке академии, уделял особое внимание фотографиям борцовской команды, лишь мельком просматривая фотографии Клуба драмы. («Понятно», – сказала миссис Хедли.)
Я рассказал ей даже о моей постепенно угасающей влюбленности в Ричарда Эбботта; пик ее пришелся на то время, когда он еще не был моим отчимом. («О боже, – вот это, наверное, было неловко!» – воскликнула Марта Хедли.)
Но когда пришло время сознаться в любви к мисс Фрост, я остановился; из глаз у меня брызнули слезы.
– Билли, в чем дело? Мне ты можешь рассказать, – сказала миссис Хедли. Она взяла мои ладони в свои, более крупные и сильные. Длинная шея была, вероятно, единственной ее привлекательной чертой; не имея возможности проверить, я мог лишь предполагать, что маленькая грудь Марты Хедли похожа на грудь Элейн.
В кабинете миссис Хедли не было ничего, кроме пианино с табуретом, старого диванчика (на котором мы всегда и сидели) и письменного стола, возле которого стоял стул с прямой спинкой. Вид из окна кабинета, находившегося на третьем этаже, не радовал глаз – корявые стволы двух старых кленов, немного снега на кленовых ветвях, небо с бело-серыми полосками облаков. Фотография мистера Хедли (стоявшая на письменном столе) глаз тоже не особенно радовала.
Мистер Хедли – я даже забыл, как его по имени-то звали, если вообще когда-либо знал, – поначалу казался неприспособленным к жизни в интернате. Впоследствии этот неопрятный мужчина с растущей клоками бородой стал более активной фигурой в кампусе Фейворит-Ривер, когда применил свой опыт учителя истории к обсуждениям войны во Вьетнаме (позднее переросшим в протесты). По крайней мере, он стал более яркой личностью, чем в день мой исповеди в кабинете Марты Хедли; но в тот момент я сосредоточил все свое внимание на ее длинной шее.
– Что бы ты ни рассказал мне, Билли, это не выйдет за пределы моего кабинета – клянусь тебе, – сказала миссис Хедли.
В одном из кабинетов кто-то практиковался в игре на фортепьяно – получается у него не очень, подумал я; а может, это двое учеников играли на двух инструментах одновременно.
– Я рассматриваю мамины каталоги одежды, – сознался я миссис Хедли. – Я представляю вас, когда смотрю на моделей в тренировочных лифчиках, – сказал я. – Я мастурбирую, – признался я – этот глагол, один из немногих, иногда доставлял мне трудности, но не в этот раз.
– О, Билли, но это же не преступление! – весело сказала миссис Хедли. – Удивительно только, что ты думаешь обо мне – я ведь совсем не красавица, – и немного странно, что тебе так легко даются слова «тренировочный лифчик». Я не могу найти тут видимой закономерности, – сказала она, помахав все растущим списком слов, с которыми мне приходилось сражаться.
– Я не знаю, что мне нравится в вас, – признался я.
– А как насчет девушек твоего возраста? – спросила меня миссис Хедли. Я покачал головой. – И Элейн тоже? – спросила она. Я замялся, но Марта Хедли положила мне на плечи свои сильные руки и заглянула мне в лицо. – Билли, все в порядке, Элейн и сама не верит, что интересует тебя в этом смысле. И это все только между нами, не забывай. – Мои глаза снова наполнились слезами; миссис Хедли притянула мою голову к своей жесткой груди. – Билли, Билли, ты ни в чем не виноват! – воскликнула она.
Тот, кто в этот момент постучал в дверь кабинета, несомненно, успел расслышать последнее слово – виноват.
– Войдите! – крикнула миссис Хедли так пронзительно, что я понял, откуда у Элейн взялась иерихонская труба вместо голоса.
Это оказался Аткинс – общепризнанный неудачник; я и не знал, что он занимается музыкой. А может, у Аткинса были проблемы с голосом, или у него не получалось выговаривать какие-нибудь слова.
– Я могу зайти попозже, – сказал Аткинс Марте Хедли, при этом не переставая таращиться на меня; или, может, он не мог поднять глаза на нее – либо одно, либо другое. Любому дураку было ясно, что я только что плакал.
– Приходи через полчаса, – сказала ему миссис Хедли.
– Хорошо, только у меня нет часов, – ответил он, не сводя с меня глаз.
– Возьми мои, – сказала она. И вот когда она сняла с руки часы и отдала ему, я понял, что меня привлекает в ней. Марта Хедли не просто обладала мужеподобной внешностью – она вела себя доминантно, как мужчина, что бы она ни делала. Мне оставалось только воображать, что и в сексе она тоже доминирует – может заставить любого сделать то, что хочется ей, и противостоять ей будет нелегко. Но почему мне это нравилось? (Разумеется, я не включил эти размышления в свою избирательную исповедь.)
Аткинс молча таращился на часы. Я изумился, неужели он такой кретин и недотепа, что не может определить по ним время.
– Через полчаса, – напомнила ему Марта Хедли.
– Тут римские цифры, – уныло проговорил Аткинс.
– Просто следи за минутной стрелкой. Досчитай до тридцати минут. После этого возвращайся, – сказала ему миссис Хедли. Аткинс вышел, все еще глядя на часы; он оставил дверь кабинета открытой. Миссис Хедли встала с дивана и закрыла дверь.
– Билли, Билли, – сказала она, оборачиваясь ко мне. – То, что ты чувствуешь, это нормально – все в порядке.
– Я подумывал поговорить с Ричардом, – сообщил я ей.
– Хорошая мысль. Ты можешь обсудить с Ричардом что угодно, я в этом уверена, – ответила Марта Хедли.
– Но не с мамой, – сказал я.
– Твоя мама, Мэри… Моя дорогая подруга Мэри… – начала миссис Хедли и замолчала. – Нет, не с мамой, ей пока не говори, – сказала она.
– Почему? – спросил я. Кажется, я уже знал почему, но хотел услышать это от самой миссис Хедли. – Потому что она немножко травмирована? – спросил я. – Или потому что она, похоже, злится на меня – хотя не понимаю почему.
– Не знаю насчет травм, – сказала Марта Хедли, – но, похоже, твоя мать действительно сердита на тебя – я тоже не понимаю почему. Мне показалось, что ее довольно легко выбить из колеи – в некоторых отношениях, если затронуть определенные темы.
– В каких отношениях? – спросил я. – Какие темы?
– Некоторые вопросы сексуальности расстраивают ее, – сказала Марта Хедли. – Билли, я знаю, что она кое-что скрывает от тебя.
– А-а.
– Эта страсть к секретам – не самая любимая моя черта Новой Англии! – неожиданно воскликнула миссис Хедли; она взглянула на запястье, где раньше были часы, и рассмеялась. – Интересно, как там Аткинс управляется с римскими цифрами, – сказала она, и расхохотались уже мы оба. – Знаешь, ты ведь можешь рассказать Элейн, – сказала Марта Хедли. – Ей ты можешь рассказать все что угодно. И потом, я думаю, она уже и так знает.
Я и сам так думал, но не стал этого говорить. Я думал о том, что мою мать довольно легко выбить из колеи. Я жалел, что не проконсультировался с доктором Грау, пока тот был еще жив, – пусть это и означало бы знакомство с его доктриной о том, что гомосексуальность излечима. (Это притупило бы мою ярость в следующие годы, когда мне предстояло ближе познакомиться с этой идиотской карательной доктриной.)
– Мне правда помог наш разговор, – сказал я миссис Хедли; она посторонилась, уступая мне дорогу к двери кабинета. Я боялся, что она схватит меня за плечи или даже снова притянет меня к своей жесткой груди, и я не смогу сдержаться и начну обнимать ее – или даже целовать, – хотя для этого мне пришлось бы встать на цыпочки. Но Марта Хедли не притронулась ко мне; она просто стояла рядом.
– Билли, с твоим голосом все в порядке, я не нашла у тебя никаких проблем с языком или нёбом, – сказала она. Я и забыл, что она заглядывала мне в рот на самом первом нашем занятии.
Тогда она попросила меня дотронуться языком до нёба, потом придержала кончик языка ватной палочкой, а второй палочкой в это время прощупала под языком, очевидно, в поисках чего-то, чего там не оказалось. (Я смутился, потому что эта возня у меня во рту вызвала у меня эрекцию – еще одно свидетельство «инфантильных сексуальных наклонностей», по выражению доктора Грау.)
– Не хочу говорить плохо о мертвых, – сказала мне на прощание миссис Хедли, – но надеюсь, Билли, ты понимаешь, что покойный доктор Грау и наш единственный оставшийся в живых специалист по медицине – то есть доктор Харлоу – полные кретины.
– Ричард тоже так говорит, – сообщил я ей.
– Слушай Ричарда, – сказала миссис Хедли. – Он славный парень.
Лишь годы спустя мне в голову пришла мысль: в том маленьком, далеко не элитном интернате уже видны были черты взрослого мира – там были по-настоящему добрые и чуткие взрослые, которые старались сделать взрослый мир более понятным и сносным для молодых людей, и были заплесневелые радетели нравственности (вроде доктора Грау, доктора Харлоу и им подобных) и неизлечимые гомофобы, которых породили люди их поколения и склада.
– Как на самом деле умер доктор Грау? – спросил я миссис Хедли.
История, которую мы услышали от доктора Харлоу на утреннем собрании, заключалась в том, что зимней ночью Грау поскользнулся и упал во дворе школы. Дорожки обледенели; вероятно, старый австриец ударился головой. Доктор Харлоу не сказал нам напрямую, что герр доктор Грау просто-напросто замерз насмерть – кажется, он употребил слово «гипотермия».
Утром тело обнаружили дежурные по кухне. Один из них говорил, что лицо Грау было белым как снег, другой утверждал, что старый австриец лежал с открытыми глазами, но третий возражал, что глаза были закрыты; однако все они соглашались, что тирольская шляпа доктора Грау (с засаленным фазаньим пером) была найдена на некотором расстоянии от тела.
– Грау был пьян, – сказала мне Марта Хедли. – В одном из общежитий у преподавателей была вечеринка. Возможно, Грау действительно поскользнулся и упал – и, вероятно, ударился головой, но он точно был пьян. Он пролежал в снегу без сознания всю ночь! Он замерз.
Доктор Грау, как и значительная часть преподавателей Фейворит-Ривер, выбрал работу в академии из-за лыжного курорта по соседству, но старик Грау не катался на лыжах уже многие годы. Доктор Грау был ужасно толстым; он утверждал, что все еще прекрасно держится на лыжах, но признавал, что, упав, уже не сможет подняться – не сняв предварительно лыжи. (Я представлял, как Грау лежит на склоне, дрыгая ногами, чтобы освободиться от креплений, и вопит про «инфантильные сексуальные наклонности» на английском и немецком языках.)
Я выбрал немецкий в качестве второго языка, но только после того, как меня заверили, что в академии имеется еще три преподавателя немецкого; мне не пришлось учиться у герра доктора Грау. Другие преподаватели немецкого также были австрийцами – и двое из них тоже обожали лыжный спорт. Моя любимая преподавательница, фройляйн Бауэр, была единственной, кто не катался на лыжах.
Выходя из кабинета миссис Хедли, я внезапно вспомнил, что говорила фройляйн Бауэр о моем немецком; я делал множество грамматических ошибок, и порядок слов доводил меня до бешенства, но произношение у меня было идеальное. Однако когда я сообщил об этом Марте Хедли, она не нашла это особенно интересным – если вообще стоящим внимания.
– Дело в психологии, Билли. Ты можешь сказать что угодно, в том смысле, что физически ты можешь выговорить любое слово. Но либо ты не можешь произносить слова, которые как-то в тебе отзываются, либо…
Я прервал ее:
– Отзываются в сексуальном смысле, вы имеете в виду, – сказал я.
– Возможно, – сказала миссис Хедли и пожала плечами. Похоже, ее не особенно интересовала сексуальная подоплека моих проблем с произношением, как будто рассуждения о сексе (любого рода) относились к столь же малоинтересным темам, как и мое великолепное немецкое произношение. Конечно же, я говорил по-немецки с австрийским акцентом.
– Я думаю, ты так же злишься на свою мать, как она на тебя, – сказала мне Марта Хедли. – Порой мне кажется, Билли, что ты слишком рассержен, чтобы говорить.
– А-а.
Я услышал чьи-то шаги на лестнице. Это был Аткинс, все еще не сводивший глаз с часов миссис Хедли; удивительно, как он не споткнулся о ступеньку.
– Тридцать минут еще не прошло, – доложил Аткинс.
– Я ухожу, можешь войти, – сказал я ему, но Аткинс застыл как вкопанный, не дойдя до площадки третьего этажа. Спускаясь по лестнице, я прошел мимо него.
Лестничная клетка была широкой; я подходил уже к первому этажу, когда услышал, как миссис Хедли говорит ему:
– Заходи, пожалуйста.
– Но еще не прошло тридцать минут. Еще не… – Аткинс не стал заканчивать предложение (или не мог его закончить).
– Еще не что? – услышал я вопрос Марты Хедли. Помню, как я замер на лестнице. – Я знаю, ты можешь сказать, – ласково сказала она ему. – Ты ведь можешь произнести отдельно только первый слог, правда?
– Еще не… вре, – выдавил Аткинс.
– А теперь скажи «мя» – как будто кошке на хвост наступили, – велела ему миссис Хедли.
– Не могу! – выпалил Аткинс.
– Заходи, пожалуйста, – повторила миссис Хедли.
– Еще не вре – мя-я! – вымученно промямлил Аткинс.
– Хорошо – по крайней мере, лучше, чем было. А теперь, пожалуйста, входи, – сказала ему Марта Хедли, а я спустился по лестнице и вышел из здания, по пути улавливая обрывки песен, голоса хористов, отрывок пьесы для струнных на втором этаже и затем (на первом) очередные экзерсисы на фортепьяно. Но мои мысли крутились вокруг того, какой же недотепа и болван этот Аткинс – не может произнести слово «время». Вот ведь балбес!








