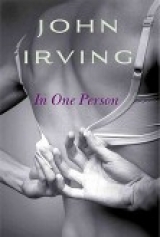
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц)
Дядя Боб заведовал в академии Фейворит-Ривер приемом учеников; не его вина, что школьные критерии приема были несколько размытыми. И однако его осуждали; женская половина семейства считала его «чересчур снисходительным» – я же видел в этом еще одну причину для восхищения
Хотя я помню, что слышал об алкоголизме Боба от самых разных людей, сам я никогда не видел его пьяным – за исключением разве что одного запоминающегося случая. По правде сказать, все годы, пока я рос в Ферст-Систер, я был уверен, что масштабы его проблем с выпивкой сильно преувеличены; женщины из рода Уинтропов были известны категоричностью своих суждений в области морали. Склонность к праведному гневу была фамильной чертой Уинтропов.
Летом шестьдесят первого, когда я путешествовал с Томом, в разговоре каким-то образом всплыло, что Боб – мой дядя. (Знаю, я еще не рассказывал вам про Тома. Вам придется меня простить; мне нелегко говорить о нем.) Это лето должно было стать очень важным для нас обоих: мы закончили школу, и впереди был первый год колледжа; наши с Томом семьи освободили нас от обычной летней работы, чтобы мы могли попутешествовать. Видимо, они предполагали, что нам хватит этого лета, чтобы покончить с сомнительными «поисками себя», однако, вопреки ожиданиям, ни Том, ни я не считали это лето таким уж важным.
Во-первых, у нас не было денег, и абсолютно незнакомая Европа пугала нас; во-вторых, мы уже «нашли» себя, и невозможно было примириться с тем, кто мы есть, – по крайней мере, объявить об этом вслух. Да, мы оба открыли в себе грани столь же незнакомые (и столь же пугающие), как и та небольшая часть Европы, которую нам с грехом пополам все же удалось увидеть.
Даже и не вспомню, с чего мы вдруг заговорили о дяде Бобе; Том и раньше знал, что я в родстве со стариной Бобом Заходи-кто-хошь, как он сам его прозвал.
– Ну, он мне не кровная родня, – начал объяснять я. (Независимо от уровня алкоголя в крови дяди Боба, ни капли уинтроповской крови там точно не было.)
– Вы вообще не похожи! – воскликнул Том. – Боб такой славный, такой простецкий.
По правде сказать, мы с Томом часто ссорились тем летом. Мы поплыли на одной из трансатлантических «Королев» (по ученическим билетам) из Нью-Йорка в Саутгемптон; затем пересекли пролив, сошли на берег в Остенде, и первым европейским городом, где мы заночевали, оказался средневековый Брюгге. (Красивый город, но девушка, работавшая в пансионе, где мы остановились, интересовала меня куда больше, чем колокольня на рыночной площади.)
– Полагаю, ты как раз собирался спросить, нет ли у нее подружки для меня, – сказал Том.
– Мы просто гуляли по городу и болтали, – ответил я. – Мы и не целовались-то почти.
– Ах, всего-то? – сказал Том; и когда потом он заметил, какой славный и простецкий мой дядя Боб, я понял его так, что меня он славным не считает.
– Я просто хотел сказать, что ты непростой человек, Билл, – пояснил Том. – Ты же не такой покладистый, как старина Боб, правда?
– Поверить не могу, что тебя так взбесила та девчонка в Брюгге, – сказал я ему.
– Видел бы ты себя, когда пялился на ее сиськи – и было бы на что посмотреть! Знаешь, Билл, девчонки чувствуют, когда на них пялишься, – ответил он.
Но я был, в общем-то, равнодушен к девушке из Брюгге. Просто ее маленькая грудь напомнила мне, как вздымалась и опадала удивительно девичья грудь мисс Фрост – а мои чувства к мисс Фрост еще не угасли.
Ох уж эти ветры перемен; в маленькие городки на севере Новой Англии они врываются не иначе как ураганом. Первое же прослушивание, после которого Ричард Эбботт вошел в нашу маленькую труппу, сказалось даже на подборе актрис на женские роли, поскольку с самого начала стало ясно, что все роли бравых юношей, порочных (или просто заурядных) мужей и вероломных любовников оказались в распоряжении Ричарда Эбботта; а потому и партнерш следовало найти ему под стать.
Для дедушки Гарри, будущего тестя Ричарда, это был неудачный поворот: дедушка Гарри был как минимум слишком пожилой женщиной, чтобы заводить какие-либо романтические отношения с таким юным красавчиком, как Ричард (и поцелуи на сцене уж точно исключались!).
тете Мюриэл с ее властным голосом, но пустой головой повезло не больше. Ричард Эбботт оказался слишком уж идеальным героем-любовником. При первом же его появлении на собрании актеров тетя Мюриэл затрепетала и принялась нести какую-то психосексуальную чушь; позднее она, полностью выбитая из колеи, утверждала, будто было видно, что моя мама и Ричард «сразу потеряли голову друг от друга». Короче говоря, тетя Мюриэл не могла допустить и мысли о романтической связи с будущим зятем – даже на подмостках. (А мама еще и суфлировала бы им!)
В свои тринадцать лет я едва заметил, как оцепенела тетя Мюриэл при встрече (первой в ее жизни) с настоящим героем-любовником; не заметил я и того, чтобы мама и Ричард Эбботт «сразу потеряли голову друг от друга».
Дедушка Гарри, само обаяние, тепло приветствовал элегантного молодого человека, нового преподавателя академии Фейворит-Ривер.
– Мы всегда рады новым талантам, – доброжелательно обратился он к Ричарду. – Вы, кажется, сказали, что преподаете Шекспира?
– Преподаю и ставлю на сцене, – ответил Ричард деду. – Конечно, в интернате для мальчиков театр имеет свои недостатки – но лучший способ объяснить мальчикам и девочкам Шекспира – поставить его пьесы.
– Дайте угадаю, под недостатками вы имеете в виду, что мальчикам приходится играть женские роли, – лукаво уточнил дедушка Гарри. (Ричард Эбботт, впервые встретившийся с управляющим лесопилки Гарри Маршаллом, никак не мог знать о его сценических успехах.)
– Большинство мальчишек не имеют ни малейшего понятия о том, как ведут себя женщины, – и это ужасно отвлекает от самой пьесы, – ответил Ричард.
– Ага, – сказал дед. – И что же вы собираетесь делать?
– Я подумываю о том, чтобы пригласить на прослушивание преподавательских жен – из тех, кто помоложе, – ответил Ричард Эбботт. – И, может быть, дочерей, из тех, кто постарше.
– Ага, – снова сказал дедушка. – Возможно, и в городе найдется кто-нибудь подходящий, – предположил он; дедушка Гарри всегда мечтал сыграть Регану или Гонерилью, одну из «дрянных дочерей Лира», как он их называл. (Я уж не говорю том, как он бредил ролью леди Макбет!)
– Я не исключаю и открытых прослушиваний, – сказал Ричард Эбботт. – Надеюсь только, что взрослые женщины не напугают мальчиков из интерната.
– Э-э, ну, всякое может случиться, – ответил дедушка Гарри с понимающей улыбкой. Ему не однажды приходилось пугать в роли взрослой женщины; Гарри Маршаллу не нужно было далеко ходить за примером пугающей женщины – ему довольно было взглянуть на жену и старшую дочь. Но мне было тринадцать, и я не замечал, как дедушка старается отхватить себе побольше женских ролей; для меня беседа дедушки Гарри с новым ведущим актером выглядела совершенно естественной и сердечной.
Зато этим осенним пятничным вечером – а распределение ролей всегда проходило по пятницам – я заметил, как актерский талант Ричарда Эбботта и его познания в области театра изменили соотношение сил между нашим режиссером-диктатором и в разной степени одаренным (и не одаренным вовсе) потенциальным актерским составом. Суровому главе «Актеров Ферст-Систер» еще никогда не бросали вызов на поле драматургии; режиссер нашего маленького театра, утверждавший, что «просто актерская игра» не представляет для него интереса, не был новичком в драматургии и к тому же мнил себя большим специалистом по Ибсену, которого превозносил до небес.
Наш доселе неуязвимый режиссер – вышеупомянутый норвежец по имени Нильс Боркман, деловой партнер дедушки Гарри, лесоруб, лесничий и постановщик пьес – был олицетворением скандинавской меланхолии и кладезем дурных предчувствий. Делом Нильса Боркмана – по крайней мере, его повседневной работой – был лес, но страстью его была драматургия.
Неискушенные театралы Ферст-Систер, не приученные к серьезной драме, только усугубляли всепоглощающий пессимизм норвежца. Зрители нашего бескультурного городка ничего не имели против строгой диеты из Агаты Кристи (и даже приветствовали ее, что было совсем уж тошнотворно). Нильс Боркман неприкрыто страдал от нескончаемых адаптаций непритязательной халтуры вроде «Убийства в доме викария»; моя заносчивая тетя Мюриэл много раз играла мисс Марпл, однако жители Ферст-Систер предпочитали видеть в роли проницательной (но такой женственной) сыщицы дедушку Гарри. Он выглядел более естественным в роли разоблачительницы чужих секретов – и притом более женственным, со скидкой на возраст мисс Марпл.
На одной из репетиций Гарри капризно воскликнул – совершенно в духе мисс Марпл:
– Боже мой, но кому могло понадобиться убивать полковника Протеро?
На что бессменный суфлер, моя мама, заметила:
– Папуля, в пьесе вообще нет такой реплики.
– Да я знаю, Мэри, – я просто дурачусь, – ответил дедушка.
Моя мать, Мэри Маршалл – Мэри Дин (которой она оставалась четырнадцать злосчастных лет, пока не вышла за Ричарда Эбботта) – всегда называла деда папулей. Чванливая тетя Мюриэл неизменно звала Гарри «отцом», а бабушка Виктория не менее торжественно величала своего мужа Гарольдом – ни в коем случае не Гарри.
Нильс Боркман ставил «кассовые спектакли», как он насмешливо называл их, так, как будто был обречен смотреть «Смерть на Ниле» или «Опасность дома на окраине» в день своей смерти – так, как будто неизгладимое воспоминание о «Десяти негритятах» ему суждено было унести с собой в могилу.
Агата Кристи была проклятием Боркмана, и нельзя сказать, чтобы норвежец переносил это проклятие стоически – он ненавидел ее и горько на нее жаловался, – но поскольку Агата Кристи и поверхностные современные пьесы собирали полные залы, каждую осень мрачному норвежцу разрешали поставить «что-нибудь серьезное».
«Что-нибудь серьезное, подходящее для времени года, когда умирают листы», – говорил Боркман – по этим словам заметно, что его английский, как правило, был понятным, но не идеальным (и в этом был весь Нильс – как правило, понятный, но не идеальный).
В ту пятницу, когда Ричард Эбботт изменил множество судеб, Нильс объявил, что этой осенью «чем-нибудь серьезным» снова будет его обожаемый Ибсен, и сократил выбор пьесы до трех вариантов.
– Каких трех? – спросил молодой и талантливый Ричард Эбботт.
– Трех проблемных, – пояснил (как ему казалось) Нильс.
– Я так понимаю, вы имеете в виду «Гедду Габлер» и «Кукольный дом», – догадался Ричард. – А третья, наверное, «Дикая утка»?
По тому, как Боркман неожиданно утратил дар речи (что было ему не свойственно), все мы поняли, что «Дикая (и ужасающая всех нас) утка» и впрямь была третьим вариантом угрюмого норвежца.
– В таком случае, – решился прервать красноречивую паузу Ричард Эбботт, – кто из нас, хотя бы теоретически, мог бы сыграть обреченную Хедвиг, это несчастное дитя?
На пятничном собрании не было ни одной четырнадцатилетней девочки – никого подходящего на роль невинной обожательницы уток (и папочки) Хедвиг.
– У нас и раньше были… сложности с ролью Хедвиг, Нильс, – осмелился вставить дедушка Гарри. Боже, и еще какие! У нас были трагикомические четырнадцатилетние девочки, игравшие настолько чудовищно, что, когда Хедвиг стрелялась, зрители ликовали! Были и четырнадцатилетние девочки, настолько милые, наивные и невинные, что, когда они стрелялись, зрители приходили в ярость!
– А ведь есть еще Грегерс, – вставил Ричард Эбботт. – Этот несчастный моралист. Я мог бы сыграть Грегерса, но я буду играть его как надоедливого дурака, самодовольного клоуна, упивающегося жалостью к себе!
Нильс Боркман нередко называл своих собратьев-норвежцев, склонных к самоубийству, «прыгунами во фьорды». Очевидно, изобилие фьордов в Норвегии предоставляло множество возможностей для удобного и непыльного самоубийства. (Нильс, должно быть, заметил отсутствие в штате Вермонт не только фьордов, но и моря – и это привело его в еще большее уныние.) Наш мрачный режиссер так тяжело посмотрел на Ричарда Эбботта, словно хотел, чтобы этот новенький выскочка немедленно пустился на поиски ближайшего фьорда.
– Но Грегерс – идеалист, – начал Боркман.
– Если «Дикая утка» – это трагедия, то Грегерс – клоун и болван, а Ялмар – всего лишь жалкий ревнивец, которому не дает покоя, с кем жена была до него, – продолжил Ричард. – С другой стороны, если ставить «Дикую утку» как комедию, то клоуны и болваны там вообще все. Но как может быть комедией пьеса, где ребенок погибает из-за ханжества взрослых? Тут нужна кристально чистая, наивная четырнадцатилетняя Хедвиг, такая, чтобы сердце на части рвалось; и не только на роль Грегерса, но и на Ялмара, Гину и даже фру Сербю, и старика Экдала, и негодяя Верле – нужны блестящие актеры! И даже тогда пьеса будет испорчена – это не самая простая пьеса Ибсена для любителей.
– Испорчена! – вскричал Нильс Боркман, как будто ему (и его дикой утке) выстрелили прямо в сердце.
– В последней постановке я играл фру Сербю, – сообщил дед Ричарду. – Когда я был помоложе, мне, разумеется, доверяли Гину – хотя всего разок или два.
– Я подумывал взять на роль Хедвиг юную Лору Гордон, – сказал Нильс. Лора была младшей дочкой Гордонов. Джим Гордон преподавал в академии Фейворит-Ривер; раньше он и его жена Эллен тоже играли в нашем театре, а обе их старшие дочери уже застрелились в роли бедняжки Хедвиг.
– Извини меня, Нильс, – вмешалась тетя Мюриэл, – но у Лоры Гордон весьма заметная грудь.
Я смекнул, что не я один обращаю внимание на удивительные превращения четырнадцатилетних девочек; Лора была едва ли на год старше меня, но грудь у нее явно была великовата для наивной и невинной Хедвиг.
Нильс Боркман вздохнул; затем (с почти самоубийственным смирением) он снова обратился к Ричарду:
– И какую же из пьес Ибсена юный мистер Эбботт считает более легкой для нас, смертных простых любителей? – конечно, он хотел сказать «простых смертных».
– Э-э… – начал дедушка Гарри и тут же оборвал себя. Происходящее ему явно нравилось. Он питал глубокое уважение и привязанность к Нильсу Боркману как к деловому партнеру, но все – без исключения – участники наших представлений, от самых преданных до случайно заглянувших, знали, что как режиссер Нильс абсолютный тиран. (И Генрик Ибсен, и одержимость Боркмана «серьезной драмой» уже осточертели нам едва ли не больше, чем Агата Кристи.)
– Ну… – начал Ричард Эбботт и остановился, размышляя. – Если это обязательно должен быть Ибсен – а мы, в конце концов, всего лишь любители, то надо ставить либо «Гедду Габлер», либо «Кукольный дом». В первой пьесе вообще нет детей, а во второй не так уж важно, кто их сыграет. Конечно, обе пьесы нуждаются в очень сильной и сложной женщине – и, как обычно, слабых или отталкивающих, или и то и другое, мужчинах.
– Слабых или отталкивающих – или и то и другое? – переспросил Нильс Боркман, не веря своим ушам.
– Йорган, муж Гедды, человек бесхарактерный и заурядный – кошмарное сочетание, но очень распространенное среди мужчин, – продолжил Ричард Эбботт. – Эйлерт Левборг – безвольный слюнтяй, а асессор Бракк – как и его имя – попросту отвратителен. Разве Гедда стреляется не из-за перспективы будущего с мужем-неудачником и гнусным Бракком?
– А что, Нильс, норвежцы всегда стреляются? – игриво спросил мой дед. Гарри знал, за какие ниточки дергать Боркмана; однако на этот раз Нильс устоял перед искушением и не стал рассказывать про прыжки во фьорды – он просто проигнорировал старого друга и партнера. (Дедушка Гарри неоднократно исполнял роль Гедды; играл он и Нору в «Кукольном доме» – но теперь по возрасту уже не подходил ни на одну из этих ролей.)
– А какие же… слабости и другие неприятные черты обнаруживают мужские персонажи в «Кукольном доме» – если мне позволено будет спросить юного мистера Эбботта? – выдавил Боркман, нервно потирая руки.
– Ибсен вообще недолюбливает мужей, – начал Ричард Эбботт; в этот раз ему не нужно было останавливаться, чтобы подумать, – он вещал со всей уверенностью юнца, получившего современное образование. – Торвальд Хельмер, муж Норы, в общем-то, похож на мужа Гедды. Он зауряден и скучен – Нора задыхается в этом браке. Крогстад – уязвленный и испорченный человек; в нем есть некоторое спасительное достоинство, но и в его случае на ум приходит слово слабость.
– А доктор Ранк? – осведомился Боркман.
– Доктор Ранк не особенно важен. Нам нужна Нора или Гедда, – ответил Ричард Эбботт. – В случае Гедды – женщина, которая так ценит свою свободу, что готова покончить с собой, чтобы не лишиться ее; ее самоубийство – не слабость, а демонстрация ее сексуальной силы.
К несчастью – или к счастью, как посмотреть, – именно в этот момент Ричард взглянул на тетю Мюриэл. Несмотря на привлекательную внешность и шикарную грудь оперной дивы, Мюриэл отнюдь не была столпом сексуальной силы; она упала в обморок.
– Мюриэл, только давай без мелодрам! – воскликнул дедушка Гарри, но Мюриэл (сознательно или подсознательно) поняла, что не дотягивает до самоуверенного молодого новичка, этого блистательного героя-любовника, объявившегося столь внезапно. И Мюриэл физически выбыла из борьбы за роль Гедды.
– А если говорить о Норе… – подсказал Нильс Ричарду Эбботту, едва прервавшись, чтобы взглянуть, как моя мама хлопочет вокруг обычно чопорной, но сейчас бессознательной старшей сестры.
Мюриэл неожиданно села с выражением изумления на лице, ее грудь бурно вздымалась.
– Вдыхай носом, Мюриэл, и выдыхай ртом, – суфлировала сестре моя мать.
– Я знаю, Мэри, – знаю! – огрызнулась Мюриэл.
– Но ты же делаешь все наоборот – ну, вдыхаешь ртом, а выдыхаешь носом, – сказала мама.
– Ну… – начал Ричард Эбботт и умолк. Даже я заметил, как он смотрит на мою маму.
Ричард, потерявший пальцы на левой ноге в результате несчастного случая с газонокосилкой и потому освобожденный от службы в армии, устроился преподавателем в академию Фейворит-Ривер сразу после получения степени магистра по истории театра и драматического искусства. Ричард родился и вырос в западном Массачусетсе. Он с теплотой вспоминал о семейных лыжных каникулах в Вермонте; работа в Ферст-Систер (для которой он был слишком квалифицированным) привлекала его по причинам сентиментального характера.
Ричард Эбботт был всего лишь на четыре года старше, чем мой отец-связист на той фотографии, где сержант запечатлен на пути в Тринидад. Ричарду было двадцать пять, моей матери – тридцать пять. Ричард был чудовищно младше моей матери – на целых десять лет. Маме, видимо, нравились мужчины помоложе; я-то ей точно больше нравился, когда был помладше.
– А вы играете на сцене, мисс?.. – начал Ричард, но мама уже поняла, что он обращается к ней, и прервала его.
– Нет, я всего лишь суфлер, – сообщила она Ричарду. – Я не играю.
– Но, Мэри… – начал дедушка Гарри.
– Я не играю, папуля, – сказала моя мать. – Это вы с Мюриэл актрисы, – произнесла она, не запнувшись на слове актрисы. – А я всегда суфлирую.
– Что там насчет Норы? – спросил Ричарда Нильс Боркман. – Вы что-то проговорили…
– Нора стремится к свободе еще сильнее, чем Гедда, – уверенно сказал Ричард Эбботт. – Она не только находит силы оставить мужа; она и детей бросает! В этих женщинах есть такая неприручаемая свобода – я считаю, вам нужно дать карты в руки той, кто будет Геддой или Норой. Эти женщины распоряжаются своими пьесами.
Излагая это, Ричард Эбботт обозревал наших любителей в поисках Норы или Гедды, но его взгляд то и дело возвращался к моей упрямой матери, которая, я знал, навсегда останется суфлером. Ричарду не удастся сделать Гедду или Нору из моей мамы, всегда строго следующей сценарию.
– Э-э, ну… – сказал дедушка Гарри; он рассматривал обе роли (несмотря на свой возраст).
– Нет, Гарри, сколько можно, – сказал Нильс, в котором снова пробудился диктатор. – Юный мистер Эбботт прав. Тут требуется необузданность – и еще неудержимая свобода, и сексуальная сила. Нужна женщина помоложе и более сексуально активированная, чем ты.
Ричард Эбботт проникался к деду все большим уважением; он понял, что Гарри заставил всю труппу Ферст-Систер воспринимать себя как женщину – пусть и не как сексуально активированную женщину.
– Мюриэл, а ты не хочешь попробовать? – спросил Боркман мою надменную тетю.
– Да, может быть, вы? – спросил Ричард Эбботт, бывший лет на десять с лишним младше Мюриэл. – В вас есть несомненная сексапильность… – начал он.
Увы, больше юный Эбботт ничего сказать не успел, поскольку тетя Мюриэл снова лишилась чувств.
– На мой взгляд, это означает «нет», – сообщила моя мама ослепительному молодому новичку.
Я уже успел немного влюбиться в Ричарда Эбботта, но тогда я еще не встретил мисс Фрост.
Спустя два года, уже пятнадцатилетним подростком, я сидел на своем первом утреннем собрании в академии Фейворит-Ривер и слушал, как доктор Харлоу, школьный врач, призывает нас, мальчишек, активно бороться с распространенными недомоганиями, характерными для нашего нежного возраста. (Я не выдумываю, я совершенно уверен, что он использовал слово недомогания.) Доктор Харлоу объяснил, что под «распространенными недомоганиями» он подразумевает угревую сыпь и «нежелательное сексуальное влечение к мальчикам или мужчинам». Доктор уверил нас, что существует множество разнообразных средств от наших прыщей. Что же касается ранних проявлений гомосексуальных пристрастий – ну что ж, доктор Харлоу или школьный психиатр доктор Грау будут счастливы побеседовать с нами на эту тему.
«Эти недомогания излечимы», – сообщил нам доктор Харлоу; в его голосе слышался привычный авторитет врача, он одновременно убеждал и увещевал нас, причем увещевал в доверительном тоне, обращаясь к каждому из нас «как мужчина к мужчине». Суть этой утренней речи была совершенно ясна даже сопливым первогодкам – требовалось всего лишь явиться к нему и попросить об излечении. (И притом было до боли очевидно, что не пожелавшим исцелиться останется пенять только на себя.)
Позднее я иногда задавался вопросом, что бы это изменило – если бы я услышал про эту комедию с лечением сразу же после знакомства с Ричардом Эбботтом, а не два года спустя. Сейчас я всерьез сомневаюсь, что моя влюбленность в Ричарда Эбботта была излечима, хотя доктор Грау, доктор Харлоу и подобные им светила тогдашней медицины истово верили, что эта влюбленность принадлежит к разряду излечимых недомоганий.
Пройдет два года с того рокового собрания, и последний шанс на исцеление будет утрачен безвозвратно; передо мной откроется целый мир влюбленностей. Тем пятничным вечером я встретился с Ричардом Эбботтом; всем присутствующим – и не в последнюю очередь тете Мюриэл, дважды потерявшей сознание, – было ясно, что Ричард принял командование над всеми нами.
– Похоже, если мы все же собираемся ставить Ибсена, нам понадобится либо Нора, либо Гедда, – сказал Ричард Нильсу.
– Но как же листы! Они уже переменяют цвет; они будут осыпаться! – воскликнул Боркман. – Сезон умирания уже наступил!
Не так-то просто было его понять: ясно было только, что его ненаглядный Ибсен и прыжки во фьорды каким-то образом связаны с серьезной драмой, которую мы всегда ставили осенью, – и с так называемым сезоном умирания, когда неотвратимо опадают листы.
Конечно, теперь я понимаю, каким невинным было то время – и сезон умирания, и вся эта сравнительно немудрящая пора моей жизни.
Глава 2. Влюбленности в неподходящих людей
Сколько же времени прошло с той неудавшейся раздачи ролей, прежде чем моя мать и Ричард Эбботт начали встречаться? «Зная Мэри, готова спорить, что они сразу же занялись этим», – как-то раз заметила тетя Мюриэл.
Мама отважилась оставить родной дом лишь однажды: она отправилась в колледж (никто и никогда не рассказывал, куда именно), но вскоре бросила учебу. Удалось ей разве что забеременеть; она не окончила даже курсы секретарей! Вдобавок к этому нравственному и образовательному фиаско она сама и ее почти незаконнорожденный сын вынуждены были четырнадцать лет носить фамилию Дин – по-видимому, для соблюдения внешних приличий.
Мэри Маршалл Дин больше не решалась покидать дом; мир слишком глубоко ранил ее. Она осталась жить с моей бабушкой – неизменным источником пренебрежительных и шаблонных замечаний, – которая относилась к паршивой овечке столь же неодобрительно, как и надменная тетя Мюриэл. Только у дедушки Гарри всегда находилось доброе и ободряющее слово для его «малышки», как он звал мою мать. Он обращался к ней с особенной интонацией и, кажется, считал, что мама еще не до конца оправилась от случившегося. Я восхищался дедом – он не только старался поддержать мамину то и дело падающую уверенность в себе, но и мне частенько поднимал настроение, когда я в этом нуждался.
Помимо исполнения обязанностей суфлера в театре Ферст-Систер мама работала секретарем на лесопилке и лесном складе; владелец и управляющий (то есть дедушка Гарри) предпочел закрыть глаза на то, что курсы секретарей мама так и не окончила, – его вполне устраивали ее навыки машинистки.
Должно быть, о моей матери поговаривали за ее спиной – работники лесопилки, я имею в виду. Мужчины отпускали замечания отнюдь не о скорости ее печати, но готов поспорить, что они всего лишь повторяли услышанное от жен и подружек. Конечно, работники отмечали, что моя мать хороша собой, но я уверен, что источником слухов о Мэри Маршалл Дин, ходивших на лесопилке – и, что гораздо хуже, в лагерях лесорубов, – были их вторые половины.
Я говорю «гораздо хуже», потому что за лагерями лесорубов присматривал Нильс Боркман; конечно, без травм на этой работе никогда не обходилось, но не были ли причиной некоторых «происшествий» неосторожные замечания в адрес моей матери? На складе леса тоже время от времени происходили несчастные случаи – и порой я готов был биться об заклад, что пострадавшим оказывался как раз тот парень, который повторял слова своей жены или подружки о моей матери. (Ее так называемый муж не особенно-то рвался на ней жениться; вместе они не жили, расписались там они или нет, и у этого парнишки не было отца – думаю, о маме говорили что-нибудь в таком роде.)
Дедушка Гарри никогда не отличался боевым характером; я догадываюсь, что Нильсу Боркману не раз приходилось вставать на защиту своего друга и партнера – и его дочери.
– Эх, Нильс, теперь он не сможет работать месяца полтора – со сломанной-то ключицей, – иногда выговаривал ему дедушка Гарри. – Каждый раз, когда ты, по твоему выражению, вправляешь кому-нибудь мозги, мы вынуждены выплачивать компенсацию!
– Мы можем себе позволить выплатить компенсацию, Гарри, – а он раз-другой будет думать, что говорит, – обычно отвечал на это Нильс.
– «В другой раз», Нильс, – мягко поправлял старого друга дедушка Гарри.
В моих глазах мама была не просто на пару лет младше своей вредной сестры Мюриэл; из них двоих мама была намного красивее. И не важно, что у нее не было внушительной груди и звучного голоса старшей сестры. Мэри Маршалл Дин была в целом лучше сложена. Мне чудилось в ней что-то азиатское: у нее была миниатюрная фигурка, миндалевидное лицо и необыкновенно большие (и широко поставленные) глаза, не говоря уже об удивительно маленьком ротике.
«Золотко» – так окрестил ее Ричард Эбботт, когда они начали встречаться. И так он с тех пор ее и звал – не Мэри, а просто Золотко. Имя прижилось.
Сколько же прошло с того дня, как они начали встречаться, до момента, когда Ричард Эбботт обнаружил, что у меня нет собственной библиотечной карточки? (Не так уж много; я помню, что стояла ранняя осень, листья еще только начали желтеть.)
Мама рассказала Ричарду, что я не большой любитель чтения, и в результате Ричард выяснил, что мама и бабушка сами приносят книги из городской библиотеки, чтобы я их читал – или не читал, что случалось намного чаще.
Остальные книги переходили ко мне по наследству от назойливой тети Мюриэл; в основном это были женские романы, которые уже прочитала и забраковала моя неотесанная двоюродная сестра. Время от времени сестрица Джеральдина выражала свое презрение к сюжету романа или главным героям прямо на полях книги.
Джерри – только тетя Мюриэл и бабушка называли ее Джеральдиной – была на три года старше меня. Той осенью, когда Ричард Эбботт начал встречаться с моей матерью, мне было тринадцать, а кузине Джерри – шестнадцать. Поскольку Джерри была девочкой, она не могла учиться в академии Фейворит-Ривер. Ее жутко бесило, что посещать частную школу разрешено только мальчикам, поскольку каждый учебный день ей приходилось ехать на автобусе в Эзра-Фоллс – в ближайшую к Ферст-Систер публичную школу.
Часть своей ненависти к мальчикам Джерри изливала на полях романов, которые потом доставались мне; ее презрение к девочкам, которые сходят с ума по мальчикам, также находило отдушину на этих страницах. Как только тетя Мюриэл любезно делилась со мной очередным женским романом, я бросался читать комментарии Джерри на полях. Сами романы были скучными до отупения. Но рядом с заунывным описанием первого поцелуя героини на полях стояло: «Поцелуй лучше меня! У тебя десны полопаются! Я тебя так поцелую, что ты обоссышься!».
Героиня романа была самодовольной занудой и в жизни не позволила бы своему ухажеру дотронуться до ее груди – и Джерри на полях откликалась: «Я бы твои сиськи стерла в ноль! И попробуй-ка мне помешать!».
Что же до книг, которые приносили мама и бабушка из публичной библиотеки Ферст-Систер, это были (в лучшем случае) приключенческие романы: истории о мореплавателях, обычно с участием пиратов, или вестерны Зейна Грея; хуже всего были неправдоподобные научно-фантастические романы и не менее невероятные футурологические рассказы.
Разве мама и бабушка Виктория не замечали, как одновременно восхищает и пугает меня жизнь на Земле? Мне ни к чему были дальние галактики и неизвестные планеты. Я слишком мало понимал в настоящем и вечно боялся, что неправильно поймут меня самого; одна мысль о будущем уже была для меня настоящим кошмаром.
– Но почему бы Биллу самому не выбирать себе книги? – спросил маму Ричард Эбботт. – Билл, тебе же тринадцать, верно? Что тебе интересно?
За исключением дедушки Гарри и неизменно дружелюбного (и обвиняемого в пьянстве) дяди Боба, никто раньше не спрашивал меня об этом. По-настоящему мне нравились разве что пьесы, которые ставили в театре Ферст-Систер; я мечтал, что однажды выучу их наизусть слово в слово, как всегда делала мама. И тогда, воображал я, если она заболеет или попадет в аварию – в Вермонте автокатастрофы не были редкостью, – я стану суфлером вместо нее.
– Билли! – сказала моя мать, рассмеявшись как будто бы невинно, как она это умела. – Расскажи Ричарду, что тебе интересно.








