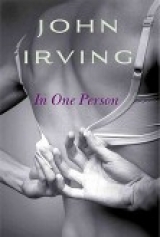
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц)
В результате мой отец-связист нес дежурство – опорожнял каски страдающих сослуживцев. В средней части корабля, на уровне палубы – так, что из трюмов с койками, находившихся ниже, нужно было каждый раз карабкаться наверх, – находился огромный гальюн. (Даже во сне мне пришлось прервать повествование и спросить, что такое гальюн; человек, которого я принял за Ричарда, но который никак не мог им быть, объяснил мне, что это большая уборная, тянувшаяся по всей длине корабля.)
В очередной раз опустошив каски, отец присел на один из унитазов. Пытаться справить малую нужду стоя не было никакого смысла; корабль мотало и болтало – волей-неволей приходилось садиться. Мой отец устроился на унитазе, схватившись обеими руками за края. Морская вода хлюпала на уровне щиколоток, и его ботинки и штаны тут же промокли. В дальнем конце длинного ряда унитазов сидел еще один солдат, но тот держался не так крепко. Отец заметил, что этот солдат также не страдает морской болезнью; ухватившись за край унитаза одной рукой, он читал книгу. Когда корабль неожиданно сильно накренился, любитель чтения не удержался на месте. Он поскакал по сиденьям унитазов – шлепая задницей по каждому из них – пока не долетел до противоположного конца гальюна и не врезался в моего отца.
– Извини, я никак не мог оторваться! – сказал он. Затем корабль качнуло в другую сторону, и солдат понесся обратно, снова пересчитывая задницей сиденья. Долетев до другого конца, он либо не удержал книгу, либо бросил ее, чтобы вцепиться в унитаз обеими руками. Книга шлепнулась в воду и поплыла прочь.
– Что это ты читал? – крикнул ему связист.
– «Госпожу Бовари»! – ответил солдат, перекрикивая шум бури.
– Могу рассказать, что там дальше, – предложил сержант.
– Пожалуйста, не надо! – ответил книголюб. – Я хочу сам ее прочесть!
Во сне, или в той истории, которую кто-то (не Ричард Эбботт) рассказывал мне, мой отец так и не увидел того солдата до конца плавания. «Через едва видимый Гибралтар, – снилось (или кто-то рассказывал) мне, – корабли проскользнули в Средиземное море».
Однажды ночью, где-то у берегов Сицилии, солдат в трюме разбудил треск и грохот снарядов; корабли подверглись воздушной атаке люфтваффе. Потом отец узнал, что соседний пароход был потоплен, и никто не спасся. Солдат, который читал «Госпожу Бовари» во время шторма, не успел сообщить ему свое имя до того, как корабли причалили в Таранто. История продолжалась и заканчивалась, а мой отец так и не встретился с прыгуном по унитазам.
Годы спустя, говорилось во сне (или в рассказе), мой отец «очутился» в Гарварде. Как-то раз отец ехал в бостонском метро; он сел на станции Чарльз-Стрит и ехал обратно на Гарвард-Сквер.
На Кендалл-Сквер в вагон зашел человек и уставился на него. Сержанта «покоробил» интерес незнакомца. «Чувствовалось, что это неестественный интерес – предвещающий что-то дурное или по меньшей мере неприятное». (Именно из-за манеры рассказа этот сон всегда казался мне более реальным, чем другие. В этом сне был рассказ от первого лица – в нем был голос.)
Человек в метро начал пересаживаться с сиденья на сиденье, постепенно приближаясь к моему отцу. Когда он подобрался практически вплотную, а поезд начал замедляться, подходя к станции, незнакомец повернулся к отцу и сказал: «Привет, я Бовари. Помнишь меня?». Затем поезд остановился на Централ-Сквер, любитель чтения сошел, а отец поехал дальше до Гарвард-Сквер.
Мне говорили, что лихорадка при скарлатине проходит в течение недели – обычно за три-пять дней. Я практически уверен, что она уже закончилась, когда я решил спросить Ричарда Эбботта, не он ли рассказал мне эту историю – может, он сидел со мной в начале периода сыпи, или же когда у меня болело горло – то есть за пару дней до сыпи. Во время болезни язык у меня стал клубнично-красным, но когда я впервые заговорил с Ричардом об этом необыкновенно ярком повторяющемся сне, мой язык уже приобрел темно-красный оттенок – ближе к малиновому – и сыпь начала сходить.
– Я такой истории не знаю, Билл, – сказал мне Ричард Эбботт, – впервые ее слышу.
– А-а.
– Мне кажется, она больше похожа на одну из дедушкиных историй, – сказал Ричард.
Но когда я спросил деда, не он ли рассказал мне про «Госпожу Бовари», тот начал мямлить и запинаться. Э-э, ну, нет, он «определенно не рассказывал» мне эту историю, сказал дед. Да, Гарри ее слышал – «не из первых уст, как я припоминаю», – но, конечно же, не мог вспомнить, от кого. «Может, это дядя Боб – да, может, Боб тебе ее рассказал, Билл». Затем дед пощупал мой лоб и пробормотал что-то насчет того, что лихорадка, похоже, прошла. Заглянув мне в рот, он объявил:
– Язык все еще выглядит жутковато, хотя сыпь вроде бы потихоньку исчезает.
– Для начала, эта история слишком уж реальна для сна, – сказал я дедушке Гарри.
– Э-э, ну – раз уж тебе удается воображать всякое, а я думаю, у тебя это хорошо получается, Билл, я полагаю, что и некоторые сны могут казаться очень реалистичными, – промямлил дед.
– Я спрошу дядю Боба, – сказал я.
Дядя Боб вечно засовывал мне в карманы – а порой в ботинки или под подушку – мячики для сквоша. Такая у нас была игра: когда я находил мячик, то возвращал его Бобу. «Ой, а я повсюду искал этот мячик, Билли! – говорил Боб. – Как хорошо, что ты его нашел».
– «Госпожа Бовари» – это о чем? – спросил я дядю Боба. Он пришел меня проведать, и я вручил ему мячик для сквоша, который нашел в стакане с зубными щетками – в нашей общей с дедушкой Гарри ванной комнате.
Бабушка Виктория «скорее умерла бы», чем согласилась делить с ним ванную, сказал мне Гарри, но мне нравилось, что у нас с дедушкой одна ванная на двоих.
– Честно сказать, Билли, сам я не читал «Госпожу Бовари», – сказал мне Боб; он выглянул в коридор, чтобы убедиться, что в пределах слышимости нет моей мамы (или бабушки, или тети Мюриэл). Несмотря даже на то, что горизонт был чист, Боб понизил голос: – Мне кажется, это книжка про измену, Билли, – про неверную жену.
Наверное, я выглядел крайне озадаченным, потому что дядя Боб тут же прибавил:
– Лучше спроси Ричарда, о чем это – сам знаешь, литература – это его область.
– Это роман? – спросил я.
– Не думаю, чтобы это была реальная история, – ответил дядя Боб. – Но Ричард точно знает.
– Или я могу спросить мисс Фрост, – предположил я.
– Ага, можешь – только не говори, что это была моя идея, – сказал дядя Боб.
– Я знаю одну историю, – начал я. – Может, это ты мне ее рассказывал.
– Ты про ту историю, где парень читает «Госпожу Бовари» сразу на сотне унитазов? – воскликнул Боб. – Я ее обожаю!
– И я, – сказал я. – Очень смешно.
– Обхохочешься! – подтвердил дядя Боб. – Нет, Билли, я тебе ее не рассказывал – по крайней мере, я такого не припомню, – поспешно добавил он.
– А-а.
– Может, мама тебе рассказала? – спросил дядя Боб. Должно быть, я одарил его скептическим взглядом, потому что он тут же исправился: – Хотя вряд ли.
– Мне все время снится это история, но кто-то же, наверное, изначально рассказал ее мне.
– Может, кто-нибудь ее рассказывал за ужином – знаешь, как дети подслушивают разговоры, когда взрослые думают, что те уже спят или точно не могут их услышать, – сказал дядя Боб. Хотя представить такое было легче, чем вообразить маму в роли рассказчицы истории про унитазные сиденья, ни меня, ни дядю Боба эта версия явно не убедила.
– Билли, не все тайны нуждаются в раскрытии, – сказал он мне более уверенно.
Вскоре после его ухода я нашел еще один мячик для сквоша – или все тот же самый – у себя под покрывалом.
Я прекрасно знал, что мама никак не могла рассказать мне историю о «Госпоже Бовари» и унитазных сиденьях, но, разумеется, я все равно спросил ее.
– Никогда не считала эту историю ни капельки забавной, – сказала она. – Я бы точно не стала ее тебе рассказывать.
– А-а.
– Может, это папуля тебе рассказал – но ведь я же его просила! – сказала мама.
– Нет, дедушка определенно мне ее не рассказывал, – ответил я.
– Тогда это наверняка дядя Боб, – предположила мама.
– Дядя Боб говорит, что не помнит, чтобы он мне ее рассказывал, – ответил я.
– Боб выпивает – он не всегда все помнит, – сказала мама. – И ты не так давно болел, – напомнила она, – сам знаешь, какие сны бывают при лихорадке.
– Я все равно думаю, что это смешная история – как тот солдат шлепал задницей по сиденьям! – сказал я.
– Мне ничуточки не смешно, Билли.
– А-а.
Уже полностью оправившись от скарлатины, я поинтересовался мнением Ричарда о «Госпоже Бовари».
– Я думаю, ты по достоинству оценишь эту книгу, когда немного подрастешь, – сказал мне Ричард.
– Насколько подрасту? – спросил я. (Мне было четырнадцать – вроде бы. Я еще не читал и не перечитывал «Большие надежды», но мисс Фрост уже наставила меня на путь читателя – это я помню точно.)
– Можно спросить у мисс Фрост, насколько мне надо подрасти, по ее мнению, – предложил я.
– На твоем месте, Билл, я бы немного подождал, прежде чем спрашивать ее, – сказал Ричард.
– Немного – это сколько? – спросил я.
Ричард Эбботт, который, как мне казалось, знал все на свете, ответил:
– Точно не знаю.
Точно не знаю, когда моя мама начала суфлировать постановки Ричарда Эбботта в Клубе драмы академии Фейворит-Ривер, но я очень хорошо помню, что в «Буре» она уже была суфлером. Время от времени случались конфликты в расписании, поскольку мама продолжала суфлировать и для «Актеров Ферст-Систер», но суфлерам можно иногда пропускать репетиции, а представления городского любительского театра и Клуба драмы не пересекались никогда.
На репетициях Киттредж специально перевирал реплики только затем, чтобы моя мама начала ему подсказывать. «Нет, милая», – обратился Фердинанд к Миранде во время одной из репетиций; мы только недавно перестали читать на репетициях с листа.
– Нет, Жак, – сказала моя мать. – Здесь будет «нет, дорогая», а не «милая».
Но Киттредж притворялся – он намеренно перепутал строчку, чтобы вовлечь мою мать в разговор.
– Мне ужасно жаль, миссис Эбботт, – это больше не повторится, – сказал он – и запорол следующую же реплику.
«Нет, чудная», – должен сказать Фердинанд Миранде, но Киттредж выдал: «Нет, дорогая».
– Не в этом месте, Жак, – сказала ему моя мама. – Здесь «нет, чудная», а не «дорогая».
– Наверное, я слишком стараюсь вам угодить – мне хочется вам понравиться, но, боюсь, у меня ничего не получается, миссис Эбботт, – сказал Киттредж моей матери. Он неприкрыто с ней заигрывал, и мама покраснела. Я часто думал, что мою мать легко соблазнить, и испытывал от этого неловкость; как будто я считал ее умственно отсталой или настолько наивной в сексуальном плане, что при помощи лести любой мог бы добиться ее.
– Ты мне нравишься, Жак, – ты мне точно не не нравишься, – выпалила моя мать, пока Миранда-Элейн тихо закипала; Элейн знала, что Киттредж назвал мою мать «горячей штучкой».
– Мне не по себе, когда вы рядом, – признался Киттредж моей матери, хотя по нему и нельзя было этого сказать; выглядел он все более самоуверенным.
– Ну и брехня! – рявкнула Элейн Хедли. Киттредж отшатнулся при звуке ее голоса, а моя мать дернулась, словно ей влепили пощечину.
– Элейн, следи за своей речью, – сказала мама.
– Может, продолжим репетицию? – спросила Элейн.
– Ах, Неаполь, ты так нетерпелива, – произнес Киттредж с самой обезоруживающей из своих улыбок, затем снова обернулся к моей матери. – Элейн ждет не дождется той части, где мы держимся за руки, – сообщил он маме.
Действительно, первая сцена третьего акта, которую они репетировали, заканчивается тем, что Фердинанд и Миранда держатся за руки. Настала очередь Элейн краснеть, но Киттредж, полностью владевший ситуацией, честнейшими глазами уставился на мою мать.
– У меня вопрос, миссис Эбботт, – начал он так, как будто ни Миранды, ни Элейн рядом не было – как будто их не существовало вовсе. – Когда Фердинанд произносит: «Много женщин раньше / Мне нравилось: их голоса нередко / Пленяли слух мой» – ну вы помните эту реплику, – значит ли это, что он знал многих женщин, и не нужно ли мне как-то подчеркнуть, свою, ну, сексуальную опытность?
Мама покраснела еще сильнее.
– О Гос-споди! – возопила Элейн Хедли.
А я – где же был я? Я был Ариэлем, «духом воздуха». Я ждал, пока Фердинад и Миранда «уйдут – в разные стороны», согласно ремарке. Я стоял за кулисами с Калибаном, Стефано («пьяницей-дворецким», по характеристике Шекспира) и Тринкуло; все мы были задействованы в следующей сцене, где я появляюсь невидимым. Наблюдая, как мама краснеет от коварных манипуляций Киттреджа, я и чувствовал себя невидимкой – или мечтал им стать.
– Я просто суфлер, – поспешно ответила Киттреджу моя мать. – Это вопрос к режиссеру, спроси лучше мистера Эбботта.
Мамино волнение было очевидно, и внезапно я увидел, как она, должно быть, выглядела много лет назад, когда то ли была беременна мной, то ли уже стала моей мамой – и увидела моего отца-женолюбца целующимся с кем-то еще. Я помню, как она произнесла «кое с кем», так же небрежно, как поправляла умышленные ляпы Киттреджа. (На представлениях Киттредж ни разу не переврал ни строчки – ни единого слова. Я понимаю, что еще не успел вам этого сказать, но Киттредж был очень хорошим актером.)
Мне больно было видеть, как легко обезоружил мою мать малейший сексуальный намек – из уст подростка! Я ненавидел себя, поскольку понимал, что стыжусь собственной матери, и знал, что этот стыд – результат неизменно снисходительного отношения к ней Мюриэл, ее упреков и сплетен. Разумеется, я ненавидел и Киттреджа за то, как легко он смутил мою травмированную мать, – и за то, как играючи ему удавалось обескуражить меня и Элейн. Но тут мама призвала подмогу.
– Ричард! – крикнула она. – У Жака вопрос насчет его персонажа!
– О Гос-споди, – снова сказала Элейн, но теперь уже шепотом; она произнесла это едва слышно, но Киттредж все-таки услышал.
– Терпение, дорогая Неаполь, – сказал Киттредж, взяв ее за руку. Точно так же Фердинанд берет за руку Миранду – перед тем, как они расстаются в конце первой сцены третьего акта, – но Элейн выдернула у него ладонь.
– Что там с твоим персонажем, Фердинанд? – спросил Киттреджа Ричард Эбботт.
– Брехня на брехне, – сказала Элейн.
– Следи за речью, Элейн! – сказала моя мать.
– Миранде не повредило бы подышать свежим воздухом, – сказал Элейн Ричард Эбботт. – Пару раз глубоко вздохнуть и, пожалуй, выкрикнуть все слова, что придут в голову. Передохни, Элейн, – и ты тоже, Билл, – обернулся ко мне Ричард. – Нам нужны Миранда и Ариэль в образе.
(Похоже, Ричард заметил, что и я тоже нервничаю.)
К задней стене театра примыкал пандус столярной мастерской, и мы с Элейн вышли на него в холодный ночной воздух. Я попытался взять ее за руку; сначала она отдернула ладонь, хотя и не так яростно, как до того у Киттреджа. Затем вернула мне руку и положила мне голову на плечо – дверь позади нас еще была открыта; «Очаровательная парочка, а?» – сказал кому-то, или всем окружающим, Киттредж, прежде чем дверь захлопнулась.
– Мудила! – заорала Элейн Хедли. – Членосос! – выкрикнула она и сделала несколько глотков холодного воздуха, восстанавливая дыхание; затем мы вернулись внутрь, и очки Элейн тут же запотели.
– Фердинанд не сообщает Миранде, что он опытен в сексе, – объяснял тем временем Киттреджу Ричард Эбботт. – Фердинанд говорит, с каким вниманием он относился к женщинам и как часто они производили на него впечатление. Он всего лишь имеет в виду, что никто раньше не производил на него такого впечатления, как Миранда.
– Речь идет о впечатлении, Киттредж, – удалось выговорить Элейн. – А вовсе не о сексе.
«Появляется Ариэль, невидимый», – так звучит ремарка к моей следующей сцене (второй сцене третьего акта). Но я уже стал невидимкой по-настоящему; каким-то образом мне удалось создать у окружающих впечатление, будто я питаю чувства к Элейн. Что касается самой Элейн, ее такое прикрытие, похоже, устраивало – возможно, у нее были на то свои причины. Однако Киттредж ухмылялся, глядя на нас, – в своей обычной манере, глумливо и презрительно. Навряд ли слово «впечатление» что-то значило для Киттреджа. Я думаю, для него все сводилось к сексу – к сексу как таковому. И если все присутствующие были убеждены, что мы с Элейн интересуем друг друга в сексуальном плане, то Киттредж, возможно, был исключением – по крайней мере, такое впечатление произвела на меня его ухмылка.
Может быть, это из-за нее Элейн неожиданно повернулась и поцеловала меня. Она едва скользнула губами по моим губам, но физический контакт, пускай и мимолетный, все же произошел; кажется, я даже попытался ответить на ее поцелуй, хоть и длился он всего мгновение. И на этом все. Не бог весть какой поцелуй; у нее даже очки не запотели.
Сомневаюсь, что Элейн испытывала ко мне хотя бы тень сексуального влечения, и уверен, она с самого начала знала, что я лишь притворяюсь, будто интересуюсь ею в этом смысле. Мы были дилетантами в актерской игре – ее невинная Миранда и мой по большей части невидимый Ариэль, – но все же мы играли, и в нашем обмане было безмолвное соучастие.
В конце концов, нам обоим было что скрывать.
Глава 4. Лифчик Элейн
Даже теперь я не знаю, что и думать о несчастном Калибане – чудовище, попытавшемся изнасиловать Миранду и тем заслужившем вечное проклятие Просперо. Похоже, что Просперо берет на себя минимальную ответственность за Калибана: «А эта дьявольская тварь – моя».
Конечно, такой эгоист, как Киттредж, был уверен, что «Буря» – это пьеса про Фердинанда, история любви, в которой Фердинанд добивается руки Миранды. Но Ричард Эбботт охарактеризовал эту пьесу как трагикомедию, и те два (почти три) осенних месяца 1959 года, пока мы с Элейн были заняты на репетициях, мы чувствовали, что пребывание в столь непосредственной близости от Киттреджа и есть наша трагикомедия – хотя «Буря» кончается счастливо как для Ариэля, так и для Миранды.
У моей матери, не устававшей настаивать, что она просто суфлер, была занятная привычка подсчитывать время, проведенное каждым из актеров на сцене; она засекала время с помощью дешевого кухонного таймера и записывала (на полях своей копии пьесы) примерный процент времени для каждого персонажа. Ценность маминых расчетов казалась мне сомнительной, однако мы с Элейн находили удовольствие в том, что Фердинанд был задействован всего в семнадцати процентах пьесы.
– А как насчет Миранды? – непременно старалась спросить Элейн, когда знала, что их разговор точно достигнет острого слуха Киттреджа.
– Двадцать семь процентов, – отвечала мама.
– А я? – спрашивал я.
– Ариэль находится на сцене тридцать один процент всего времени, – отвечала она.
Киттредж зубоскалил над этими унизительными для него подсчетами.
– А Просперо, наш несравненный режиссер, обладатель знаменитой магической силы, вокруг которой столько шумихи? – саркастично осведомлялся Киттредж.
– Шумихи! – откликалась громогласным эхом Элейн Хедли.
– Просперо находится на сцене приблизительно пятьдесят два процента времени, – сообщала Киттреджу моя мать.
– Приблизительно, – глумливо повторял Киттредж.
Ричард Эбботт рассказал нам, что «Буря» была «прощальной пьесой» Шекспира: поэт уже знал, что расстанется с театром, – но я все равно не видел необходимости в пятом акте – особенно в прилепленном в конце эпилоге, который произносит Просперо.
Возможно, я уже тогда понемногу становился писателем (хотя драматургом я так и не стал), поскольку мне казалось, что «Бурю» нужно было закончить обращением Просперо к Фердинанду и Миранде: «Забава наша кончена…» – в первой сцене четвертого акта. И конечно же, свою реплику (и всю пьесу) Просперо должен был завершить прекрасными строками: «Мы сами созданы из сновидений, / И эту нашу маленькую жизнь / Сон окружает…». Зачем ему говорить еще что-то? (Может, он все же чувствует свою ответственность за Калибана.)
Но когда я высказал все это Ричарду, он ответил: «Ну, Билл, если ты в семнадцать лет переписываешь Шекспира, тебя ждет великое будущее!». Обычно Ричард не подшучивал надо мной, и его слова меня задели; Киттредж тут же почуял мою боль.
– Эй, Переписчик! – прокричал мне тем вечером Киттредж через весь двор.
Увы, это прозвище не прижилось; Киттредж никогда больше не звал меня так, остановившись на Нимфе. Я предпочел бы Переписчика; по крайней мере, это была меткая характеристика моей будущей манеры письма.
Но я отвлекся от Калибана; я снова отошел от темы, и это тоже характерно для моей писательской манеры. Калибан находится на сцене двадцать пять процентов времени. (При подсчетах мама никогда не принимала во внимание число реплик, только время нахождения персонажей на сцене.) Это было мое первое знакомство с «Бурей», но, сколько бы раз я ни смотрел ее постановки, Калибан неизменно вызывал у меня волнение. Как писатель я назвал бы его «неразрешенным» персонажем. По тому, как резко обращается с ним Просперо, мы понимаем, что он никогда не простит Калибана, но хотел ли Шекспир, чтобы и мы были столь же суровы к чудовищу? Может, он ждал от нас сочувствия – а может, в какой-то степени и чувства вины.
Той осенью пятьдесят девятого я не совсем понимал, что думает о Калибане Ричард Эбботт; он выбрал на эту роль дедушку Гарри, что еще больше запутало дело. Гарри никогда не выходил на сцену в какой-либо мужской роли; неизменно женский образ дедушки Гарри делал тот факт, что Калибан не совсем человек, еще более «неразрешенным». Может, Калибан и желал Миранду – мы знаем, что он пытался ее изнасиловать! – но Гарри Маршалл, даже в роли злодея, практически никогда не бывал на сцене полностью отталкивающим – как и полностью мужчиной.
Вероятно, Ричард понимал, что Калибан должен вызывать недоумение, и знал, что дедушка Гарри найдет способ еще усилить это ощущение. «Дед у тебя странный», – открытым текстом заявил мне Киттредж. (Он прозвал дедушку «Королева Лир».)
Даже мне показалось, что в роли Калибана дед перечудачил самого себя; у него вышел сексуально неоднозначный персонаж – Калибан сделался андрогинной ведьмой.
Парик (дедушка был лысым) одинаково подошел бы как мужчине, так и женщине. Костюм отлично бы смотрелся на эксцентричной городской попрошайке – мешковатые спортивные штаны и здоровенная фуфайка, такие же серые, как и парик. В завершение этого двусмысленного образа Гарри разулся и ярко накрасил ногти на ногах. К мочке уха он прицепил массивный фальшивый бриллиант – подходящий скорее даже не шлюхе, а пирату или профессиональному рестлеру, – а поверх фуфайки надел ожерелье из фальшивого жемчуга (очень дешевую бижутерию).
– Все-таки что такое Калибан? – спросил Киттредж Ричарда Эбботта.
– Земля и вода, Киттредж, – грубая сила и коварство, – повторил Ричард.
– Но какого пола это коварство? – спросил Киттредж. – Это что, чудовище-лесбиянка? Оно пыталось изнасиловать Миранду – так кто это, он или она?
– Какого пола, какого пола! – заорала Элейн Хедли. – Ты о чем-нибудь другом можешь думать?!
– Нимфа, не забудь про беруши, – сказал Киттредж, ухмыльнувшись мне.
Стоило нам с Элейн взглянуть на него, как мы видели перед собой его мать, сидящую, скрестив великолепные ноги, на неудобной скамье трибуны. Казалось, миссис Киттредж наблюдала за тем, как ее сын методично укладывает носом в мат более слабых соперников, так, будто смотрела порнофильм, но с отстраненной уверенностью опытной женщины, которая знает, как это делается правильно. «Твоя мать – мужик с сиськами», – хотел бы я сказать Киттреджу, но, конечно, не решался.
Остается лишь догадываться, что мог бы ответить на это Киттредж. «Ты о моей мачехе?» – уточнил бы он перед тем, как переломать мне руки и ноги.
Дома я спросил маму и Ричарда:
– Что такое с дедушкой Гарри? Я знаю, что Ариэль обладает полиморфным полом – который зависит скорее от облачения, чем от физических признаков, ты мне это говорил, – сказал я Ричарду. – Ну ладно, допустим, все это – парик, лосины – говорит о том, что пол Ариэля изменчив. Но Калибан-то разве не мужского пола? А дедушка Гарри, по-моему, играет Калибана, как… – я остановился. Я не хотел называть дедушку «Королевой Лир», поскольку эту кличку ему дал Киттредж. – Как какую-то лесбуху, – в итоге выдал я. Слово «лесбуха» было тогда модным в Фейворит-Ривер – среди тех учеников (к которым относился и Киттредж), которым не надоедало повторять «гомик», «педик» и «голубой».
– Папуля – не лесбуха! – прикрикнула на меня мама. Раньше я и представить себе не мог, чтобы она повысила голос; теперь она делала это все чаще – и всегда в мой адрес.
– Ну, Билл… – начал Ричард Эбботт и замолчал. – Не переживай так, Золотко, – обратился он к маме, чье раздражение отвлекло его. – На самом деле, Билл, – начал он снова, – я думаю, что вопросы пола во времена Шекспира значили намного меньше, чем сейчас.
Так себе ответ, подумал я, но ничего не сказал. Росло ли во мне разочарование в Ричарде, или это рос я сам?
– То есть он так и не ответил на твой вопрос? – спросила меня потом Элейн Хедли, когда я признался ей, что половая принадлежность дедушки Гарри в роли Калибана мне не совсем ясна.
Забавно вспоминать, что, оставаясь наедине, Элейн и я практически не касались друг друга, но, оказавшись на людях, мы непроизвольно хватались за руки и держались ровно до тех пор, пока было кому это видеть. (Это был еще один наш секретный шифр, вроде вопроса «Что будет с уткой?».)
Однако когда Элейн и я впервые пришли в городскую библиотеку, мы не держались за руки. У меня было впечатление, что мисс Фрост ни на секунду не поверит в наши попытки изобразить романтическую связь. Мы с Элейн просто искали место, где мы могли бы читать свои роли для «Бури». В общежитии были слишком тесно и людно – если только не закрываться в спальне. Но мы слишком успешно изображали влюбленных. Наших родителей хватил бы удар, если бы мы заперлись в спальне вдвоем.
Что касается комнаты с ежегодниками в библиотеке академии, периодически там все же появлялись преподаватели, и закрыться там мы не могли; наши голоса были бы слышны снаружи. (Мы с Элейн боялись, что в маленькой городской библиотеке слышимость еще хуже.)
– Мы подумали, может, здесь есть более уединенная комната, – объяснил я мисс Фрост.
– Более уединенная, – повторила библиотекарша.
– Где нас не будет слышно, – добавила своим громовым голосом Элейн. – Нам нужно прогнать свои реплики в «Буре», но мы не хотим никому мешать! – торопливо добавила она – чтобы мисс Фрост, не дай бог, не подумала, что мы ищем звукоизолированное помещение для вышеупомянутого первого оргазма Элейн.
Мисс Фрост посмотрела на меня.
– Вы хотите репетировать в библиотеке, – произнесла она так, как будто это странное желание было логичным продолжением моего намерения писать в библиотеке. Но мисс Фрост не выдала моих планов – моего намерения стать писателем, я имею в виду. (Я еще не открылся своей подруге Элейн; желание сделаться писателем и прочие мои желания пока оставались для нее тайной.)
– Мы можем постараться репетировать тихонько, – сказала Элейн неожиданно тихим – для нее – голосом.
– Нет-нет, милая, вам нужно свободно прогонять реплики так, как они должны звучать на сцене, – сказала ей мисс Фрост, похлопывая ее по руке своей большой ладонью. – Кажется, я знаю место, где вы можете кричать, и никто не услышит.
Как выяснилось, факт существования в библиотеке Ферст-Систер такого места, где можно кричать и не быть услышанным, был меньшим чудом, чем сама комната.
Мисс Фрост повела нас с Элейн вниз по ступенькам, в подвальную комнату, которая, похоже, служила котельной. Библиотека находилась в старом кирпичном здании в георгианском стиле, и первая печь здесь была угольной; почерневшие остатки угольного желоба еще торчали в фрамуге окна. Но неуклюжая угольная печь была опрокинута на бок и задвинута в свободный угол подвала; ее заменила более современная масляная печь. Рядом с печью стоял довольно новый на вид пропановый водонагреватель, а недалеко от окна была устроена отдельная комната (с дверью). В одной из стен комнаты, у потолка, было проделано квадратное отверстие – рядом с тем местом, где из одинокого окна торчали остатки угольного желоба. Когда-то желоб шел из окна в комнату, служившую хранилищем угля. Теперь там размещались спальня и ванная.
В комнате стояла старомодная кровать с изголовьем из латунных прутьев, на вид прочных, как тюремная решетка; к нему крепилась лампа для чтения. В одном углу была маленькая раковина и зеркало, в другом, ничем не отгороженный, одиноким стражем стоял унитаз с деревянным сиденьем. Возле кровати был маленький столик, на котором я заметил аккуратную стопку книг и толстую ароматическую свечу. (В комнате пахло корицей; я догадался, что свеча маскирует запах масляных паров из печки.)
В комнате имелся также открытый платяной шкаф, на полках и вешалках которого, по-видимому, размещался скромный гардероб мисс Фрост. Несомненно, главным украшением комнаты – которую мисс Фрост назвала «мой угольный бункер» – служила вычурная викторианская ванна, все трубы которой были отлично видны (пол комнаты был покрыт фанерой, но не целиком, так что местами виднелась и проводка).
– Когда на улице метель, мне не очень хочется ехать или идти домой, – сказала мисс Фрост, как будто это объясняло сразу всю уютную, но незавершенную обстановку подвальной комнаты. (Ни я, ни Элейн не знали, где живет мисс Фрост, но мы решили, что где-то не очень далеко от библиотеки.)
Элейн уставилась на ванну; ванна стояла на львиных ногах, и вентили у нее были сделаны в виде львиных же голов. Я же, сознаюсь, засмотрелся на латунную кровать с изголовьем из прутьев.
– К сожалению, сидеть тут остается только на кровати, – сказала мисс Фрост. – Если только вы не предпочитаете репетировать в ванне.
По-видимому, ее совершенно не заботило, что мы с Элейн можем заняться на кровати чем-нибудь еще или забраться вдвоем в ванну.
Мисс Фрост собиралась уже оставить нас одних в своей импровизированной спальне, уютном доме вне дома, в буквальном смысле захлопнув дверь у нас перед носом, – когда Элейн Хедли воскликнула:
– Это идеальное место! Спасибо, что помогли нам, мисс Фрост.
– Всегда рада помочь, Элейн, – сказала мисс Фрост. – Будь уверена, вы с Уильямом можете орать тут что есть мочи, никто вас не услышит.
Но перед тем, как закрыть дверь, мисс Фрост посмотрела на меня и улыбнулась.
– Если вам понадобится помощь с репликами – если будут вопросы насчет ударения или произношения – вы знаете, где меня найти.
Я и не догадывался, что мисс Фрост заметила мои проблемы с произношением; при ней я говорил очень мало.
Я был слишком смущен, чтобы ответить, но Элейн не сомневалась ни минуты.








