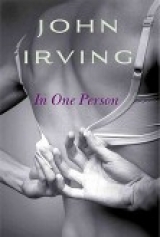
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)
– Черт подери! – услышал я голос Эсмеральды. – Это было потрясающе!
Я сам был потрясен (и испытывал облегчение); мне не просто правда, правда понравилось – я был в восторге! Был ли этот вид секса не хуже (или лучше), чем анальный? Он был другим. В дипломатических целях я всегда говорю – когда меня спрашивают, – что анальный и вагинальный секс мне нравятся «одинаково». Все мои страхи относительно вагин оказались необоснованными.
Но, увы, я несколько затормозил с ответом на ее «Черт подери!» и «Это было потрясающе!» – я размышлял о том, как мне понравилось, но не произнес этого вслух.
– Билли? – спросила Эсмеральда. – А тебе как? Тебе понравилось?
Знаете, не только у писателей есть такая проблема, но для писателей это правда, правда больной вопрос; наш так называемый ход мысли, хоть он и беззвучен, совершенно невозможно остановить.
– Точно не бальная зала, – сказал я. И это после всего, что пришлось пережить в тот день бедной Эсмеральде.
– Не что? – спросила она.
– А, это просто так говорят у нас в Вермонте! – быстро выпалил я. – Просто бессмыслица какая-то, правда. Я даже не уверен, что именно означает это «не бальная зала».
– Но почему ты сказал что-то негативное? – спросила меня Эсмеральда. – «Точно не» что угодно звучит негативно, «точно не бальная зала» похоже на сильное разочарование, Билли.
– Нет, нет – я не разочарован. Я в восторге от твоей вагины! – вскричал я. Сварливая собачка снова гавкнула; Лючия начала повторяться – она вернулась к началу, где была еще доверчивой юной невестой, которую так легко было выбить из колеи.
– Я не «бальная зала» – как будто я всего лишь какой-нибудь спортзал или кухня или вроде того, – сказала Эсмеральда. Затем настала очередь слез – слез по Кеннеди, по ее единственному шансу стать основным сопрано, по ее неоцененной вагине – целого потока слез.
Невозможно взять назад слова «точно не бальная зала»; это просто-напросто не то, что следует произносить после первого вагинального секса. Конечно, я не мог взять назад и то, что заявил Эсмеральде об ее увлечении политикой – о ее недостаточном стремлении сделаться сопрано.
Мы провели вместе Рождество и начало следующего года, но между нами уже возникло недоверие. Однажды ночью я, видимо, что-то пробормотал во сне. Утром Эсмеральда спросила меня:
– Тот приятного вида немолодой мужчина, что был в «Цуфаль» – ну, в тот жуткий вечер, – что там он говорил о писательском курсе? Почему он назвал тебя юным писателем, Билли? Он тебя знает? Вы знакомы?
Э-э, ну – на этот вопрос не было простого ответа. А потом, однажды вечером после работы – это было в январе шестьдесят четвертого – я перешел на другую сторону Кернтнерштрассе и повернул на Доротеергассе к «Кафе Кафих». Я отлично знал, какие посетители собираются там по ночам – только мужчины, и только геи.
– Смотрите-ка, а вот и юный писатель, – скорее всего, сказал Ларри, или, может, просто спросил: «Ты ведь Билл, да?» (Кажется, как раз этим вечером он сказал мне, что решил прочесть тот писательский курс, о котором я просил, – но занятия тогда еще не начались.)
Тем вечером в «Кафе Кафих» – за несколько вечеров до того, как он подкатил ко мне, – Ларри, вероятно, спросил:
– А как же дублерша сопрано? Где эта милая, милая девушка? Не какая-нибудь посредственная леди Макбет, а, Билл?
– Нет, не посредственная, — должно быть, пробормотал я. Мы просто болтали; той ночью ничего не произошло.
Позднее той же ночью я лежал в постели с Эсмеральдой, и она спросила у меня нечто важное.
– Твое произношение – оно настолько австрийское — меня это просто убивает. У тебя не такой уж блестящий немецкий, но говоришь ты как настоящий австриец. Билли, откуда у тебя взялся такой немецкий? Поверить не могу, что не спросила раньше!
Мы только что закончили заниматься любовью. Ну да, на этот раз получилось не столь впечатляюще – хозяйская собачка не лаяла и в ушах у меня не звенело – но это был вагинальный секс, и мы оба получили удовольствие.
– Никакого больше анального секса, Билли, – мне он теперь не нужен, – сказала Эсмеральда.
Разумеется, я знал, что мне-то анальный секс нужен. И понимал, что мне не просто понравилась вагина Эсмеральды; я уже успел привыкнуть к мысли о том, что теперь мне будут нужны и вагины тоже. Конечно, меня покорила не одна конкретная вагина Эсмеральды. Не ее вина, что у нее не было члена.
Мне кажется, во всем был виноват вопрос «Откуда у тебя взялся такой немецкий?». Он заставил меня задуматься о том, откуда «берутся» наши желания; а это темная и извилистая дорожка. Этой ночью я понял, что расстанусь с Эсмеральдой.
Глава 6. Фотографии Элейн, которые я сохранил
В свой предпоследний год учебы в академии Фейворит-Ривер я был на третьем курсе немецкого. Той зимой, после смерти доктора Грау, часть его учеников досталась фройляйн Бауэр – и Киттредж в том числе. Группа была слабая; герр доктор Грау объяснял материал не очень-то вразумительно. Чтобы окончить академию, требовалось изучать иностранный язык три года; в свой выпускной год Киттредж был на третьем курсе немецкого, а это значило, что в прошлом году он завалил экзамен – либо начал изучать другой иностранный язык, а потом по неизвестной причине переключился на немецкий.
– Разве твоя мама не француженка? – спросил я его. (Я предполагал, что дома у него говорят на французском.)
– Мне осточертело выполнять все, чего пожелает моя так называемая мать, – сказал Киттредж. – Разве с тобой, Нимфа, этого еще не произошло?
Киттредж при всем своем высокомерии действительно обладал острым умом, и меня удивляло, почему у него не ладится с немецким; с куда меньшим удивлением я обнаружил, что он ленив. Он был из тех учеников, которым все дается легко, но мало что делал, чтобы показать, что достоин такой одаренности. Иностранные языки требуют воли к запоминанию и терпеливого повторения; раз Киттредж выучил свои реплики для пьесы, значит, способности у него были – на сцене он всегда держался уверенно. Но ему недоставало самодисциплины, которая требуется для изучения любого языка – а в особенности немецкого. Артикли – «эти сраные der, die, das, den, dem», как сердито ворчал Киттредж, – выводили его из терпения.
Киттредж должен был окончить академию в прошлом году, но я по глупости согласился помогать ему с домашними заданиями (в результате Киттредж просто переписывал мои переводы – и на выпускном экзамене, который ему пришлось сдавать самостоятельно, сел в лужу). Я-то уж точно не хотел, чтобы Киттредж завалил немецкий; я понимал, что в этом случае его оставят еще на один год, когда я тоже окажусь в выпускном классе. Но отказать ему, когда он просил о помощи, было трудно.
– Ему трудно отказать, и точка, – скажет потом Элейн. Я и теперь виню себя в том, что не догадался о происходившем между ними.
В зимнем семестре начались прослушивания для очередной пьесы – «весеннего Шекспира», как называл его Ричард Эбботт, чтобы отличать от того Шекспира, которого он ставил в осеннем семестре. В академии Фейворит-Ривер Ричард иногда заставлял нас играть Шекспира и в зимнем семестре тоже.
Как ни обидно это признавать, но, похоже, именно участие Киттреджа в постановках Клуба драмы вызвало скачок популярности наших школьных пьес – несмотря на Шекспира. Когда Ричард зачитал на утреннем собрании список ролей для «Двенадцатой ночи», его объявление вызвало неожиданный интерес; затем этот список вывесили в столовой академии, и ученики в буквальном смысле выстраивались в очередь, чтобы посмотреть на свободных персонажей.
Орсино, герцогом Иллирийским, был наш преподаватель и режиссер Ричард Эбботт. Герцог, не нуждаясь в подсказках моей матери, начинает «Двенадцатую ночь» всем знакомыми пафосными словами: «Любовь питают музыкой; играйте»[5].
Сначала Орсино объявляет о своей любви к графине Оливии, которую играла моя занудная тетя Мюриэл. Оливия отвергает герцога, и тот (не теряя времени) тут же влюбляется в Виолу, и об этом тоже спешит заявить – «вероятно, он больше влюблен в любовь, чем в какую-либо из дам», как выразился Ричард Эбботт.
Мне всегда казалось, что Мюриэл согласилась сыграть эту роль со спокойной душой только потому, что Оливия отвергает Орсино. Ричард все-таки был все еще слишком ведущим актером для Мюриэл; ей так и не удавалось полностью расслабиться в присутствии своего красавца-зятя.
Элейн выбрали на роль Виолы, которая потом переодевается в Цезарио. Как сразу отметила Элейн, Ричард уже просчитал, что Виоле предстоит изображать мужчину: «Виола должна быть плоскогрудой, поскольку большую часть пьесы она переодета мужчиной», – сказала мне Элейн.
Мне было немного не по себе от того, что Орсино и Виола в итоге влюбляются друг в друга – учитывая, что Ричард был заметно старше Элейн, – но, похоже, саму Элейн это не волновало. «Вроде бы в те времена девушки раньше выходили замуж», – вот и все, что она сказала по этому поводу. (Не будь я таким тупицей, я сообразил бы, что у Элейн уже имеется любовник старше нее!)
Я был Себастьяном – близнецом Элейн.
– Отличный вариант для вас обоих, – снисходительно сказал нам Киттредж. – Всем видно, что вы уже как брат с сестрой.
(Тогда я не придал этому значения; видимо, Элейн проговорилась Киттреджу, что мы не привлекаем друг друга в этом смысле.)
Признаюсь, моя голова была занята немного другим; Мюриэл в роли Оливии сперва теряет голову от Элейн (переодетой в Цезарио), а потом влюбляется Себастьяна, в меня – что ж, из этого вышла хорошая проверка той самой намеренной приостановки неверия. Я, со своей стороны, понял, что не могу представить себе, как можно влюбиться в Мюриэл, – и потому не отрывал взгляда от ее оперной груди. Этот Себастьян ни разу не взглянул этой Оливии в глаза – даже восклицая: «И если сплю, пусть вечно длится сон!».
И вот Оливия, чья властность отлично подходила Мюриэл, требует в ответ: «Доверься мне во всем!».
Себастьян, то есть я, уставившись прямо на грудь Мюриэл, будто специально находящуюся прямо на уровне моих глаз, отвечает ей, сраженный любовью: «Да, я готов».
– Билл, ты лучше не забывай, – сказал мне дедушка Гарри, – «Двенадцатая ночь» – это, ясен хрен, комедия.
Когда я стал чуточку повыше и постарше, Мюриэл начала возражать против того, чтобы я пялился на ее грудь. Но следующая пьеса уже не была комедией, и я только сейчас понимаю, что когда мы играли Оливию и Себастьяна в «Двенадцатой ночи», Мюриэл, вероятно, попросту не видела, что я смотрю на ее грудь, из-за этой самой груди. (Учитывая мой рост в то время, бюст Мюриэл как раз загораживал ей обзор.)
Муж тети Мюриэл, мой милый дядя Боб, отлично понимал всю комичность «Двенадцатой ночи». Любовь Боба к выпивке была тяжким бременем для тети Мюриэл, а Ричард, словно в насмешку, выбрал дядю Боба на роль сэра Тоби Белча, родственника Оливии и – в самых ярких своих эпизодах – пьянчугу и хулигана. Но большинство учеников академии обожали Боба так же, как и я сам, – в конце концов, он заведовал приемом учеников и всегда был чересчур сговорчивым. Боб не придавал особого значения тому, что симпатичен ученикам. («Ну, конечно, я им нравлюсь, Билли. Это же я их встретил на собеседовании и зачислил в академию!»)
Боб также преподавал сквош и теннис – отсюда вечные мячики для сквоша. Корты для сквоша располагались в сыром подвале под спортзалом. Когда на том или другом корте попахивало пивом, мальчишки говорили, что на нем, видать, играл тренер Боб – вместе с потом исторгая из себя следы вчерашних возлияний.
тетя Мюриэл и бабушка Виктория в один голос жаловались дедушке Гарри, что роль сэра Тоби «поощряет» пьянство Боба. Они обвиняли Ричарда в «несерьезном отношении» к страданиям несчастной тети Мюриэл, которые причиняли ей загулы Боба. Но, хотя обе они жаловались на Ричарда дедушке Гарри, ни одна из них не высказала ни слова недовольства самому Ричарду.
В конце концов, Ричард появился «буквально в последний момент» (выражаясь шаблонным языком бабушки Виктории), чтобы успеть спасти мою травмированную мать; они говорили об ее «спасении» так, как будто никто другой с этой задачей не справился бы. Бабушка Виктория и тетя Мюриэл больше не были обязаны заботиться о маме, поскольку объявился Ричард и пересадил ее к себе на шею.
По крайней мере, именно такое впечатление сложилось у меня при наблюдении за ними – Ричард был непогрешим, но если, по мнению моих тети и бабушки, он все же совершал что-то дурное, они многословно жаловались дедушке Гарри, как будто он мог повлиять на Ричарда. Мы с кузиной Джерри слышали все, поскольку, когда Ричарда и мамы не было поблизости, моя ворчливая бабушка и любопытная тетя неустанно обсуждали их. У меня сложилось ощущение, что они будут называть эту пару «молодоженами», пусть и в шутку, даже после двадцати лет брака! С возрастом я понял, что все они – не только тетя и бабушка, но и дедушка Гарри, и Ричард – обращались с моей матерью как с капризным младенцем. (Они ходили вокруг нее на цыпочках, словно она была ребенком, способным по неосторожности причинить себе вред.)
Дедушка Гарри никогда не критиковал Ричарда Эбботта; может, Гарри и был согласен с тем, что Ричард спас маму, но, мне кажется, дедушка был достаточно умен, чтобы понимать, что в первую очередь Ричард спас ее от бабушки Виктории и тети Мюриэл – а не от гипотетического мужчины, который мог бы объявиться и вскружить голову моей легко соблазнимой матери.
Однако если вернуться к той несчастливой постановке «Двенадцатой ночи», даже дедушка Гарри испытывал сомнения насчет подбора актеров. Ричард дал ему роль Марии, камеристки Оливии. Мы с дедушкой считали, что Мария должна быть моложе, но главной трудностью в этой роли для Гарри было то, что Мария по сюжету выходит замуж за сэра Тоби Белча.
– Поверить не могу, что мне придется обручиться с собственным зятем, который вдобавок настолько младше меня, – грустно сказал однажды воскресным вечером дедушка Гарри, когда я ужинал у них с бабушкой.
– Ты лучше не забывай, что «Двенадцатая ночь», ясен хрен, комедия, – напомнил я ему.
– Да, пожалуй, хорошо, что это только на сцене, – сказал Гарри.
– Ты со своим «только на сцене», – рявкнула бабушка Виктория. – Мне иногда кажется, Гарольд, что ты малость не в своем уме.
– Терпимее, Вики, терпимее, – нараспев произнес дедушка Гарри, подмигнув мне.
Может, поэтому я и решился рассказать ему то, что уже рассказал миссис Хедли, – о моей слабеющей влюбленности в Ричарда, о моем растущем влечении к Киттреджу и даже о мастурбации на такую неправдоподобную фантазию, как Марта Хедли в тренировочном лифчике – но (нет, все еще нет) не о моей тайной любви к мисс Фрост.
– Билл, ты очень славный мальчик, – я хочу сказать, что ты испытываешь чувства к другим людям и изо всех сил стараешься не задеть их чувства. Это похвально, очень похвально, – сказал мне дедушка Гарри. – Но будь осторожен и не давай задеть собственные чувства. Влечение к одним людям безопаснее, чем к другим.
– Ты хочешь сказать, чем к мальчикам? – спросил я.
– Чем к некоторым мальчикам. Да. Чтобы без опаски открыть свое сердце, тебе нужен особенный мальчик. Кое-кто может причинить тебе боль, – сказал дедушка Гарри.
– Киттредж, например, – предположил я.
– Да, я так полагаю. Да, – сказал Гарри. Он вздохнул. – Может, не здесь, Билл, не в этой школе и не сейчас. Может, этому влечению к другим мальчикам или мужчинам придется подождать своего часа.
– Но когда и где наступит этот час? – спросил я его.
– Э-э, ну… – начал дедушка Гарри и умолк. – Кажется, мисс Фрост очень удачно подбирает тебе книги, – снова заговорил он. – Готов поспорить, она может тебе посоветовать, что почитать – я имею в виду, о влечении к другим мальчикам и мужчинам и о том, где и когда можно давать ему волю. Сразу хочу сказать, я этих книг не читал, но наверняка такие истории есть; я уверен, что такие книги существуют, и, может быть, мисс Фрост о них знает.
Я едва не выпалил, что мисс Фрост тоже относится к моим странным влюбленностям, но что-то меня удержало; быть может, то, что эта влюбленность была самой сильной из всех.
– Но как мне обратиться за этим к мисс Фрост? – сказал я. – Я не знаю, с чего начать – ну то есть перед тем, как спрашивать, есть ли книги на эту тему или нет.
– Я уверен, что ты можешь рассказать мисс Фрост все, что сказал мне, – ответил дедушка Гарри. – Есть у меня ощущение, что она отнесется к твоему рассказу сочувственно.
Он обнял меня и поцеловал в лоб – на его лице читались и любовь, и беспокойство за меня. Внезапно я увидел его таким, каким часто видел на сцене – где он почти всегда был женщиной. Слово сочувственно вызвало у меня в памяти давнее воспоминание; может, я все это выдумал, но если бы пришлось биться об заклад, я сказал бы, что это все-таки воспоминание.
Не могу сказать, сколько лет мне было – самое большее десять или одиннадцать. Это было задолго до появления Ричарда Эбботта; я еще носил фамилию Дин, а моя мать была одинока. Но Мэри Маршалл Дин уже давно работала суфлером «Актеров Ферст-Систер», и, несмотря на мой невинный возраст, я давно уже был своим за кулисами. Мне позволялось ходить повсюду – при условии, что я не мешал актерам и не шумел. («Ты тут находишься не чтобы говорить, Билли, – сказала мне как-то мама, – а чтобы слушать и смотреть».)
Кажется, кто-то из английских поэтов – может, Оден? – сказал, что прежде чем что-то написать, нужно что-то заметить. (Признаюсь, сам я это услышал от Лоуренса Аптона; я просто предполагаю, что это слова Одена, потому что Ларри был большим его поклонником.)
На самом деле не важно, кто это сказал, – настолько очевидно, что это правда. Прежде чем что-то написать, нужно что-то заметить. Та часть моего детства, которую я провел за кулисами нашего маленького любительского театра, стала периодом замечания в моей писательской карьере. И одной из замеченных вещей, если не первой из них, было то, что не все считали дедушкино исполнение женских ролей в постановках «Актеров Ферст-Систер» забавным или достойным восхищения.
Мне нравилось сидеть за кулисами, просто слушая и наблюдая. Мне нравились перемены – например, когда актеры начинали читать свои роли наизусть и моей матери приходилось приниматься за работу. Потом наступал волшебный момент, когда даже актеры-любители полностью входили в роль; сколько бы репетиций я ни посещал, я помню эту мимолетную иллюзию, когда пьеса внезапно становилась реальностью. И однако на репетиции в костюмах я всегда видел или слышал что-то совершенно новое. И потом, в вечер премьеры, меня ждало новое переживание – когда я впервые смотрел представление вместе с публикой.
Помню, что даже ребенком я всегда нервничал перед премьерой не меньше, чем актеры. С моего укромного места за кулисами у меня был довольно неплохой (хотя и частичный) обзор сцены. Но еще лучше я видел зрителей – пусть только на двух-трех первых рядах. (В зависимости от того, где садилась мама, я смотрел на эти первые ряды либо слева, либо справа.)
Я видел лица зрителей вполоборота, но люди в зале смотрели на сцену, а не на меня. По правде сказать, это было вроде подглядывания – я чувствовал себя так, словно шпионю за зрителями или, точнее, за этим маленьким участком зала. В зале было темно, но на первые ряды падал свет со сцены; конечно, по ходу пьесы освещение менялось, но я почти всегда мог разглядеть лица зрителей и разобрать их выражения.
Мне казалось, что я «подглядываю» за театралами Ферст-Систер из-за того, что когда ты сидишь в зале и твое внимание захвачено пьесой, ты не подозреваешь о том, что кто-то может наблюдать за тобой. Но я-то наблюдал за ними; по выражениям их лиц я видел все, что они думали и чувствовали. К премьере я уже знал всю пьесу наизусть; в конце концов, я бывал почти на всех репетициях. К тому моменту меня гораздо больше интересовала реакция зрителей, чем происходящее на сцене.
На каждой премьере – не важно, какую из женских ролей играл дедушка Гарри, – я не уставал наблюдать за реакцией зрителей на Гарри Маршалла в образе женщины.
К примеру, милейший мистер Поджо, наш бакалейщик. Он был так же лыс, как дедушка Гарри, но вдобавок, к несчастью, близорук – он неизменно сидел в первом ряду, и даже оттуда ему приходилось щуриться. В тот момент, когда дедушка выходил на сцену, мистер Поджо начинал сотрясаться от сдерживаемого смеха; по щекам у него катились слёзы, и мне приходилось отворачиваться от его широкой щербатой улыбки, иначе я и сам расхохотался бы.
В отличие от него, миссис Поджо не приходила в восторг от женских воплощений дедушки Гарри; при его появлении она хмурилась и закусывала нижнюю губу. По-видимому, она не одобряла и того, как восхищался дедушкой Гарри ее муж.
А еще был мистер Риптон – Ральф Риптон, распиловщик. Он работал на главной пиле на лесопилке дедушки Гарри; эта работа требовала большого мастерства (и была очень опасной). У Ральфа Риптона на левой руке недоставало большого пальца и половины указательного. О том, как это произошло, я слышал множество раз; и дедушка Гарри, и его партнер Нильс Боркман обожали рассказывать эту кровавую историю.
Я всегда думал, что дедушка Гарри и мистер Риптон – друзья; они точно были ближе, чем просто товарищи по работе. Однако в женском облике дедушка не нравился Ральфу; всякий раз, когда мистер Риптон видел дедушку Гарри на сцене, на его лице появлялась недовольная, осуждающая гримаса. Жена мистера Риптона сидела рядом со своим мужем и смотрела на сцену без всякого выражения – как будто при виде Гарри Маршалла в женской одежде у нее что-то перегорело в мозгу.
Ральф Риптон с привычной сноровкой набивал свою трубку, не отрывая сурового взгляда от сцены. Сначала я думал, что мистер Риптон набивает трубку, чтобы покурить в антракте, – он всегда пользовался культяпкой отрезанного указательного пальца, чтобы плотно утрамбовать табак в чашке трубки. Но потом я заметил, что чета Риптонов никогда не возвращается с антракта. Они приходили в театр с благочестивой целью переполниться отвращением к увиденному и уйти, не дожидаясь окончания.
Дедушка Гарри сказал мне, что Ральфу Риптону приходится сидеть в первом ряду, чтобы хоть что-нибудь услышать; главная пила на лесопилке издавала такой высокий вой, что практически оглушила его. Но я видел, что с распиловщиком еще что-то не в порядке, помимо глухоты.
Были и другие лица в зале – в первых рядах сидело много постоянных зрителей, – и хотя я не знал ни их имен, ни профессий, мне не составляло труда (даже ребенком) разглядеть их упорную неприязнь к дедушке Гарри в виде женщины. Справедливости ради надо сказать, что когда дедушка Гарри целовался на сцене – я имею в виду, с мужчиной, – большинство зрителей смеялись, хлопали и издавали одобрительные возгласы. Но у меня уже был наметан глаз на недовольные лица – а они были всегда. Я видел, как люди морщатся или сердито отворачиваются; я видел, как их глаза сужаются от отвращения.
Гарри Маршалл играл всевозможных женщин – он был безумной дамой, кусающей собственные руки, он был рыдающей невестой, брошенной у алтаря, он был серийной убийцей (парикмахершей), которая подсыпала яд своим дружкам, он был хромой женщиной-полицейским. Дедушка обожал театр, а я обожал смотреть на его игру, но, похоже, в Ферст-Систер, штат Вермонт, были и люди с весьма ограниченным воображением; они знали Гарри Маршалла как владельца лесопилки – они не могли принять его как женщину.
И в самом деле, я видел больше, чем явное недовольство и осуждение на лицах горожан – я видел больше чем насмешку, больше чем неодобрение. На некоторых лицах я видел ненависть.
Одного из таких зрителей я не знал по имени, пока не увидел его на своем первом утреннем собрании в академии Фейворит-Ривер. Это был доктор Харлоу, наш школьный врач – тот самый, который в разговорах с мальчишками держался столь сердечно и запанибрата. На лице доктора Харлоу читалась убежденность, что любовь Гарри Маршалла к женским ролям – недомогание; на его лице была непререкаемая вера в то, что страсть дедушки Гарри к переодеваниям излечима. Я начал бояться и ненавидеть доктора Харлоу еще до того, как узнал, кто он такой.
И даже тогда, ребенком, сидя за сценой, я думал: «Да бросьте! Вы что, не понимаете? Это же понарошку!». Но эти зрители со злыми глазами не собирались попадаться на эту удочку. Их лица говорили: «Это не бывает понарошку; нас так просто не надуешь».
Ребенком меня пугало то, что я видел из своего тайного укрытия за кулисами. Я так и не забыл выражений на их лицах. Мне было семнадцать, и я только что рассказал деду про свои влюбленности в мужчин и мальчиков и про странные фантазии о Марте Хедли в тренировочном лифчике, но я все еще боялся того, что увидел когда-то на лицах зрителей в театре «Актеров Ферст-Систер».
Я рассказал дедушке Гарри, как наблюдал за некоторыми горожанами, пока они наблюдали за ним.
– Им было все равно, что это все понарошку, – сказал я ему. – Они просто знали, что им это не нравится. Они ненавидели тебя – Ральф Риптон с женой, и даже миссис Поджо, не говоря уже о докторе Харлоу. Они ненавидели тебя, когда ты притворялся женщиной.
– Знаешь, что я тебе скажу, Билл? – сказал дедушка Гарри. – Я думаю, что притворяться можно кем захочешь.
К тому времени у меня в глазах стояли слезы, потому что я боялся за себя – почти так же, как ребенком, сидя за кулисами, боялся за дедушку Гарри.
– Я украл лифчик Элейн Хедли, потому что мне хотелось его примерить! – вырвалось у меня.
– Э-э, ну, Билл, и на старуху бывает проруха. Я бы на твоем месте не особенно переживал по этому поводу, – сказал дедушка Гарри.
Удивительно, какое облегчение я испытал, увидев, что ничем не могу его шокировать. Гарри Маршалл волновался только лишь о моей безопасности, как когда-то я сам волновался за него.
– А Ричард тебе рассказывал? – неожиданно спросил меня дедушка Гарри. – Какие-то придурки запретили «Двенадцатую ночь» – я имею в виду, раньше какие-то недоумки просто запрещали показывать «Двенадцатую ночь» – и такое случалось не однажды!
– Почему? – спросил я. – Глупость какая-то. Это же комедия, романтическая комедия! Из-за чего ее было запрещать? – воскликнул я.
– Э-э, ну – у меня есть предположение, – сказал дедушка Гарри. – Сестра-близнец Себастьяна, Виола – она очень похожа на своего брата, в этом и завязка, так ведь? Поэтому Себастьяна принимают за Виолу – когда она переодевается мужчиной и начинает разгуливать повсюду под именем Цезарио. Разве не понимаешь, Билл? Виола – трансвестит! Это и навлекло на Шекспира неприятности! Судя по тому, что ты мне рассказал, ты и сам должен был заметить, что у невежд и обывателей отключается чувство юмора, когда дело касается переодеваний.
– Да, я заметил, – сказал я.
Но мучило меня в итоге то, чего я не заметил. За все те годы, что я смотрел из-за кулис на зрителей в зале, я ни разу не взглянул на суфлера. Я ни разу не заметил выражения лица моей матери, когда ее отец выходил на сцену в образе женщины.
Тем зимним воскресным вечером, пока я шел обратно в Бэнкрофт после разговора с дедушкой Гарри, я поклялся, что прослежу за мамой, когда Гарри в следующий раз будет играть Марию в «Двенадцатой ночи».
Я знал, что в пьесе есть моменты, когда Мария находится на сцене, а Себастьян за кулисами, – и тогда я смогу проследить за мамой и увидеть выражение ее лица. Я боялся того, что могу увидеть на ее хорошеньком личике; я сомневался, что она будет улыбаться.
У меня с самого начала было дурное предчувствие по поводу «Двенадцатой ночи». Киттредж убедил нескольких своих товарищей по борцовской команде прийти на прослушивание. Ричард раздал четверым из них, как он сам выразился, «небольшие роли».
Но Мальволио – не «небольшая роль»; на роль самонадеянного и самовлюбленного дворецкого Оливии, которому внушают, будто бы графиня к нему неравнодушна, был выбран тяжеловес из борцовской команды, нытик и ворчун. Вынужден сказать, что Мэдден, мнивший себя вечной жертвой, оказался удачным выбором; Киттредж сообщил нам с Элейн, что Мэдден страдает от синдрома «последнего в очереди».
В то время все борцовские поединки начинались с самой легкой весовой категории; тяжеловесы боролись в последнюю очередь. Если счет был примерно равным, все зависело от того, кто победит в тяжелом весе – а Мэдден обычно проигрывал. У него вечно был такой вид, как будто его обманули. Как искренне этот Мальволио, которого заперли, приняв за сумасшедшего, негодовал на свою судьбу: «Никого в мире не обижали так жестоко», – скулил Мэдден на сцене.
– Когда тебе нужно будет войти в роль, Мэдден, – объяснял Киттредж своему незадачливому сотоварищу, – просто вспомни, как нечестно быть тяжеловесом.
– Но это и правда нечестно! – возмутился Мэдден.
– Из тебя получится отличный Мальволио. Я это предвижу, – снисходительно сказал ему Киттредж.
Другой борец – один из легковесов, старавшийся во что бы то ни стало остаться в своей категории, – был выбран на роль приятеля сэра Тоби, сэра Эндрю Эгьючика. Этот парень, по имени Делакорт, был тощим как смерть. От постоянного обезвоживания у него то и дело пересыхало во рту. Он полоскал рот водой из бумажного стаканчика – и затем выплевывал воду в другой стаканчик.
– Делакорт, не перепутай стаканы, – говорил ему Киттредж. (Однажды я слышал, как он назвал Делакорта «Два стакана».)
Нас бы не удивило, если бы Делакорт упал в голодный обморок; в столовой его видели нечасто. Он то и дело проводил рукой по волосам, чтобы убедиться, что они не выпадают.
– Потеря волос говорит о том, что организм голодает, – серьезно сообщил нам Делакорт.
– Потеря здравого рассудка тоже, – сказала ему Элейн, но это замечание Делакорт пропустил мимо ушей.
– Почему бы Делакорту просто не перейти в следующую категорию? – спросил я Киттреджа.
– Потому что тогда из него отбивную сделают, – сказал мне Киттредж.
– А-а.
Два остальных борца стали капитанами кораблей. Один из капитанов не очень важен – это капитан потерпевшего крушение корабля, друг Виолы. Не помню, как звали того борца, который играл его. Второй капитан – это друг Себастьяна, Антонио. Я боялся, что Ричард возьмет на эту роль Киттреджа, поскольку Антонио должен быть храбрым и бесшабашным. В дружбе Антонио и Себастьяна есть такая искренняя привязанность, что я тревожился, как она у меня получится – если Антонио будет играть Киттредж.
Но либо Ричард почувствовал мою тревогу, либо он понимал, что ставить Киттреджа на эту роль нерачительно. Скорее всего, Ричард с самого начала приберегал для Киттреджа роль получше.
Борец, которого Ричард выбрал на роль Антонио, был симпатичный парень по имени Уилок; ему удалось в полной мере выразить неустрашимость удалого капитана.








