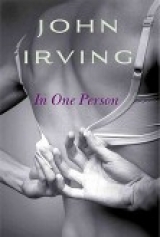
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц)
Ну ладно – может, у Киттреджа и получилось бы. Ему досталась роль Фердинанда, и тот получился восхитительно сексуальным; Киттредж весьма убедительно изображал любовь к Миранде, причиняя тем самым нескончаемые страдания Элейн Хедли, своей партнерше по сцене.
«Мне, кроме вас, товарища не надо»[1], – говорит Миранда Фердинанду.
А Фердинанд откликается: «Я вас превыше всех сокровищ мира / Люблю, ценю, боготворю».
Как нелегко, наверное, было Элейн слышать эти слова в свой адрес репетицию за репетицией, при том что вне сцены Киттредж неизменно игнорировал (или унижал) ее. Пускай он и стал обращаться с нами «чуть помягче» после начала репетиций «Бури», это не значит, что он не бывал иногда по-прежнему невыносим.
Ричард взял меня на роль Ариэля; в списке действующих лиц Шекспир называет его «духом воздуха».
Нет, невозможно, чтобы Ричард мог предугадать мою только просыпающуюся и пока неясную сексуальную ориентацию. Он объяснил актерам, что Ариэль обладает «полиморфным полом – который зависит скорее от его облачения, чем от физических признаков».
После первой ремарки «Появляется Ариэль» (действие 1, сцена 2) Ариэль говорит Просперо: «Повели, / И Ариэль – весь твой!». Ричард обратил внимание всего состава – и мое в особенности – на то, что здесь используется местоимение мужского рода. (И в той же сцене есть ремарка для Ариэля: «он играет и поет».)
Трагический для меня момент настает, когда Просперо велит Ариэлю: «Ступай и обернись морскою нимфой. / Будь видим мне – и никому другому».
К несчастью, я не мог сделаться невидимым для зрителей. Появление Ариэля «в образе морской нимфы» неизменно вызывало всеобщий хохот – даже когда я репетировал без костюма и грима. Именно из-за этой ремарки Киттредж начал звать меня «Нимфой».
Я помню в точности, как объяснял это Ричард: «Оставить Ариэлю мужской пол проще, чем обрядить еще одного певчего в женское платье». (Но именно в женское платье – по крайней мере, в женский парик – меня и обрядили!)
От ушей Киттреджа не укрылись и другие слова Ричарда: «Возможно, что Шекспир видел переход от Калибана через Просперо к Ариэлю как своего рода эволюцию духа. Калибан – это земля и вода, грубая сила и вероломство. Просперо – это разум и власть человека над природой, совершенный алхимик. Ариэль же, – сказал Ричард, улыбнувшись мне (и эту улыбку Киттредж тоже заметил), – Ариэль – дух огня и воздуха, свободный от земных забот. Быть может, Шекспир понимал, что Ариэль в явно женском образе может отвлечь зрителя от его концепции. Я считаю, что пол Ариэля изменчив».
– Иными словами, на выбор режиссера? – спросил Ричарда Киттредж.
Наш режиссер и преподаватель внимательно посмотрел на Киттреджа, прежде чем ответить.
– Пол ангелов тоже изменчив, – сказал Ричард. – Да, Киттредж, на выбор режиссера.
– Но как должна выглядеть так называемая морская нимфа? – не унимался Киттредж. – Как девчонка, да?
– Вероятно, – сказал Ричард еще осторожнее.
Я пытался вообразить, какой грим и костюм у меня будут в образе невидимой морской нимфы; но даже мне не удалось предвидеть парик из зеленых «водорослей» и малиновые борцовские лосины. (Малиновый и серебристо-серый – «замогильно-серый», как говорил дедушка Гарри – были цветами академии).
– Значит, пол Билли… изменчив, – сказал Киттредж с улыбкой.
– Не Билли, а Ариэля, – поправил Ричард.
Но Киттредж своего уже добился; актерский состав «Бури» запомнил слово «изменчивый». И данное Киттреджем прозвище «Нимфа» пристало ко мне. Мне предстояло учиться в Фейворит-Ривер еще два года, и эти два года я оставался Нимфой.
– Знаешь, Нимфа, как бы тебя ни красил костюм и грим, – доверительно сообщил мне Киттредж, – мама твоя все-таки штучка погорячее.
Я знал, что мама красива, и к семнадцати годам начал замечать, как поглядывают на нее другие ученики (школа-то была только для мальчиков). Но никто другой так прямо не говорил мне о матери; как и всегда при разговоре с Киттреджем, я не нашелся, что ему ответить. Я уверен, что слово «горячий» тогда еще не использовалось в том значении, в котором применил его Киттредж. Однако он явно употребил его именно в этом смысле.
Когда Киттредж заговаривал о собственной матери, что случалось нечасто, он обычно строил теории насчет возможной подмены.
– Может, моя настоящая мать умерла при родах, – говорил Киттредж, – и мой отец нашел какую-нибудь незамужнюю женщину в той же больнице – какую-нибудь несчастную (ее ребенок родился мертвым, но она еще об этом не знала), похожую на мою мать. И меня подменили. Мой отец способен на такое. Я не утверждаю, что эта женщина знает, что она мне не родная мать. Может, она даже считает, что это отец мне не родной! В то время она, наверное, принимала всякие препараты – у нее была депрессия и даже мысли о самоубийстве. Не сомневаюсь, она верит в то, что она моя мать, – просто она не ведет себя как мать. Некоторые ее поступки в принципе противоречат материнству. Я просто хочу сказать, что мой отец никогда не нес ответственности за свое поведение с женщинами – любыми женщинами. Отец просто заключает сделки. Эта женщина, может, и похожа на меня, но она не моя мать – она вообще ничья мать.
– Напрасно Киттредж от нее открещивается, – сказала мне Элейн. – Эта женщина выглядит как его мать – и как отец!
Когда я передал Элейн Хедли, что сказал Киттредж о моей маме, Элейн предложила сообщить ему наше мнение о его матери, составленное на основании ее бесстыдного разглядывания на борцовском матче.
– Скажи ему, что его мама похожа на него, только с сиськами, – посоветовала Элейн.
– Сама скажи, – ответил я; мы оба знали, что я этого не сделаю. Элейн тоже не собиралась говорить с Киттреджем о его матери.
Поначалу Элейн боялась Киттреджа не меньше, чем я, – и уж точно не стала бы произносить при нем слово «сиськи». Она осознавала без иллюзий, что унаследовала плоскую грудь своей матери. Однако Элейн вовсе не была такой же невзрачной; она была худой и нескладной, и груди у нее не было, но зато было хорошенькое личико – и, в отличие от матери, Элейн никогда не станет ширококостной. Она была миниатюрной, из-за чего ее громовой голос звучал еще более поразительно. Однако поначалу присутствие Киттреджа настолько ее пугало, что она бормотала себе под нос или хрипло каркала; порой невозможно было разобрать, что она говорит. Элейн слишком боялась звучать громко рядом с ним. «От Киттреджа у меня очки запотевают», – так она выражалась.
Их первая встреча на сцене – в образе Фердинанда и Миранды – была ослепительна; никогда прежде две души не тянулись друг к другу столь явно. Увидев Миранду, Фердинанд называет ее «чудом».
«Поверь мне, я не чудо, / А просто девушка», – отвечает Миранда (Элейн) резонирующим, гулким голосом. Однако вне сцены Киттредж вынуждал Элейн стесняться своего грохочущего голоса. В конце концов, ей было всего-то шестнадцать; Киттреджу было восемнадцать – без малого тридцать.
Однажды вечером мы с Элейн возвращались в общежитие после репетиции – Хедли жили в том же корпусе, что и мы с мамой и Ричардом Эбботтом, – и тут перед нами, как по волшебству, материализовался Киттредж. (Как он обычно и делал.)
– Симпатичная из вас вышла парочка, – сообщил он нам.
– Мы не парочка! – выпалила Элейн, гораздо громче, чем намеревалась. Киттредж шутливо пошатнулся, будто от невидимого удара, и зажал себе уши.
– Нимфа, я обязан тебя предупредить – тебе грозит возможная потеря слуха, – сказал мне Киттредж. – Когда у этой маленькой леди случится первый оргазм, лучше тебе быть в берушах. И на твоем месте я бы не занимался этим в общежитии, – предостерег он, – иначе ее услышит вся общага.
И он неспешно удалился по другой дорожке; Киттредж жил в общежитии для спортсменов, возле спортзала.
Было слишком темно, невозможно было разобрать, покраснела ли Элейн Хедли. Я легонько дотронулся до ее лица, только чтобы понять, плачет ли она; Элейн не плакала, но щека ее была горячей, и она оттолкнула мою руку.
– Никаких оргазмов у меня не будет! – крикнула она вслед Киттреджу.
Мы находились в четырехугольном дворе между зданиями общежитий; в некоторых окнах горел свет, и хор голосов восторженно заулюлюкал – как будто сотня невидимых мальчишек услышала ее. Но Элейн слишком переволновалась; я сомневался, что Киттредж (или кто-либо другой, кроме меня) понял ее. Я был неправ, хотя крик Элейн, пронзительный, как полицейская сирена, прозвучал скорее как «Никотин на газ нам поменял не пудель!». (Или подобная неразборчивая чепуха.)
Но Киттредж уловил смысл ее слов; его приторно-саркастичный голос донесся до нас откуда-то из темноты. Как это ни жестоко, но именно словами красавца Фердинанда Киттредж воззвал из темноты к моей подруге Элейн, которая (в тот момент) не очень-то чувствовала себя Мирандой.
«Если / Ты дева и свободна, – королевой / Неаполя ты будешь!» – клянется Миранде Фердинанд, и именно эти слова выкрикнул Киттредж. Двор погрузился в гробовое молчание; когда мальчишки из академии Фейворит-Ривер слышали голос Киттреджа, они цепенели и умолкали в благоговении.
– Спокойной ночи, Нимфа! – снова услышал я Киттреджа. – Спокойной ночи, Неаполь!
Так мы с Элейн получили свои прозвища. Если Киттредж давал кому-то имя, это было по-своему почетно, но сами клички были обидными и прилипчивыми.
– Черт, – сказала Элейн. – Могло быть и хуже, Киттредж мог прозвать меня Девой или Девицей.
– Элейн? – сказал я. – Ты мой единственный настоящий друг.
– Раб гнусный, – рявкнула она.
Похожее на лай эхо раскатилось по четырехугольному двору. Оба мы знали, что с этими словами Миранда обращается к Калибану[2], незаконченному творению, чудовищу, которого Шекспир называет «уродливым невольником-дикарем».
Просперо бранит Калибана: «Ты с нами жил, пока не попытался / Дочь обесчестить!».
Калибан и не пытается это отрицать. Он ненавидит и Просперо, и его дочь («Пусть чары Сикораксы, жабы, крысы / Вас заедят!»), хотя некогда он желал Миранду и жалеет, что не «расплодил» на острове маленьких Калибанов. Калибан, несомненно, мужского пола, но неясно, насколько он человек.
Когда шут Тринкуло впервые видит Калибана, он спрашивает: «Это что такое? Человек или рыба? Мертвое или живое?».
Я знал, что Элейн Хедли просто валяет дурака, обращаясь ко мне, как Миранда к Калибану, – но когда мы приблизились к общежитию, свет из окон упал на ее заплаканное лицо. С задержкой на минуту-другую насмешка Киттреджа над любовью Фердинанда и Миранды все же сработала; Элейн плакала.
– Ты мой единственный друг, – прорыдала она.
В порыве жалости я обнял ее за плечи; это вызвало новую волну одобрительных возгласов от невидимых зрителей. Знал ли я, что этой ночью начинается мой маскарад? Осознанно ли я создавал у мальчишек впечатление, что Элейн Хедли – моя девушка? Притворялся ли я даже в этот момент? Сознавал я это или нет, но я использовал Элейн Хедли как маскировку. Некоторое время мне удавалось морочить голову Ричарду Эбботту и дедушке Гарри – не говоря уже о мистере Хедли, его невзрачной жене Марте и (пусть недолго и в меньшей степени) моей матери.
Да, я видел, что мама переменилась ко мне. Она была так ласкова со мной, пока я был маленьким. Став подростком, я начал задаваться вопросом, что же случилось с тем маленьким мальчиком, которого она когда-то любила.
Я даже начал один из ранних романов с такой длиннющей вымученной фразы: «Если верить моей матери, я сделался сочинителем еще до того, как начал писать книги, под чем она подразумевала не только то, что я сочинял и придумывал, но и что я предпочитал фантазирование и чистое воображение тому, что обычно нравится людям, – конечно, она имела в виду реальность».
Мамина оценка моего «чистого воображения» была не слишком-то лестной. Она считала художественную литературу легкомысленной; нет, хуже того.
Однажды на Рождество – кажется, это было первое Рождество за несколько лет, когда я приехал в Вермонт повидать своих, – я строчил что-то в записной книжке, и мама спросила:
– И что ты теперь пишешь, Билли?
– Роман, – ответил я ей.
– Ты, наверное, просто счастлив, – неожиданно сказала она дедушке Гарри, который со временем стал туговат на ухо – видимо, сказалась работа на лесопилке.
– Я? А почему это я должен быть счастлив, что Билл пишет очередной роман? Не хочу сказать, что мне не понравился твой последний роман, Билл, ясен хрен, он мне понравился! – тут же заверил меня дедушка Гарри.
– Ну конечно, он тебе понравился, – сказала ему мама. – Романы – это почти как переодевание в женщин, правда?
– Э-э, ну… – начал дедушка Гарри и замолчал. По мере того, как Гарри старел, он все чаще прерывал себя и недоговаривал начатое.
Я знаю по себе, каково это. Еще подростком, почувствовав, что мама уже не так мила со мной, как раньше, я тоже приобрел привычку обрывать себя и не говорить того, что собирался сказать. Теперь я избавился от нее.
Спустя много лет после того, как я покинул академию Фейворит-Ривер, на пике моего интереса к транссексуалкам – я имею в виду свидания с ними, а не превращение в одну из них, – я ужинал с Донной и рассказал ей о жизни дедушки Гарри на сцене в женском образе.
– Только на сцене? – спросила Донна.
– Насколько мне известно, – ответил я, но ей невозможно было лгать. Одним из немногих неприятных свойств Донны было то, что она всегда чувствовала, когда от нее что-то пытались скрыть.
Бабушки Виктории не было уже больше года, когда я впервые услышал от Ричарда, что никому не удается убедить дедушку Гарри расстаться с одеждой моей покойной бабушки. (На лесопилке дедушка Гарри, ясен хрен, одевался как дровосек.)
В конце концов я рассказал Донне, что дедушка Гарри проводил вечера в нарядах своей покойной жены – в уединении своего дома на Ривер-стрит. Я оставил за скобками приключения Гарри с переодеванием в том самом доме престарелых, который они с Нильсом Боркманом (много лет назад) построили для стариков Ферст-Систер. Остальные обитатели жаловались, что Гарри постоянно удивляет их своими перевоплощениями. (Как однажды сказал мне дедушка Гарри, «ты и сам должен был заметить, что у невежд и обывателей отключается чувство юмора, когда дело касается переодеваний».)
К счастью, когда Ричард Эбботт сообщил мне о происшествиях в доме престарелых, дедушкин дом на Ривер-стрит еще не успели продать; он был только объявлен к продаже. Мы с Ричардом быстро переселили дедушку Гарри в знакомую обстановку, в дом, где он столько лет прожил с бабушкой Викторией. Бабушкину одежду также перевезли в дом на Ривер-стрит, и сиделка, которую мы с Ричардом наняли, чтобы круглосуточно присматривать за дедушкой Гарри, не возражала против превращения Гарри в женщину – по-видимому, уже окончательного. Сиделка с теплотой вспоминала множество женщин, которых Гарри Маршалл сыграл на сцене.
– Билли, а тебе приходило когда-нибудь в голову переодеться в женщину? – однажды спросила меня Донна.
– Честно говоря, нет, – ответил я ей.
Мое влечение к транссексуалкам было довольно избирательным. (Прошу прощения, но тогда мы еще не употребляли слово «трансгендер» – вплоть до восьмидесятых.) Трансвеститы меня никогда не интересовали, а из транссексуалок меня волновали только, что называется, «достоверные» – это одно из немногих прилагательных, до сих пор вызывающих у меня проблемы по части произношения. Кроме того, грудь должна была быть натуральной – я ничего не имел против гормонов, но никаких имплантов – и, что неудивительно, я предпочитал маленькие груди.
Собственная женственность очень много значила для Донны. Она была высокой, но стройной – даже руки у нее были тонкими – и с безупречно гладкой кожей (я знал много куда более волосатых женщин). Она не выходила на улицу, не уложив волосы; она была очень стильной.
Донна стеснялась своих рук, хотя они были не настолько крупными и сильными, как у мисс Фрост. Донна не любила держаться со мной за руки, потому что у меня ладони были меньше.
Она приехала из Чикаго и пыталась обосноваться в Нью-Йорке – как я слышал, после нашего разрыва она переехала в Торонто, – но Донна считала, что таким, как она, больше всего подходит Европа. Я брал ее с собой в писательские командировки, когда мои романы переводили на разные европейские языки. Донна утверждала, что Европа терпимее по отношению к транссексуалам – и вообще считала европейцев более просвещенными и толерантными, – но ее смущала необходимость учить новый язык.
Она вылетела из колледжа, потому что время учебы совпало с тем, что она называла своим «кризисом сексуальной идентичности», и ей недоставало уверенности в своем интеллекте. Я считал это нелепым, ведь она все время читала – она была очень умной, – но предполагается, что есть определенный период, когда мы подпитываем и выращиваем свой разум, и Донна ощущала, что потеряла эти годы, пока принимала непростое решение жить как женщина.
Донна была на вершине счастья, когда мы приезжали в Германию, где я мог общаться с местными на их языке. Во время деловых поездок, связанных с переводами моих романов на немецкий, мы посетили не только Германию, но и Австрию и немецкоговорящую часть Швейцарии. Донна влюбилась в Цюрих; он произвел на нее впечатление очень зажиточного города – как и на всех других туристов. Вена ей тоже страшно понравилась – я все еще ориентировался в городе (немного), поскольку провел там студенческие годы. Больше всего Донну восхитил Гамбург – думаю, ей он показался наиболее изысканным из немецких городов.
В Гамбурге мои немецкие издатели всегда размещали меня в отеле «Фир Йаресцайтен»; я думаю, на его счет можно отнести бо́льшую часть восхищения Донны Гамбургом, так фешенебелен был этот отель. Но потом наступил тот ужасный вечер, после которого Донна уже никогда не бывала счастлива в Гамбурге – или, возможно, со мной.
Началось все достаточно невинно. Журналист, который брал у меня интервью, пригласил нас в ночной клуб на улице Репербан; я не знал ни что это за улица, ни что за клуб, но журналист и его жена (или девушка) предложили нам с Донной сходить с ними и посмотреть шоу. Их звали Клаус и Клаудия; мы вместе взяли такси до клуба.
Я должен был догадаться, что это за место, как только мы вошли – сразу, как увидел тех тощих парней у барной стойки. Это было «трансвеститен-кабаре» – шоу трансвеститов. (По моим догадкам, парни у бара были приятелями исполнителей, поскольку клуб не был местом для съема, и, за исключением этих парней, геев там практически не было.)
Шоу предназначалось для секс-туристов – в нем выступали мужчины в женской одежде для развлечения гетеросексуальных пар. Чисто мужские компании пришли посмеяться; чисто женские – поглядеть на мужские члены. Исполнители были комиками; они, несомненно, воспринимали себя как мужчин. Они не были и вполовину такими достоверными, как моя милая Донна; это были старомодные трансвеститы, даже и не пытавшиеся выдать себя за женщин. Они были тщательно загримированы и одеты; они были очень симпатичными, но это были симпатичные мужчины, переодетые в женщин. В своих платьях и париках это были очень женственно выглядящие мужчины, но они никого не могли обмануть – и даже не старались.
Клаус и Клаудия явно не догадывались, что Донна одна из них (но намного более убедительная и куда сильнее устремленная к своей цели – сделаться женщиной).
– Я не знал, – сказал я Донне. – Правда не знал. Мне очень жаль.
Донна потеряла дар речи. Ей не приходило в голову, что одна из особенностей толерантной и просвещенной Европы в семидесятые – если говорить о сложных решениях, касающихся половой идентичности, – заключалась в том, что европейцы уже настолько привыкли к сексуальным различиям, что начали над ними шутить.
То, что сами участники шоу смеялись над собой, вероятно, было ужасно болезненно для Донны, которой пришлось столько пережить, чтобы начать серьезно воспринимать себя как женщину.
В одной из сценок здоровенный трансвестит делал вид, что ведет машину, а его невысокий партнер пытался сделать «ей» минет. Коротышку явно пугал размер члена его «подружки» и то, как его неумелое обращение с этим монстром отражается на движении автомобиля.
Конечно, немецкого Донна не понимала; трансвестит болтал без передышки, критикуя качество минета. Мне же приходилось смеяться, и вряд ли Донна когда-либо простила меня за это.
Клаус и Клаудия явно подумали, что моя девушка просто типичная американка; они думали, что Донне не нравится шоу, потому что она сексуально закомплексованная ханжа. И невозможно было ничего им объяснить – не прямо же в клубе.
Когда мы уходили, Донна была в таком шоке, что подпрыгнула, когда одна из официанток заговорила с ней. Это была высокая трансвеститка, она сошла бы за участницу шоу. Она сказала Донне (по-немецки): «Очень хорошо выглядишь». Это был комплимент, но я понял, что она знает, кто Донна на самом деле. (Почти никто не мог об этом догадаться, не в то время. Донна не афишировала это; она прикладывала все усилия, чтобы быть женщиной, а не выдавать себя за женщину.)
– Что она сказала? – принялась выспрашивать у меня Донна, когда мы вышли на улицу. В семидесятых Репербан не был таким средоточием туристов, как сейчас; были, конечно, секс-туристы, но в целом улица выглядела более обшарпанной – как и Таймс-сквер в те времена была попроще и не так переполнена зеваками.
– Она сделала тебе комплимент, сказала, что ты очень хорошо выглядишь. Она имела в виду, что ты красавица, – сказал я Донне.
– Она имела в виду «для мужика» – разве не так?! – спросила Донна. Она всхлипывала. Клаус и Клаудия все еще ничего не понимали. – Я не какой-нибудь грошовый трансвестит! – рыдала Донна.
– Нам жаль, если идея была неудачная, – довольно натянуто сказал Клаус. – Шоу задумывалось как смешное, а не оскорбительное.
Я просто покачал головой; я уже понимал, что вечер никак не спасти.
– Слушай, приятель, у меня хрен побольше, чем у того трансвестита в воображаемой машине! – сказала Клаусу Донна. – Показать? – обратилась она к Клаудии.
– Не надо, – сказал я. Я-то знал, что Донна не ханжа. Совсем наоборот!
– Скажи им, – велела она мне.
Я уже успел написать пару романов о сексуальных особенностях – о возникающих порой сложностях половой идентификации. Клаус читал мои романы; он брал у меня интервью, ради всего святого, – уж он и его жена (или подруга) могли бы догадаться, что моя девушка не ханжа.
– У Донны хрен действительно побольше, чем у того трансвестита в воображаемой машине, – сообщил я Клаусу и Клаудии. – Пожалуйста, не просите ее показать его вам – не здесь.
– Не здесь? – взвизгнула Донна.
Я правда не знаю, зачем я это сказал. Должно быть, из-за потока машин и пешеходов, движущихся по Репербану, я забеспокоился, что Донна вытащит член прямо там. Конечно, я не имел в виду – как я неоднократно повторил Донне, когда мы вернулись в отель, – что Донна покажет им свой член в другое время или в другом месте! Просто так оно прозвучало!
– Я не какой-нибудь дилетант-трансвестит, – рыдала Донна, – я не, я не…
– Конечно, нет, – сказал я ей и заметил, что Клаус и Клаудия стараются тихонько улизнуть. Донна схватила меня за плечи и трясла; наверное, Клаус и Клаудия успели как следует разглядеть ее большие ладони. (Член у нее действительно был больше, чем у трансвестита, который острил по поводу плохого минета в воображаемой машине.)
В «Фир Йаресцайтен», умываясь перед сном, Донна все еще плакала. Мы оставили свет в гардеробной; он служил ночником, если ночью нужно было встать в туалет. Я лежал и смотрел на спящую Донну. В полутьме, без макияжа, в лице Донны было что-то мужское. Может, потому, что во сне она не старалась быть женщиной; наверное, ее выдавала резкая линия скул и подбородка.
Той ночью, глядя на спящую Донну, я вспомнил миссис Киттредж; в ее привлекательности тоже было что-то чисто мужское – что-то от самого Киттреджа. Но воинственная женщина может выглядеть как мужчина – даже во сне.
Я заснул, а когда проснулся, дверь гардеробной была закрыта – я помнил, что мы оставляли ее распахнутой. Донны рядом не было; в полоске света, пробивающейся из-под двери гардеробной, мелькала ее движущаяся тень.
Раздевшись догола, она рассматривала себя в ростовом зеркале. Этот ритуал был мне уже знаком.
– У тебя идеальная грудь, – сказал я ей.
– Большинству мужчин нравится грудь побольше, – сказала Донна. – Ты не похож на большинство моих знакомых мужчин, Билли. Тебе даже нравятся настоящие женщины, господи ты боже мой.
– Только, пожалуйста, не делай ничего со своей прекрасной грудью, – попросил я.
– И какая разница, если у меня и большой хрен? Ты ведь актив, Билли, – и останешься им, правда?
– Обожаю твой большой хрен, – сказал я.
Донна пожала плечами; ее маленькие груди колыхнулись, как и было задумано.
– Знаешь, в чем разница между дилетантами-трансвеститами и такими, как я? – спросила Донна.
Я знал правильный ответ – ее ответ.
– Знаю – ты всерьез намереваешься изменить свое тело.
– Я не дилетант, – повторила Донна.
– Я знаю, только не увеличивай грудь. Она совершенна, – сказал я ей и отправился обратно в кровать.
– Билли, знаешь, что с тобой не так? – спросила меня Донна. Я уже лежал в кровати, повернувшись спиной к свету, идущему из-под двери гардеробной. Я знал ее ответ и на этот вопрос, но промолчал.
– Ты не похож ни на кого – вот что с тобой не так, – сказала Донна.
Если говорить о переодевании, то Донне так и не удалось уговорить меня примерить ее одежду. Время от времени она поговаривала об отдаленной возможности операции – не просто о грудных имплантах, искушении для множества транссексуалок, но о более серьезном деле, об изменении пола. С технической точки зрения Донна – и все другие привлекавшие меня транссексуалки – была, что называется, «пре-оп», то есть транссексуалкой до операции. (Я знаком лишь с несколькими прошедшими операцию. И те, кого я знаю, очень смелые люди. Находиться с ними рядом жутковато, так хорошо они знают самих себя. Представьте, каково это – настолько хорошо себя знать! Каково это – быть настолько уверенным в том, кто ты на самом деле.)
– Наверное, тебе никогда не было интересно попробовать – я хочу сказать, быть как я, – обычно начинала Донна.
– Точно, – искренне отвечал ей я.
– Наверное, ты хочешь всю жизнь оставаться при своем члене – видимо, он тебе действительно нравится.
– Мне и твой нравится, – говорил я ей, тоже искренне.
– Я знаю, – отвечала она, вздыхая. – Просто мне самой он иногда не особенно нравится. Но твой мне нравится всегда, – быстро прибавляла она.
Боюсь, что бедный Том счел бы Донну чересчур «сложной», но я считал ее очень храброй.
Меня немного пугала уверенность Донны в том, кто она есть на самом деле, но одновременно это была одна из черт, которые мне в ней нравились, – а еще милый изгиб члена вправо, который напоминал мне сами знаете о ком.
Так вышло, что мое знакомство с членом Киттреджа ограничилось косыми взглядами в его сторону в душевых спортзала Фейворит-Ривер.
С членом Донны мы общались намного больше. Я виделся с ней сколько душе было угодно, хотя вначале меня терзала такая ненасытная страсть к ней (и другим транссексуалкам, но только к таким же, как она), что я не мог представить, как можно видеться с ней достаточно. В конце концов мы расстались не потому, что она мне надоела или я когда-либо сомневался в ней. В итоге выяснилось, что это она сомневалась во мне. Именно Донна решила пойти дальше, и ее недоверие ко мне заставило меня усомниться в себе самом.
Когда я прекратил встречаться с Донной (а точнее, когда она прекратила встречаться со мной), я стал настороженнее относиться к транссексуалкам – не потому, что больше не желал их, и я до сих пор считаю их необыкновенно храбрыми, – но потому что транссексуалки (особенно Донна) каждый гребаный день заставляли меня признавать самые неудобные аспекты моей сексуальности! Временами Донна меня просто изматывала.
– Как правило, мне нравятся натуралы, – неустанно напоминала она мне. – Мне нравятся и другие транссексуалки, не только такие, как я, ну ты знаешь.
– Я знаю, Донна, – заверял я ее.
– И я могу иметь дело с натуралами, которым нравятся женщины, – в конце концов, я ведь пытаюсь прожить свою жизнь как женщина. Я и есть женщина, только с членом! – заявляла она, повышая голос.
– Знаю, знаю, – говорил я ей.
– Но тебе нравятся и другие парни – просто парни – и женщины тоже, Билли.
– Да, некоторые женщины, – признавал я. – И симпатичные парни – но не все симпатичные парни, – поправлял я ее.
– Ну да, что бы там ни означало это гребаное «не все», – отвечала тогда Донна. – Что меня бесит, Билли, так это то, что я не знаю, что тебе во мне нравится, а что нет.
– Донна, в тебе нет ничего такого, что мне не нравилось бы. Ты мне нравишься вся, – уговаривал я ее.
– Ну ладно, если ты меня бросишь ради женщины, как сделал бы натурал, это я еще пойму. Или если ты вернешься обратно к парням, как сделал бы гей, – ну, это тоже понятно, – говорила Донна. – Но с тобой такая штука, Билли, – и этого я вообще не понимаю, – что я не знаю, ради кого или чего ты меня бросишь.
– И я не знаю, – отвечал я ей искренне.
– Ну вот – поэтому я и ухожу от тебя, – говорила Донна.
– Я буду ужасно скучать по тебе, – говорил я. (И это тоже было правдой.)
– Я уже отвыкаю от тебя, Билли, – вот и все, что она отвечала на это. Но до того вечера в Гамбурге я верил, что у нас с Донной все же есть шанс.
Раньше я верил, что и у нас с мамой тоже есть шанс. Я говорю не просто о «шансе» остаться друзьями; я думал когда-то, что ничто не сможет нас разлучить. Когда-то мама волновалась при малейших признаках моего нездоровья – при каждом чихе или покашливании ей мерещилось, что моя жизнь в опасности. Было что-то детское в ее страхе за меня; когда-то мама говорила, что от моих кошмаров ее саму кошмары мучают.
Мама говорила мне, что в детстве у меня случались «лихорадочные сны»; видимо, они продолжились и в подростковом возрасте. Эти видения, чем бы они ни были, казались более реальными, чем просто сны. Хотя если в самых частых из этих видений и была какая-то доля реальности, она ускользала от меня. Однажды ночью – я тогда выздоравливал от скарлатины – мне причудилось, будто Ричард Эбботт рассказывает мне какую-то военную байку. Однако единственное, что мог порассказать о войне Ричард, – это тот случай с газонокосилкой, в результате которого он был освобожден от службы. Это была не история Ричарда; это была история моего отца, или одна из них, и Ричард никак не мог бы рассказать мне ее.
История (или сон) начиналась в Хэмптоне, штат Виргиния, – в Хэмптон-Роудс мой отец-связист взошел на борт транспортного корабля, следовавшего в Италию. Транспортными судами служили пароходы «Либерти». Основной состав 760-й бомбардировочной эскадрильи покинул Виргинию в темный и неспокойный январский день; еще в пределах защищенной гавани солдаты получили свой первый морской обед – как мне было сказано (или приснилось), свиные котлеты. Когда корабли вышли в открытое море, их встретил зимний атлантический шторм. Солдаты заняли носовой и кормовой трюмы; они повесили свои каски рядом с койками, и вскоре им нашлось применение, когда у солдат началась морская болезнь. Но сержанту качка была не страшна. Мама рассказывала, что он вырос на мысе Кейп-Код; мальчиком он уже ходил в море, и морская болезнь его не брала.








