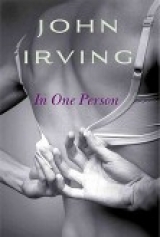
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
Я решил помочь ему и пинками загнал под диван несколько бутылок.
– Ты ведь не собираешься садиться за руль, правда, дядя Боб? – спросил я его.
– Именно поэтому я уже положил ключи от машины тебе в карман пиджака, Билли, – сказал мне дядя.
Но, обшарив карманы, я нашел только мячик для сквоша.
– Дядя Боб, это не ключи от машины, – сказал я, показывая ему мячик.
– Ну, Билли, в чей-то карман я их положил, – сказал Ракетка.
– Есть новости от твоего выпуска? – неожиданно спросил я его; он достаточно пьян, подумал я, вдруг получится застать его врасплох? – Какие новости от выпуска тридцать пятого года? – спросил я дядю как бы невзначай.
– От Большого Ала никаких вестей, Билли, – поверь мне, я бы тебе сказал, – ответил он.
Теперь дедушка Гарри разгуливал по дому в виде женщины; но, по крайней мере, он признавал, что его дочери мертвы, а не опаздывают на вечеринку, как он заявлял раньше. Я видел, как Нильс Боркман следует за старым другом по пятам, будто оба скользили по заснеженному лесу на лыжах и с ружьями за спиной. Боб уронил еще одну пустую бутылку, и я пинком отправил ее под дедушкин диван. Никто не обращал на эти бутылки внимания, по крайней мере с тех пор, как вернулся дедушка Гарри – на этот раз не в роли дедушки Гарри.
– Соболезную твоей утрате, Гарри, – твоей и моей, – сказал дядя Боб дедушке, который теперь был одет в поблекшее пурпурное платье, одно из бабушкиных любимых, насколько я помнил. Серо-голубой парик, по крайней мере, «подходил ему по возрасту», как позднее сказал Ричард Эбботт – когда снова заговорил, а это случилось еще нескоро. Нильс Боркман сказал мне, что фальшивая грудь, скорее всего, была позаимствована из костюмерной «Актеров Ферст-Систер», или, может быть, дедушка Гарри стащил ее из гримерки Клуба драмы.
Сморщенная и изуродованная артритом рука, подавшая дяде Бобу новую бутылку, не принадлежала рыжей официантке. Это оказался Херм Хойт – он был всего на год старше дедушки Гарри, но выглядел тренер Хойт куда более потрепанным.
Херму было шестьдесят восемь, когда он тренировал Киттреджа в 1961 году; тогда он уже выглядел так, словно вот-вот уйдет на пенсию. Теперь ему было восемьдесят пять, и он пятнадцать лет как был на пенсии.
– Спасибо, Херм, – тихо сказал Ракетка, поднося бутылку к губам. – Билли тут спрашивал про нашего старого друга Ала.
– Как там твой нырок со сбросом, Билли? – спросил меня тренер Хойт.
– Я так понимаю, вы ничего от нее не слышали, Херм, – ответил я.
– Надеюсь, ты отрабатывал его, – сказал старый тренер.
Я принялся рассказывать Херму Хойту длинную и запутанную историю об одном бегуне, которого встретил в Центральном парке. Он примерно мой ровесник, сказал я тренеру, и по виду его ушей – и по заметному напряжению мышц шеи и плеч во время бега – я догадался, что он занимается борьбой. Когда я заговорил с ним об этом, он решил, что я тоже борец.
«Нет-нет, я могу более-менее сносно выполнить разве что нырок со сбросом, – сказал я ему. – Я не борец».
Но Артур – так звали борца – неверно меня понял. Он решил, что я когда-то боролся и теперь просто скромничаю, принижая свои успехи.
Артур все болтал и болтал (как и все борцы) о том, как мне непременно надо продолжать тренировки. «Тебе надо поднабрать еще приемов в дополнение к этому нырку – еще не поздно!» – сказал он мне. Артур тренировался в клубе в районе Централ-Парк-Саут – по его словам, там было много ребят «нашего возраста», которые все еще продолжали тренировки. Артур был уверен, что я найду подходящего партнера в своем весе.
Энтузиазм Артура, не собиравшегося позволить мне «бросить» борьбу просто потому, что мне уже за тридцать и я не соревнуюсь в команде, был неукротим.
«Но я никогда не состоял в борцовской команде!» – попытался объяснить ему я.
«Слушай, я знаю многих парней нашего возраста, которые никогда не участвовали в соревнованиях, – сказал мне Артур. – И все же они продолжают бороться!»
В конце концов, рассказывал я Херму Хойту, уговоры Артура и рассказы об этом его чертовом клубе настолько меня утомили, что я открыл ему правду.
– Что именно ты сказал этому парню, Билли? – спросил меня тренер Хойт.
Что я гей – или, если быть точным, бисексуал.
– Господи, – сказал Херм.
Я сказал, что один бывший борец, мой любовник, кое-чему научил меня – строго для самозащиты. Что бывший тренер этого бывшего борца тоже кое-что мне подсказал. «Только нырок со сбросом, и все?» – спросил меня Артур. «И все. Только нырок», – признался я.
– Господи, Билли, – повторил старый тренер Хойт, качая головой.
– Такие дела, – сказал я Херму. – Я не отрабатывал нырок.
– Я знаю только один борцовский клуб в районе Централ-Парк-Саут, – сказал мне Херм Хойт. – И он довольно неплохой.
– Когда Артур разобрался, что у меня за история с нырком, он, похоже, потерял интерес к этой затее, – сказал я тренеру Хойту.
– Может, это была и не лучшая идея, – сказал Херм. – Я не знаю, что там за ребята занимаются в этом клубе, – теперь уже не знаю.
– Наверное, не каждый день к ним приходят геи упражняться в самозащите – как вы думаете, Херм? – спросил я тренера.
– Билли, а этот Артур читал твои романы? – спросил Херм Хойт.
– А вы что, читали? – с удивлением спросил я
– Господи, ну конечно. Только не спрашивай меня, о чем они, Билли! – сказал старый тренер.
– А мисс Фрост? – неожиданно спросил я его. – Она читала мои книги?
– Настойчивый, а? – сказал тренеру дядя Боб.
– Она знает, что ты писатель, Билли. Все твои знакомые знают об этом, – сказал мне тренер.
– Меня тоже не спрашивай, о чем ты пишешь, Билли, – сказал дядя Боб. Он уронил пустую бутылку, и я отправил ее под диван. Женщина с рыжими волосами принесла Ракетке новую бутылку. Я сообразил, где видел ее раньше; все официантки на «вечеринке» были из столовой Фейворит-Ривер – они работали в академии. Той женщине, которая носила Бобу пиво, было за сорок, когда я видел ее в предыдущий раз, – она явилась из прошлого, которое навсегда останется со мной.
– Так вот, об этом Нью-Йоркском спортивном клубе – там занимаются всякими видами спорта, но раньше дела с борьбой у них обстояли неплохо, Билли. Пожалуй, ты мог бы попрактиковать свой там нырок, – сказал Херм Хойт. – Может, стоит спросить этого, как его, Артура, – после стольких лет практика тебе точно пригодилась бы.
– А вдруг эти борцы из меня котлету сделают, Херм? – спросил я. – Разве это вроде как не лишит смысла то, ради чего вы с мисс Фрост вообще научили меня нырку?
– Боб заснул и обоссался, – внезапно заметил старый тренер.
– Дядя Боб… – начал я, но Херм Хойт схватил Ракетку за плечи и встряхнул.
– Боб, прекрати ссать! – заорал тренер.
Боб распахнул глаза; во всем отделе по делам выпускников не бывало еще сотрудника более обалдевшего.
– España, – произнес Боб, глядя на меня.
– Господи, Боб, тише ты, – сказал Херм Хойт.
– España, – повторил я.
– Он там – он сказал, что никогда не вернется, Билли, – сообщил мне дядя Боб.
– Кто там? – спросил я своего пьяного дядю.
Единственный наш разговор перед этим, если вообще можно считать это разговором, был о Киттредже; я с трудом мог вообразить себе Киттреджа, говорящего на испанском. Я знал, что Ракетка говорит не о Большом Але – дядя Боб не пытался донести до меня, что мисс Фрост в Испании и не собирается возвращаться.
– Боб… – начал я, но Ракетка снова вырубился. Мы с Хермом видели, что пятно на его штанах продолжает расползаться.
– Херм… – начал я.
– Фрэнни Дин, бывший менеджер команды, Билли, – это он в Испании. Твой отец в Испании, Билли, и он там счастлив – больше я ничего не знаю.
– Где в Испании, Херм? – спросил я старого тренера.
– España, – повторил Херм Хойт, пожав плечами. – Где-то в Испании, Билли, больше ничего не могу тебе сказать. Просто не забывай о том, что он счастлив. Твой папа счастлив, и он в Испании. Твоя мама никогда не была счастлива, Билли.
Я знал, что в этом Херм прав. Я отправился искать Элейн; нужно было рассказать ей, что мой отец в Испании. Моя мать умерла, но отец – которого я никогда не знал – был жив и счастлив.
Но прежде чем я успел сказать ей что-либо, Элейн первая заговорила со мной.
– Надо лечь сегодня в твоей спальне, Билли, а не в моей, – начала она.
– Хорошо, – ответил я.
– Нельзя оставлять Ричарда в одиночестве, вдруг он проснется и решит что-нибудь сказать. Мы должны быть рядом, – продолжала Элейн.
– Ладно, но я тут кое-что выяснил, – сказал я; но она не слушала.
– С меня причитается минет, Билли, – похоже, у тебя сегодня удачный вечер, – сказала Элейн. Либо она пьяна, либо я ослышался, решил я.
– Чего? – спросил я.
– Я сожалею о том, что говорила о Рейчел. За это я должна тебе минет, – объяснила Элейн. Она, несомненно, была пьяна и растягивала слова, произнося их преувеличенно четко – в точности в манере Ракетки.
– Ты не должна мне минет, Элейн, – сказал я ей.
– Ты не хочешь минет, Билли? – спросила она; она так растянула слово «минет», словно в нем было четыре или пять слогов.
– Я не сказал, что не хочу, – сказал я. – España, – неожиданно произнес я, потому что об этом мне хотелось поговорить.
– España? – переспросила Элейн. – Это такой испанский минет, да, Билли?
Она немного спотыкалась, когда я повел ее попрощаться с дедушкой Гарри.
– Не беспокойся, Билл, – неожиданно сказал мне Нильс Боркман. – Я разряжаю винтовки! Я держу пули в секрете!
– España, – повторила Элейн. – Это такая гейская штука, Билли? – прошептала она мне.
– Нет, – сказал я.
– Ну ты мне покажешь, да? – спросила Элейн. Я знал, что главное – не дать ей заснуть, пока мы не доберемся до Бэнкрофт-холла.
– Я тебя люблю, – сказал я дедушке Гарри, обнимая его.
– А я тебя люблю, Билл! – сказал мне Гарри, обнимая меня в ответ. (Моделью для его фальшивой груди, похоже, послужила дама с объемами тети Мюриэл, но я не стал говорить об этом дедушке.)
– Ты мне ничего не должна, Элейн, – сказал я ей, когда мы выходили из дома на Ривер-стрит.
– Не прощайся с моими родителями, Билли – и вообще не приближайся к моему папе, – сказала мне Элейн. – Если только не хочешь услышать о новых жертвах – если только ты не готов выслушать еще пару-тройку долбаных некрологов.
После вестей о Тробридже я и правда не был готов узнать о новых жертвах войны. Я даже не пожелал доброй ночи миссис Хедли, поскольку видел, что мистер Хедли отирается поблизости.
– España, – сказал я тихо сам себе, помогая Элейн преодолеть три лестничных пролета в Бэнкрофт-холле; хорошо, что не пришлось тащиться в ее спальню на долбаном пятом этаже.
Пока мы дрейфовали по коридору третьего этажа, я, должно быть, снова тихо произнес «España» – а может, не так уж тихо, поскольку Элейн услышала меня.
– Я немножко беспокоюсь о том, что за минет такой эта «España». Ничего жесткого, правда, Билли? – спросила меня Элейн.
В коридоре стоял мальчик в пижаме – совсем малыш, с зубной щеткой в руке. Судя по его испуганному лицу, он не знал, кто мы такие; зато он ясно расслышал, как Элейн спрашивала про испанский минет.
– Мы просто дурака валяем, – сказал я малышу. – Ничего жесткого! Никакого минета! – сказал я Элейн и мальчику в пижаме. (С этой своей щеткой он, конечно, напомнил мне Тробриджа.)
– Тробридж мертв. Ты знала Тробриджа? Его убили во Вьетнаме, – сказал я Элейн.
– Не помню я никакого Тробриджа, – сказала Элейн; как и я, она не могла отвести глаз от мальчика в пижаме. – Ты плачешь, Билли, – перестань, пожалуйста, – сказала Элейн. Мы привалились друг к дружке, и мне наконец удалось открыть дверь в безмолвную квартиру Ричарда. – Не волнуйся, он плачет, потому что у него мама только что умерла. С ним все будет в порядке, – сказала Элейн мальчику с щеткой. Но когда-то я видел Тробриджа, стоявшего на том же самом месте, и, быть может, теперь я предвидел новые жертвы; быть может, я представлял себе все потери, что ждали меня в не таком уж отдаленном будущем.
– Билли, Билли, прошу тебя, перестань плакать, – уговаривала меня Элейн. – Что значит «никакого минета»? Думаешь, я блефую? Ты же меня знаешь, Билли, – я теперь не блефую. Я уже больше не блефую, Билли, – бормотала она.
– Мой отец жив. Он живет в Испании, и он счастлив. Больше я ничего не знаю, Элейн, – сказал я ей. – Мой отец, Фрэнни Дин, живет в Испании – España.
Но больше я ничего сказать не успел. Пока мы ковыляли по гостиной, Элейн сбросила пальто; когда мы добрались до спальни, она стряхнула с себя туфли и юбку, и теперь старалась расстегнуть пуговицы на блузке – когда, на другом уровне своего полусонного сознания, Элейн заметила мою детскую кровать и бросилась на нее.
Опустившись на колени рядом с кроватью, я понял, что Элейн вырубилась – она лежала неподвижно, пока я снимал с нее блузку и расстегивал стеснявшее ее ожерелье. Я уложил ее в постель в трусах и лифчике и привычно угнездился в маленькой кровати рядом с ней.
– España, – прошептал я во тьме.
– Ты мне покажешь, да? – пробормотала во сне Элейн.
Я провалился в сон, размышляя, почему никогда не пытался разыскать отца. Какая-то часть меня пыталась рационализировать: если он мной интересуется, пусть сам меня разыщет, думал я. Но, по правде сказать, у меня и так был чудесный отец; мой отчим, Ричард Эбботт, был лучшим, что случилось со мной в жизни. (Мама никогда не была счастлива, но Ричард все же был лучшим, что случилось и в ее жизни; с Ричардом она могла бы обрести счастье.) Может быть, я никогда не пытался разыскать Фрэнни Дина, потому что для меня это означало бы предать Ричарда.
«Как ты там, Жак Киттредж?» – написал Ракетка; конечно, засыпая, я думал и об этом тоже.
Глава 12. Море эпилогов
Возвещают ли эпидемии о своем прибытии или же обрушиваются как снег на голову? Я получил два предостережения; но тогда они показались мне простыми совпадениями – и я не внял им.
Прошло несколько недель после смерти мамы, прежде чем Ричард Эбботт снова заговорил. Он продолжал вести уроки в академии – хотя читал материал скорее на автопилоте. Ричарду удалось даже поставить пьесу – но ему нечего было сказать тем, кто любил его.
Стоял апрель того же (семьдесят восьмого) года, когда Элейн позвонила мне и сообщила, что Ричард заговорил с ее матерью. Я набрал номер миссис Хедли сразу же после звонка Элейн.
– Билли, Ричард собирается тебе позвонить, – сказала мне Марта Хедли. – Только не жди, что он будет таким же, как раньше.
– Как он? – спросил я.
– Как бы так поаккуратнее сказать, – сказала миссис Хедли. – Не хотелось бы взваливать вину на Шекспира, но есть такая вещь, как избыток замогильного юмора – если хочешь знать мое мнение.
Я не понял, что имела в виду Марта Хедли, и просто стал ждать звонка Ричарда. Кажется, был уже май, когда Ричард наконец позвонил – и просто принялся болтать как ни в чем ни бывало.
Я думал, что из-за свалившегося на Ричарда горя у него не найдется времени и желания прочитать мой третий роман, но он его прочел.
– Все те же старые темы, но раскрыты лучше – призывы к толерантности никогда не надоедают, Билл. Конечно, все мы в разной степени нетерпимы к чему-нибудь или кому-нибудь. Знаешь, Билл, к чему нетерпим ты сам? – спросил меня Ричард Эбботт.
– И к чему же, Ричард?
– Ты нетерпим к нетерпимости – так ведь?
– Разве это плохо? – спросил я его.
– И ты гордишься своей нетерпимостью, Билл! – воскликнул Ричард. – То, что тебя раздражает нетерпимость – особенно к сексуальным различиям, – совершенно оправданно! Бог свидетель, я никогда не сказал бы, что ты не имеешь права на раздражение, Билл.
– Бог свидетель, – осторожно повторил я. Я не совсем понимал, куда клонит Ричард.
– Как бы ты ни был снисходителен к сексуальным различиям – и в этом ты совершенно прав, Билл! – ты не всегда снисходителен, правда? – спросил Ричард.
– Э-э, ну… – начал я и замолчал. Так вот к чему он подводил; я все это уже слышал. Ричард подразумевал, что я не могу поставить себя на мамино место, не могу знать, каково ей было в 1942 году, когда родился я; он хотел сказать, что я не могу или не должен ее осуждать. Его раздражала не моя снисходительность – ему не давала покоя моя нетерпимость к ее нетерпимости.
– По словам Порции, «Не действует по принужденью милость»[12]. Акт четвертый, сцена первая, – но я помню, что это не самая твоя любимая пьеса у Шекспира, Билл, – сказал Ричард Эбботт.
Действительно, на одном из уроков мы поспорили насчет «Венецианского купца» – это было восемнадцать лет назад. Он принадлежал к тем немногим пьесам Шекспира, которые мы читали на занятиях, но не ставили на сцене. «Это комедия, романтическая комедия – но не все в ней смешно», – сказал тогда Ричард. Он говорил о Шейлоке – неоспоримом свидетельстве предрассудков Шекспира против евреев.
Я держал сторону Шейлока. Речь Порции о «милости» – скучное христианское лицемерие, христианство в своем максимально приторном и высокомерном проявлении. Тогда как позиция Шейлока оправданна: ненависть к нему научила его самого ненавидеть. Совершенно справедливо!
«Да разве у жида нет глаз? – говорит Шейлок в первой сцене третьего акта. – Разве у жида нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей?» Обожаю эту речь! Но Ричард не хотел, чтобы ему напоминали, что я всегда был на стороне Шейлока.
– Твоя мама умерла, Билл. Разве ты ничего не чувствуешь к матери? – спросил меня Ричард.
– Ничего не чувствуешь, – повторил я. Я вспоминал ее ненависть к гомосексуалам – и то, как она отвергла меня не только потому, что я был похож на отца, но и потому, что унаследовал его необычную (и нежелательную) ориентацию.
– Что там говорит Шейлок? – спросил я Ричарда Эбботта. (Я отлично знал, что говорит Шейлок, и Ричард давно понял, как близки мне эти слова.)
«Если нас уколоть – разве у нас не идет кровь? – спрашивает Шейлок. – Если нас пощекотать – разве мы не смеемся? Если нас отравить – разве мы не умираем?»
– Ладно, ладно, Билл, я понял. Ты сторонник кровавой мести, – сказал Ричард.
– «А если нас оскорбляют, – сказал я, цитируя Шейлока, – разве мы не должны мстить? Если мы во всем похожи на вас, то мы хотим походить и в этом». И что сделали с Шейлоком, Ричард? – спросил я. – Его вынудили стать долбаным христианином!
– Это сложная пьеса, Билл, – поэтому я и не ставил ее, – сказал Ричард. – Не уверен, что она подходит для учеников средней школы.
– Как у тебя дела, Ричард? – спросил я его, надеясь сменить тему.
– Я помню мальчика, который готов был переписать Шекспира, – того мальчика, который был уверен, что эпилог в «Буре» – излишнее дополнение.
– И я его помню, – сказал я. – Я ошибался насчет того эпилога.
– Если прожить достаточно долго, Билл, эпилогов будет целое море, – сказал Ричард Эбботт.
Это было первое предупреждение, на которое я не обратил внимания. Ричард был всего на двенадцать лет старше меня; не такая уж большая разница в нашем возрасте – Ричарду было сорок восемь, а мне тридцать шесть. В 1978 году мы стали едва ли не ровесниками. Мне было всего тринадцать, когда Ричард повел меня получать мою первую библиотечную карточку – в тот вечер, когда мы оба познакомились с мисс Фрост. В свои двадцать пять Ричард казался мне таким очаровательным – и таким авторитетным.
В тридцать шесть я уже никого не считал за авторитет – даже Ларри, это время для меня прошло. Дедушка Гарри, хоть и был по-прежнему неизменно добродушен, становился все более чудаковатым; даже мне (столпу толерантности, каким я себя считал) эксцентричные выходки Гарри казались более уместными на сцене. Даже миссис Хедли уже не была для меня авторитетом, как когда-то, и хотя я слушал свою лучшую подругу Элейн, так хорошо меня знавшую, я все чаще делил ее советы на десять. (В конце концов, по части отношений Элейн была не более удачливой и ответственной, чем я.) Вероятно, если бы я получил известия от мисс Фрост, ее я бы еще почел за авторитет, даже в этом возрасте, но она не давала о себе знать.
Зато, хоть и с опаской, я последовал совету Херма Хойта. При следующей встрече с Артуром, тем борцом, что бегал вокруг озера в Центральном парке, я спросил, остается ли в силе его приглашение вспомнить мои минимальные борцовские навыки в Нью-Йоркском спортивном клубе – теперь, когда Артур в курсе, что я бисексуал, которому требуется поработать над самозащитой, а не настоящий борец.
Бедняга Артур. Он был из тех благонамеренных гетеросексуалов, для которых жестокость или хотя бы тень неприязни к геям просто немыслима. Артур был либеральным ньюйоркцем без предрассудков; он гордился своей беспристрастностью – порой даже чрезмерной – но при этом мучительно боялся сделать «неправильный» выбор. Я видел, как он терзается, пытаясь решить, насколько «неправильно» будет отказать мне в приглашении в борцовский клуб только потому, что я, как сказал бы дядя Боб, малость голубоват.
Мои друзья-геи не одобряли мою бисексуальность; они либо отказывались верить, что мне и правда нравятся женщины, либо считали, что я не совсем честен насчет своей гомосексуальности (или же пытаюсь поставить сразу на красное и черное). Большинство гетеросексуалов – даже лучшие из них, к которым относился и Артур, – считали бисексуалов просто-напросто геями. Единственное, что отпечатывалось в голове у гетеросексуальных мужчин, когда они узнавали о моей бисексуальности, – что мне нравятся мужчины. И Артуру придется столкнуться с этим, когда он расскажет обо мне своим приятелям в борцовском клубе.
Был конец ветреных семидесятых; хотя терпимость к сексуальным различиям не была обязательной, в Нью-Йорке она считалась почти нормой – в либеральных кругах толерантность предполагалась по умолчанию. Но я чувствовал свою ответственность за то, что предстояло Артуру; я не знал ничего о ревнителях традиций Нью-Йоркского спортивного клуба, в те дни, когда этот освященный веками древний институт был бастионом мужественности.
Понятия не имею, через что пришлось пройти Артуру, чтобы достать мне гостевой пропуск или, может, спортивный пропуск. (Как и с категорией моей готовности к службе, я уже не помню, как точно назывался этот дурацкий пропуск.)
– Ты с ума сошел, Билли? – спросила меня Элейн. – Смерти своей ищешь? Это же знаменитое анти-что-угодно. Антисемитский клуб, антинегритянский клуб.
– Да? – спросил я ее. – А ты откуда знаешь?
– Он антиженский – это я, блядь, точно знаю! – сказала Элейн. – Билли, это ирландский католический мужской клуб – достаточно одного «католического», чтобы бежать оттуда со всех ног!
– Мне кажется, тебе понравится Артур, – сказал я Элейн. – Он хороший парень, честное слово.
– И наверняка женатый, – со вздохом сказала Элейн.
Подумав, я вспомнил, что действительно видел кольцо на левой руке Артура. Я не связывался с женатыми мужчинами – время от времени с замужними женщинами, но с мужчинами – никогда. Я был бисексуалом, но меня противоречия уже давно не мучили. Я не выносил того, какие противоречия раздирали женатых мужчин – если их при этом интересовали геи. И, если верить Ларри, все женатики оказывались разочарованием в постели.
– Почему? – спросил я его.
– Они все просто помешаны на нежности – наверное, из-за того, что жены у них чересчур напористые. Эти ребята понятия не имеют, как скучна их «нежность», – сказал мне Ларри.
– Не думаю, что нежность всегда скучна, – сказал я.
– Прошу меня извинить, дорогой Билл, – сказал Ларри со своим снисходительным взмахом руки. – Я забыл, что ты неизменный актив.
Мне все больше и больше нравился Ларри – в качестве друга. Я даже начал находить удовольствие в его подколках. Мы оба читали мемуары одного знаменитого актера – «знаменитого бисексуала», как называл его Ларри.
Актер заявлял, что всю жизнь его «привлекали» женщины постарше и мужчины помладше. «Как вы сами понимаете, – писал знаменитый актер, – когда я был моложе, мне было доступно множество женщин постарше. Теперь, когда я постарел, – что ж, вокруг полно доступных молодых мужчин».
– Мне моя жизнь не кажется такой удобной, – сказал я Ларри. – Вряд ли бисексуальность когда-нибудь будет считаться просто разносторонним развитием.
– Дорогой Билл, – начал Ларри в этой своей манере, как будто писал мне деловое письмо. – Этот человек актер, никакой он не бисексуал, он гей. Ничего удивительного, что теперь, когда он состарился, вокруг него обнаружилось много юных мужчин! Просто раньше женщины старше него были единственными, с кем он чувствовал себя в безопасности!
– Это не мой случай, Ларри, – сказал я ему.
– Но ты еще молод! – воскликнул Ларри. – Просто подожди, дорогой Билл, – просто подожди.
Разумеется, среди женщин, с которыми я встречался, и среди знакомых геев мои регулярные посещения борцовского клуба были предметом как шуток, так и беспокойства. Мои друзья-геи отказывались верить в полное отсутствие у меня эротического интереса к борцам из клуба, но мои влюбленности в неподходящих людей этой категории оказались просто одним из этапов; может, они были частью процесса принятия моей гомосексуальности. (Ладно, признаюсь, этот этап все-таки еще не завершился окончательно.) Гетеросексуальные мужчины редко привлекали меня, по крайней мере всерьез; то, что они это чувствовали, как почувствовал и Артур, все больше облегчало мне возможность дружить с ними.
Однако Ларри настаивал, что моя борцовская практика – разновидность активного и рискованного съема; Донна, моя милая, но обидчивая транссексуальная подруга, свела мою, как она выражалась, «нырковую фиксацию» к культивированию жажды смерти. (Вскоре после этого заявления Донна пропала из Нью-Йорка – потом мне говорили, что ее видели в Торонто.)
Что до борцов в Нью-Йоркском спортивном клубе, там было пестрое сборище – во всех смыслах, не только в том, что касалось их отношения ко мне. Мои подруги, и Элейн в том числе, считали, что рано или поздно меня изувечат, но в клубе мне ни разу не угрожали (и не причиняли боль намеренно).
Мужчины постарше, как правило, игнорировали меня; как-то раз при знакомстве один из них весело сказал: «А, ты тот самый гей, да?». Но он пожал мне руку и хлопнул меня по спине; потом он всегда улыбался и говорил что-нибудь дружелюбное, когда мы встречались. Мы были в разных весовых категориях. Если он и избегал контактов со мной – на мате, я имею в виду, – я все равно не мог бы этого узнать.
Время от времени, когда я заходил в сауну после тренировки, там начиналась массовая эвакуация. Я рассказал об этом Артуру.
– Как думаешь, может, мне стоит держаться подальше от сауны?
– Решай сам, Билли, – но это их проблема, а не твоя, – сказал Артур. (Все борцы называли меня «Билли».)
Несмотря на слова Артура, я решил не ходить в сауну. Тренировки начинались в семь вечера; я уже почти привык посещать их. Кроме того случая, меня ни разу не назвали геем – по крайней мере в глаза. Обычно меня называли «писателем»; большинство борцов не читали моих откровенных романов – моих призывов к толерантности по отношению к сексуальным различиям, как Ричард Эбботт продолжал называть мои книги, – но Артур их прочел. Как и многие другие мужчины, он сказал мне, что его жена – моя страстная поклонница.
Я то и дело слышал от мужчин что-нибудь подобное; они утверждали, что их жены, подружки, сестры и даже матери – мои большие поклонницы. Вероятно, женщины читают больше художественной литературы, чем мужчины.
Артур познакомил меня с женой, очень милой девушкой. Она действительно много читала, и вкусы у нас были во многом схожие – в литературе, я хочу сказать. Эллен, так ее звали, была энергичной блондинкой со стрижкой под пажа и абсурдно крошечным тонкогубым ротиком. В остальном бесполый ее образ нарушали стоящие торчком груди – вот эта девушка была точно не в моем вкусе! Но она была искренне приветлива со мной, и Артур – благослови его Бог – был прочно женат. Я не собирался знакомить его с Элейн.
Вообще-то, если не считать пива с Артуром в клубном баре, я практически не общался с борцами из клуба. Зал для борьбы тогда находился на четвертом этаже – на противоположном конце коридора от боксерского. Один из моих частых партнеров по борьбе, Джим Как-его-там (забыл его фамилию), был также и боксером. Все борцы знали, что я никогда не участвовал в соревнованиях, что я пришел заниматься для самозащиты – и точка. Чтобы помочь мне в этом, Джим брал меня с собой в боксерский зал; он пытался показать мне, как защищаться, когда тебя бьют.
Это оказалось познавательно; сносно бить я так и не научился, но Джим показал мне, как можно закрыться от удара. Время от времени удары у Джима получались сильнее, чем он рассчитывал; он всегда извинялся.
В борцовском зале со мной время от времени тоже происходили неприятности (хоть и случайные): рассеченная губа, расквашенный нос, расплющенный палец. Стараясь всеми способами провести (по возможности незаметно) свой нырок, я то и дело сталкивался лбом с партнером; если любишь применять захват, тебе так или иначе приходится биться головой. Артур ненароком врезался головой мне в лоб, и мне пришлось наложить несколько швов в районе правой брови.
Ох, видели бы вы реакцию Элейн и Ларри – и всех остальных.
Ларри какое-то время дразнил меня «настоящим мачо»
– И ты мне говоришь, что все там хорошо к тебе относятся – да, Билли? – спросила Элейн. – И по лбу тебе дали тоже из дружеских чувств?
Но, несмотря на издевательства моих друзей-писателей, я потихоньку учился. И нырок начал получаться у меня намного лучше.
В мои первые дни в зале Артур называл меня «парнем с одним приемом» – но со временем я выучил и еще несколько. Вероятно, настоящим борцам скучно было работать со мной в паре, но они не жаловались.
К моему удивлению, трое или четверо ветеранов кое-что мне подсказали. (Может, в благодарность за то, что я держался подальше от сауны.) В зале было довольно много борцов, которым уже перевалило за сорок, – и несколько суровых стариканов за пятьдесят. Были и мальчишки только что из колледжа; было несколько потенциальных и бывших олимпийцев; были русские эмигранты (и один кубинец); много восточноевропейцев, но всего двое иранцев. Были ребята, занимавшиеся греко-римской борьбой и вольной борьбой, и строго традиционной борьбой – эти были в основном из мальчишек и ветеранов.
Эд показал мне, как можно подготовить мой нырок с помощью зацепа ноги; Вулфи научил меня нескольким рывкам за руку; Сонни показал русский захват руки и коварный захват ступни. Я написал о своих успехах Херму Хойту. Мы с Хермом знали, что мне никогда не стать борцом – не в моем возрасте, – но если говорить о самозащите, то я понемногу учился. И мне нравилось, что занятия в семь вечера занимают свое место в моей жизни.
«Ты превращаешься в гладиатора!» – сказал Ларри; в кои-то веки он не пытался съязвить.








