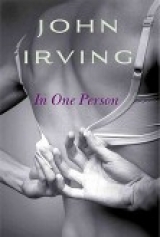
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
Сью Аткинс сказала что-то о том, как Тому тяжело есть.
– Ему трудно глотать, – сказала она мне.
(Одно это короткое предложение заставило ее подавить кашель, или, может, приступ тошноты; внезапно мне показалось, что ей не хватает воздуха.)
– Это из-за грибка он не может есть? – спросил я ее.
– Да, у него кандидозный эзофагит, – сказала миссис Аткинс, и этот термин был мне уже до боли знаком. – И еще, сравнительно недавно, ему поставили катетер Хикмана, – сообщила Сью.
– Насколько недавно? – спросил я.
– Только в прошлом месяце, – сказала она. Значит, теперь его кормили через катетер – то есть сам он уже не мог нормально питаться. (В случае с Candida трудности с глотанием обычно разрешал флуконазол или амфотецирин-В – если только грибок не приобрел сопротивляемость к ним.)
«Если тебя решили перевести на внутривенное кормление, это означает, что ты умираешь с голоду, Билл», – сказал мне Ларри.
Мальчик, Питер, не выходил у меня из головы; на рождественской фотографии он напомнил мне Тома Аткинса, которого я когда-то знал. Мне пришло в голову, что Питер может быть тем, кого бедный Том когда-то назвал «такими, как мы». Я задумался, заметил ли Аткинс, что его сын «такой, как мы». Так он выразился много лет назад. «Не все здесь понимают таких, как мы», – сказал он, и я подумал, не подкатывает ли ко мне Аткинс (это был первый подкат от кого-то вроде меня).
– Билл! – резко сказала в трубке Сью Аткинс. Я понял, что плачу.
– Извините, – сказал я.
– Не смейте плакать, пока будете у нас, – сказала миссис Аткинс. – Эта семья уже все глаза выплакала.
– Не давай мне плакать, – сказал я Элейн в ту субботу, незадолго до Рождества 1981 года. Все ехали за подарками в обратную сторону, в Нью-Йорк. В ту декабрьскую субботу в поезде на Шорт-Хиллс, Нью-Джерси, не было почти ни души.
– И как я должна это сделать, Билли? Ружья у меня нет, я не могу тебя пристрелить, – сказала Элейн.
Слово «ружье» вызвало у меня смутную тревогу. Эльмира, сиделка, которую мы с Ричардом наняли для дедушки Гарри, непрестанно жаловалась Ричарду насчет «ружья». Речь шла о винтовке Моссберга .30-30, рычажного действия – из такого же короткоствольного ружья застрелился Нильс. (Уже не могу сказать точно, но, кажется, у Нильса был «Винчестер» или «Саваж», не рычажного действия; но помню, что калибр у него был тоже .30-30.)
Эльмира жаловалась, что дедушка Гарри «постоянно начищает» чертову винтовку; очевидно, он вытирал ружье о платья бабушки Виктории, по крайней мере, ружейная смазка обнаружилась на многих ее вещах. Необходимость то и дело отдавать их в химчистку расстраивала Эльмиру. «Он обещал мне, что не будет охотиться, какая уж охота на лыжах в его возрасте, – но он начищает и начищает эту проклятую винтовку!» – сказала она Ричарду.
Ричард спросил самого дедушку Гарри. «Какой смысл держать ружье, если не следишь, чтобы оно было вычищено», – сказал Гарри.
«Но может, лучше тебе надевать свою одежду, когда начищаешь ее, Гарри, – сказал Ричард. – Ну то есть джинсы, старую рубашку. Что-нибудь, что Эльмире не надо было бы отдавать в химчистку».
Гарри не ответил – по крайней мере Ричарду. Но Эльмире он велел не волноваться. «Если я застрелюсь, Эльмира, обещаю, что тебе не придется все это убирать».
Теперь, разумеется, Эльмира и Ричард начали переживать, как бы дедушка Гарри не застрелился, а я все думал об этом начищенном до блеска ружье. Да, меня тоже беспокоили намерения дедушки Гарри, но, если честно, я был рад, что чертова винтовка в рабочем состоянии. Если быть совсем честным, я не так волновался за дедушку Гарри, как за себя. Я знал, что сделаю, если заболею. Будучи уроженцем Вермонта, я не стал бы колебаться. Я поехал бы домой в Ферст-Систер – в дом дедушки Гарри на Ривер-стрит. Я знал, где он держит винтовку; я знал, где Гарри хранит патроны. «Ружье на вредителей», как называл его дедушка, вполне сгодилось бы и для меня.
В таком состоянии ума, преисполненный решимости не плакать, я приехал в Шорт-Хиллс, штат Нью-Джерси, чтобы навестить своего умирающего друга Тома Аткинса, которого не видел двадцать лет – в буквальном смысле полжизни.
Не будь я таким тупицей, я мог бы догадаться, что дверь откроет мальчик, Питер. Следовало ожидать, что нас встретит почти точная копия Тома Аткинса – такого, каким я его увидел впервые, – но я все равно онемел.
– Это его сын, Билли, скажи что-нибудь, – прошептала мне на ухо Элейн. (А я, разумеется, изо всех сил боролся с собой, чтобы не расплакаться.) – Привет, я Элейн, а это Билли, – сказала она мальчику с волосами морковного цвета. – А ты, наверное, Питер. Мы старые друзья твоего папы.
– Да, мы вас ждали, входите, пожалуйста, – вежливо сказал Питер. (Мальчику только что исполнилось пятнадцать; он подал документы в школу Лоуренсвилл на второй год обучения и теперь ждал ответа.)
– Мы не знали точного времени вашего приезда, но сейчас удачное время, – говорил Питер Аткинс, впуская нас с Элейн. Мне захотелось обнять мальчика – он дважды произнес «время», у него не было ни следа речевых проблем, – но, учитывая обстоятельства, мне хватило ума не дотрагиваться до него.
Сбоку от роскошной прихожей была довольно пышного вида столовая – где никто (и никогда) не обедает, подумал я, – и тут мальчик сообщил нам, что Чарльз только что ушел.
– Чарльз – это папин медбрат, – объяснил Питер. – Он следит за катетером – нужно промывать его, иначе он забьется, – сказал он нам с Элейн.
– Забьется, – повторил я; это были первые мои слова в доме Аткинсов. Элейн ткнула меня локтем под ребра.
– Мама отдыхает, но она сейчас спустится, – сказал мальчик. – Где сестра, я не знаю.
Мы прошли по коридору первого этажа и остановились у закрытой двери.
– Здесь раньше был папин кабинет, – сказал Питер Аткинс; он помедлил, прежде чем открыть дверь. – Но наши спальни на втором этаже – а папа не может подниматься по лестнице, – продолжал Питер, все еще придерживая дверь. – Если моя сестра тут, с ним, она может закричать – ей всего тринадцать, скоро будет четырнадцать, – сказал мальчик нам с Элейн; он держался за ручку двери, но еще не был готов впустить нас. – Я вешу примерно сто сорок фунтов, – сказал Питер Аткинс так спокойно, как только мог. – Папа потерял в весе с тех пор, как вы его видели, – сказал мальчик. – Сейчас он весит почти сто – может, девяносто с чем-то фунтов.
И он открыл дверь.
«Мое сердце разрывалось, – сказала мне потом Элейн. – Мальчик так старался нас подготовить». Но мое знакомство с этой проклятой болезнью только начиналось, и подготовиться оказалось невозможно.
– А, вот она где – это моя сестра, Эмили, – сказал Питер Аткинс, наконец впустив нас в комнату, где лежал его умирающий отец.
Пес, Жак, был шоколадного цвета лабрадором с бело-серой мордой – старый пес, я понял это не только по седой шерсти на носу и вокруг пасти, но и по тому, как медленно и неуверенно он выбрался из-под больничной кровати, чтобы встретить нас. Жак слегка приволакивал заднюю лапу; он едва заметно вилял хвостом, как будто это движение причиняло ему боль.
– Жаку почти тринадцать лет, – сказал Питер нам с Элейн. – Но для собаки это довольно много – и у него артрит.
Пес ткнулся холодным влажным носом в ладонь мне, потом Элейн; больше ему ничего не было от нас нужно. Раздался глухой бум, когда он снова растянулся под кроватью.
Девочка, Эмили, свернулась, как вторая собака, в ногах отцовской постели. Вероятно, Тому было хоть немного легче от того, что дочь согревает ему ноги. Аткинс дышал с непередаваемым усилием; я знал, что руки и ноги у него холодные; кровоток в конечностях угасал, тело старалось сохранить кровь для его мозга.
Реакция Эмили на нас с Элейн была запоздалой. Спустя несколько секунд она села на кровати и закричала; книга, которую она читала, вылетела у нее из рук. Крик девочки заглушил шорох страниц. Я заметил баллон с кислородом в захламленной комнате – в бывшем «кабинете» Аткинса, теперь переоборудованном для бдений у постели умирающего.
Я видел, что крик дочери не произвел впечатления на Тома Аткинса – он едва пошевелился в своей постели. Вероятно, ему было больно поворачивать голову; однако его голая грудь яростно вздымалась, тогда как остальное усохшее тело не шевелилось. Катетер Хикмана, вставленный под ключицу, свисал с правой стороны груди Тома; он проходил несколько дюймов под кожей над соском и входил в подключичную вену.
– Это папины школьные друзья, Эмили, – раздраженно сказал Питер младшей сестре. – Ты знала, что они придут.
Девочка прокралась через комнату, чтобы подобрать с пола книгу; снова завладев ей, она повернулась и с ненавистью уставилась на нас. По крайней мере, на меня она точно смотрела с ненавистью, но, может, на своего брата и на Элейн тоже. Затем тринадцатилетняя девочка заговорила, и я был уверен, что она обращается только ко мне, хотя Элейн безуспешно пыталась меня убедить потом, в поезде, что дочь Тома обращалась к нам обоим. (Я до сих пор так не думаю.)
– Вы тоже больны? – спросила Эмили.
– Нет, не болен – прости, – сказал я. Девочка прошествовала вон из комнаты.
– Скажи маме, что они пришли, Эмили! Маме скажи! – крикнул Питер вслед своей рассерженной сестре.
– Скажу! – услышали мы ее ответный крик.
– Это ты, Билл? – спросил Том Аткинс; я увидел, как он пытается пошевелить головой, и шагнул к его кровати. – Билл Эбботт, ты здесь? – спросил Аткинс; он говорил тихо и со страшным усилием. В легких у него клокотало. Наверное, баллон с кислородом должен был иногда (и ненадолго) облегчать его страдания; вероятно, где-то здесь была и маска, но я ее не видел – кислород служил заменой ИВЛ. Затем, перед самым концом, последует морфин.
– Да, Том, это я, Билл, и Элейн тут со мной, – сказал я Аткинсу. Я дотронулся до его руки. Она была липкой и холодной как лед. Теперь я разглядел лицо бедного Тома. Жирные хлопья себорейного дерматита покрывали его скальп и брови и лежали на крыльях носа.
– И Элейн тоже! – выдохнул Аткинс. – Элейн и Билл! Ты в порядке, Билл? – спросил он меня.
– Да, я в порядке, – сказал я ему; никогда еще мне не было так стыдно за то, что я «в порядке».
На столике у кровати стоял поднос с лекарствами и прочими неприятного вида предметами. (Почему-то мне запомнился раствор гепарина – для промывания катетера.) Я заметил белый творожок грибка Candida в углах губ бедного Тома.
«Билли, я не узнала его», – сказала мне Элейн, когда мы возвращались в Нью-Йорк. Да и как узнать взрослого человека, который весит всего девяносто с чем-то фунтов?
Нам с Томом было по тридцать девять лет, но ему на вид можно было дать шестьдесят, а то и больше; его волосы не просто стали тонкими и прозрачными – они полностью поседели. Глаза запали в глазницах, виски и щеки глубоко ввалились; ноздри бедного Тома были плотно склеены, как будто он уже чувствовал зловоние собственного трупа, а его натянувшаяся кожа, когда-то такая румяная, стала пепельно-серой.
«Маска Гиппократа» – так называется это предсмертное лицо – маска смерти, которую предстояло рано или поздно надеть еще многим моим друзьям и любовникам, умирающим от СПИДа. Все дело в том, как кожа натягивается на черепе; она становится такой поразительно жесткой и тугой, словно вот-вот треснет.
Я держал Тома за одну холодную руку, а Элейн за другую, и я видел, как Элейн старается не смотреть на катетер в груди Аткинса, – когда мы услышали сухой кашель. На секунду мне показалось, что Том умер и этот кашель каким-то образом вырвался из его тела. Но потом я увидел глаза его сына; Питер знал, что это за кашель и откуда он взялся. Мальчик повернулся к открытой двери – в проеме стояла его мать и кашляла. Кашель казался не особенно серьезным, но остановить его Сью Аткинс не могла. Мы с Элейн уже слышали такой кашель; на ранних стадиях пневмоцистной пневмонии он звучит не так уж страшно. Одышка и лихорадка зачастую хуже самого кашля.
– Да, я больна, – сказала Сью Аткинс; она старалась сдерживаться, но совсем прекратить кашлять не могла. – У меня оно только начинается, – сказала миссис Аткинс; ей явно было тяжело дышать.
– Я заразил ее, Билл, – вот и вся история, – сказал Том Аткинс.
Питер, прежде такой уравновешенный, попытался проскользнуть мимо матери в дверь.
– Нет, останься тут, Питер. Тебе нужно услышать, что твой отец хочет сказать Биллу, – велела сыну Сью Аткинс; теперь мальчик плакал, но он отступил назад, все еще глядя на дверь, которую заслонила его мать.
– Я не хочу тут сидеть, я не хочу слушать, – заговорил мальчик; он тряс головой, как будто это был его проверенный способ, чтобы перестать плакать.
– Питер, тебе придется остаться и придется выслушать, – сказал Том Аткинс. – Это из-за Питера я хотел тебя видеть, Билл, – сказал мне Том. – У Билла остались кое-какие следы нравственной ответственности – правда, Элейн? – неожиданно спросил ее Том. – Я хочу сказать, Билл ведь пишет – по крайней мере, в его книгах эти следы можно различить, правда? Я уже больше не знаю Билла, – признался Аткинс. (Он не мог сказать подряд больше трех-четырех слов без передышки.)
– Нравственной ответственности, – повторил я.
– Да, у Билли есть нравственная ответственность, как мне кажется, – сказала Элейн. – И не только в твоих книгах, Билли, – прибавила она.
– Мне оставаться не надо, я это уже слышала, – неожиданно сказала Сью Аткинс. – И вам тоже не обязательно, Элейн. Мы можем попробовать поговорить с Эмили. С ней не так-то просто иметь дело, но с женщинами она ведет себя получше, чем с мужчинами – как правило. Эмили ненавидит мужчин, – сказала миссис Аткинс.
– Эмили начинает кричать практически каждый раз, когда видит мужчину, – объяснил Питер; он перестал плакать.
– Хорошо, я пойду с вами, – сказала Элейн Сью Аткинс. – Я от мужчин тоже не в восторге – просто женщины мне, как правило, не нравятся вовсе.
– Любопытно, – сказала миссис Аткинс.
– Я вернусь, когда пора будет прощаться, – сказала Элейн Тому, выходя из комнаты, но Аткинс как будто пропустил мимо ушей слова о прощании.
– Удивительно, как легко мне дается «время» – теперь, когда его больше не осталось, Билл, – заговорил Том.
– Где Чарльз? Он ведь тоже должен быть здесь, да? – спросил отца Питер Аткинс. – Посмотри только на эту комнату! Что тут все еще делает этот кислородный баллон? Кислород ему больше не помогает, – объяснил мне мальчик. – Чтобы он помогал, легкие должны работать. Если ты не можешь вдохнуть, какой прок от кислорода? Так Чарльз говорит.
– Пожалуйста, хватит, Питер, – сказал сыну Том Аткинс. – Я попросил Чарльза пока оставить нас одних – он скоро вернется.
– Пап, ты слишком много говоришь, – сказал мальчик. – Ты знаешь, что бывает, когда ты много говоришь.
– Я хочу поговорить с Биллом о тебе, Питер, – сказал его отец.
– Это бред, это все бесполезно, – сказал Питер.
Казалось, Том Аткинс собирает остатки воздуха, прежде чем заговорить:
– Я хочу, чтобы ты присмотрел за моим мальчиком, когда меня не станет, Билл, – особенно если он «такой, как мы», но даже если и нет.
– Почему я, Том? – спросил я его.
– У тебя же нет детей, так? – спросил меня Аткинс. – Я тебя прошу только одним глазком приглядывать за парнем. Не знаю, что делать с Эмили, – пожалуй, на роль опекуна Эмили ты не совсем подходишь.
– Нет-нет-нет, – неожиданно сказал мальчик. – Эмили остается со мной – куда я, туда и она.
– Тебе придется уговорить ее, Питер, а ты знаешь, какая она упрямая, – сказал Аткинс. Бедному Тому становилось все труднее дышать. – Когда я умру – и когда ваша мама тоже умрет, я хочу, чтобы ты обратился к этому человеку. Не к твоему дедушке.
Я встретился с родителями Тома на нашем выпуске из Фейворит-Ривер. Его отец кинул на меня безнадежный взгляд; он отказался пожать мне руку. Таким уж человеком был дедушка Питера; он не назвал меня педиком, но я почувствовал, что мысленно он произнес это слово.
«Мой отец очень… прямолинейный человек», – сказал мне тогда Аткинс.
«Ему бы с моей мамой познакомиться», – ответил я ему.
А теперь Том просил меня стать покровителем его сына. (С чувством реальности у Аткинса всегда были проблемы.)
– Только не к твоему дедушке, – снова повторил Аткинс.
– Нет-нет-нет, – повторил мальчик: он снова плакал.
– Том, я не знаю, как быть отцом – у меня не было опыта, – сказал я. – И я тоже могу заболеть.
– Да! – воскликнул Питер Аткинс. – Что если Билл или Билли, или как его там зовут, заболеет?
– Думаю, мне пора глотнуть немного кислорода, Билл, – Питер знает, как это делается, правда, Питер? – спросил сына Том Аткинс.
– Да, само собой, я знаю, как это делается, – сказал мальчик; он тут же перестал плакать. – Это Чарльз должен давать тебе кислород, папа, и все равно толку не будет! – воскликнул он. – Тебе просто кажется, что кислород доходит до легких; на самом деле нет.
Я наконец увидел кислородную маску – Питер знал, где она лежит, – и пока мальчик возился с баллоном, Том Аткинс с гордостью улыбнулся мне.
– Питер чудесный мальчуган, – сказал Аткинс; я заметил, что он не смотрит на сына, чтобы не потерять самообладание. Аткинсу удавалось держаться, лишь пока он не отрывал взгляд от меня.
В свою очередь, когда говорил Аткинс, я старался держать себя в руках, глядя на его пятнадцатилетнего сына. Кроме того, как я потом сказал Элейн, Питер больше напоминал мне Аткинса, чем сам Аткинс хотя бы отдаленно напоминал себя.
– Ты не был таким напористым, когда я знал тебя, Том, – сказал я, продолжая смотреть на Питера; мальчик нежно прижимал кислородную маску к ставшему неузнаваемым лицу своего отца.
– Что значит «напористый»? – спросил меня Питер; его отец рассмеялся. Том сразу закашлялся и начал хватать ртом воздух, но, несомненно, это был смех.
– Я хочу сказать, что твой отец владеет ситуацией – он сохраняет уверенность в такой ситуации, в которой большинство людей ее лишаются, – сказал я мальчику. (Я не мог поверить, что говорю о Томе Аткинсе, но в тот момент это было правдой.)
– Так получше? – спросил Питер отца, который старался вдохнуть кислород; Тому приходилось слишком тяжело трудиться ради слабого облегчения, или так мне казалось, но ему удалось кивнуть в ответ на вопрос сына – не спуская при этом глаз с меня.
– Мне кажется, кислород не помогает, – сказал Питер Аткинс; теперь мальчик рассматривал меня пристальнее, чем раньше. Я увидел, как Аткинс медленно передвинул руку и легко толкнул сына локтем.
– Кстати… – начал парнишка, как будто это только что пришло ему в голову, как будто отец не сказал ему заранее что-нибудь вроде: «Когда приедет мой старый друг Билл, не забудь его спросить о том лете, которое мы с ним провели в Европе». – Кстати… – начал он снова, – я так понял, что вы с папой путешествовали по всей Европе. Ну… и как вам понравилось?
Я знал, что разрыдаюсь, если брошу хотя бы один взгляд на Тома Аткинса – тот опять рассмеялся и тут же снова закашлялся и начал хватать ртом воздух, – так что я продолжал смотреть на рыжеволосую копию Тома, его дорогого пятнадцатилетнего сына, и произнес, как будто следуя тому же сценарию:
– Ну, для начала, я пытался читать одну книгу, но твой папа мне не давал – если только я не читал ему вслух.
– Вы прочитали ему всю книгу вслух! – недоверчиво воскликнул Питер.
– Нам было по девятнадцать лет, но он заставил меня прочесть ему весь роман целиком – вслух. И твой папа ненавидел эту книгу: понимаешь, он ревновал меня к героине; он не хотел ни на минуту оставлять меня с ней наедине, – объяснил я Питеру. Мальчик был в восторге. (Я знал, что происходит, – это было прослушивание.)
Видимо, кислород все-таки немного действовал – или Тому так казалось, – поскольку теперь Аткинс лежал с закрытыми глазами и улыбался. Это была почти та же дурацкая улыбка, которую я помнил, если не обращать внимания на пятна Candida.
– Как можно ревновать к женщине из книжки? – спросил меня Питер Аткинс. – Это ведь не по-настоящему – это была выдуманная история, да?
– Точно, – сказал я Питеру. – И это история о несчастной женщине. Она все время была несчастна, а в конце отравилась и умерла. Но твой папа ненавидел даже ноги этой женщины!
– Ноги! – воскликнул мальчик, снова рассмеявшись.
– Питер! – услышали мы голос его матери. – Иди сюда, дай отцу отдохнуть!
Но мое прослушивание было обречено с самого начала.
«Все было запланировано – они все отрепетировали. Ты ведь это понимаешь, правда, Билли?» – спросила меня Элейн, уже когда мы ехали в поезде.
«Теперь понимаю», – сказал я ей. (Но тогда я этого не понял.)
Питер вышел из комнаты, не успел я начать! Я мог бы еще многое рассказать о том лете, которое мы с Томом Аткинсом провели в Европе, но юный Питер уже исчез. Я думал, что бедный Том заснул, но он стянул со рта и носа кислородную маску и – все еще не открывая глаз – нашел мое запястье и схватился за него холодной рукой. (Сначала мне показалось, что это старый пес ткнулся в меня носом.) Теперь Том Аткинс не улыбался; должно быть, он знал, что мы остались одни. Я думаю, Том тоже знал, что кислород не помогает; я думаю, он знал, что кислород ему не поможет уже никогда. Его лицо было влажным от слез.
– Там вечный мрак, Билл? – спросил меня Аткинс. – Там ждет чудовищное лицо?
– Нет, Том, нет, – попытался убедить его я. – Там либо просто мрак – без чудовищ, вообще безо всего – либо свет, самый прекрасный в мире, и множество чудесных вещей.
– Так или иначе, никаких чудовищ – верно, Билл? – спросил меня бедный Том.
– Совершенно верно, Том, – в любом случае никаких чудовищ.
Я чувствовал, что кто-то стоит позади меня, в дверном проеме. Это оказался Питер; он вернулся – и я не знал, как давно он там стоит и что он слышал.
– Чудовищное лицо в темноте – это из той же книги? – спросил меня мальчик. – Лицо тоже выдуманное?
– Ха! – воскликнул Аткинс. – Хороший вопрос, Питер. Что ты на это ответишь, Билл?
Затем он начал кашлять и еще яростнее хватать ртом воздух; мальчик бросился к отцу и помог ему прижать маску к лицу, но от кислорода не было проку. Легкие Аткинса не работали как следует – он не мог вдохнуть достаточно воздуха.
– Это какое-то испытание, Том? – спросил я старого друга. – Что тебе нужно от меня?
Питер Аткинс молча стоял и смотрел на нас. Он помог отцу стянуть маску со рта.
– Когда умираешь, все превращается в испытание, Билл. Вот увидишь, – сказал Том; с помощью сына Аткинс начал снова надевать маску, но неожиданно прервал это бессмысленное занятие.
– Это выдуманная история, Питер, – сказал я мальчику. – Та несчастная женщина, которая отравилась, – даже ее ноги выдуманы. Это все ненастоящее – и чудовищное лицо во тьме тоже. Все это фантазия, – сказал я.
– Но это происходит на самом деле, так? – спросил меня мальчик. – Мои мама и папа умирают, и это не выдумка, да?
– Да, – сказал я. – Ты всегда сможешь со мной связаться, Питер, – неожиданно сказал я ему. – Я буду рядом, если понадоблюсь, обещаю.
– Ну вот! – воскликнул Питер, обращаясь не ко мне, а к отцу. – Он это сказал! Теперь ты доволен! А вот я не доволен! – закричал он.
– Питер! – позвала его мать. – Дай отцу отдохнуть! Питер?
– Иду! – крикнул мальчик и выбежал из комнаты.
Том Аткинс снова закрыл глаза.
– Дай знать, когда мы останемся одни, Билл, – выдохнул он, отведя кислородную маску от лица; но я видел, что – какое бы слабое облегчение ни давал ему кислород – ему не терпится снова вернуть ее на место.
– Мы одни, – сказал я Аткинсу.
– Я видел его, – хрипло прошептал Том. – Он совсем не то, что мы думали, – он больше похож на нас, чем мы могли себе представить. Он прекрасен, Билл!
– Кто прекрасен, кто похож на нас, Том? – спросил я, но я уже чувствовал, что он сменил тему разговора; лишь об одном человеке мы с Томом всегда говорили втайне и со страхом, с любовью и ненавистью.
– Ты знаешь, о ком я, Билл, – я его видел, – прошептал Аткинс.
– Киттредж? – прошептал я в ответ.
Аткинс закрыл рот и нос кислородной маской; он кивал, но видно было, что ему больно двигать головой, и даже просто дыхание стоило ему мучительных усилий.
– Киттредж гей? – спросил я Тома Аткинса, но он зашелся в долгом приступе кашля, а затем принялся попеременно кивать и мотать головой. С моей помощью Аткинс ненадолго приподнял маску с лица.
– Киттредж выглядит в точности как его мать! – выдохнул Аткинс; затем он снова притянул маску ко рту и начал издавать жуткие сосущие звуки. Я не хотел волновать его сильнее, чем он уже был взволнован моим присутствием. Аткинс снова закрыл глаза, хотя на его лице застыла скорее гримаса, чем улыбка, и тут я услышал, как Элейн зовет меня.
Я обнаружил Элейн вместе с миссис Аткинс и детьми на кухне.
– Не надо бы ему дышать кислородом, когда никто за ним не присматривает – по крайней мере, надолго его нельзя так оставлять, – сказала Сью Аткинс, увидев меня.
– Нет, мам, Чарльз говорит не совсем так, – поправил ее Питер. – Нужно просто время от времени проверять баллон.
– Бога ради, Питер, прекрати меня поправлять, пожалуйста! – крикнула миссис Аткинс; на этом воздух у нее кончился. – Может, этот старый баллон вообще пустой. На самом деле кислород ему не помогает! – и она надолго закашлялась.
– Чарльз не должен оставлять баллон пустым! – вознегодовал мальчик. – Папа не знает, что от кислорода никакой пользы – и иногда он думает, что ему становится легче.
– Ненавижу Чарльза, – сказала девочка, Эмили.
– Не надо ненавидеть Чарльза, Эмили, – он нам нужен, – сказала Сью Аткинс, стараясь отдышаться.
Я посмотрел на Элейн; я был совершенно растерян. К моему удивлению, Эмили сидела рядом с Элейн на диванчике лицом к выключенному кухонному телевизору; девочка свернулась под боком у Элейн, а та обнимала ее за плечи.
– Том верит в ваш характер, Билл, – сказала миссис Аткинс (как будто перед этим мы уже часами обсуждали мой характер). – Том не видел вас двадцать лет, но считает, что может судить о вашем характере по вашим романам.
– Но ведь романы – это просто выдумка, там все не по-настоящему, да? – спросил меня Питер.
– Питер, перестань, пожалуйста, – устало сказала Сью Аткинс, все еще стараясь сдержать свой не такой уж безобидный кашель.
– Все верно, Питер, – сказал я.
– Все это время я думала, что Том встречается с ним, – сказала Сью Аткинс, обращаясь к Элейн, и указала на меня. – Но, видимо, Том встречался с тем другим, по которому вы все с ума сходили.
– Вряд ли, – сказал я миссис Аткинс. – Том сказал мне, что «видел» его, а не «встречался» с ним. Тут есть разница.
– Ну, мне-то откуда знать. Я всего лишь его жена, – сказала Сью Аткинс.
– Ты о Киттредже, Билли? Она ведь о нем говорит? – спросила меня Элейн.
– Да, так его зовут – Киттредж. Кажется, Том был в него влюблен – наверное, все вы были в него влюблены, – сказала миссис Аткинс. Ее немного лихорадило, или, может, она была под действием каких-то лекарств – я не мог сказать. Я знал, что от «Бактрима» у бедного Тома появилась сыпь; я не знал, где именно. Я лишь смутно представлял себе, какие еще побочные эффекты могут быть у «Бактрима». Я знал только, что у Сью Аткинс пневмоцистная пневмония, так что, вероятно, она принимает «Бактрим», и у нее точно была температура.
Миссис Аткинс выглядела отупевшей; казалось, она не совсем понимает, что ее дети, Эмили и Питер, сидят тут же с нами на кухне.
– Эй, спокойно, это я! – донесся из прихожей мужской голос. Девочка, Эмили, закричала – но не высвободилась из-под руки Элейн.
– Это же Чарльз, Эмили, – сказал ей брат.
– Я знаю, что это Чарльз, – я его ненавижу, – сказала Эмили.
– Прекратите, вы оба, – сказала их мать.
– Кто такой Киттредж? – спросил Питер Аткинс.
– Мне бы тоже хотелось знать, кто он такой, – сказала Сью Аткинс. – Очевидно, просто дар божий для мужчин и женщин.
– Что Том сказал о Киттредже, Билли? – спросила меня Элейн. Я надеялся поговорить об этом уже в поезде, когда мы останемся одни – или вообще никогда об этом не говорить.
– Том сказал, что видел Киттреджа – вот и все, – сказал я Элейн. Но я знал, что это не все. Я не знал, что хотел сказать Аткинс – о том, что Киттредж вовсе не такой, как мы себе представляли; что он больше похож на такого, как мы, чем мы могли вообразить.
То, что бедный Том счел Киттреджа прекрасным, – это я как раз мог себе представить. Но Аткинс, видимо, намекал, что Киттредж одновременно и гей, и нет; если верить Тому, Киттредж выглядел в точности как его мать! (Об этом я не собирался сообщать Элейн!) Как может Киттредж выглядеть в точности как миссис Киттредж? – думал я.
Эмили закричала. Наверное, это Чарльз, медбрат, подумал я, – но это оказался Жак, пес. Старый лабрадор вошел на кухню.
– Это всего лишь Жак, Эмили, – он пес, а не мужчина, – пренебрежительно сказал сестре Питер, но девочка не перестала кричать.
– Оставь ее в покое, Питер. Жак все-таки мужского пола – наверное, этого достаточно, – сказала миссис Аткинс. Но Эмили продолжала кричать, она не хотела или не могла прекратить, и Сью Аткинс сказала нам с Элейн: – Вообще-то странно, что Жак не у постели Тома. С тех пор, как Том заболел, пес не отходит от него. Нам приходится вытаскивать его наружу, чтобы он пописал!
– Приходится заманивать Жака чем-нибудь вкусненьким, просто чтобы он пришел на кухню и поел, – объяснял Питер Аткинс, а его сестра тем временем продолжала кричать.
– Представляете, лабрадор, которого надо заставлять поесть! – сказала Сью Аткинс; неожиданно она снова взглянула на старого пса и тоже начала кричать. Теперь Эмили и миссис Аткинс кричали хором.
– Билли, наверное, что-то случилось с Томом, – крикнула мне Элейн поверх их голосов. Либо Питер Аткинс услышал ее, либо сообразил сам – он явно был умным парнишкой.
– Папа! – крикнул мальчик, но мать схватила его и прижала к себе.
– Дождись Чарльза, Питер, – Чарльз там с ним, – удалось выговорить миссис Аткинс, хотя ее одышка еще усилилась. Жак (лабрадор) просто сидел рядом и сопел.
Мы с Элейн решили не дожидаться Чарльза. Мы выскочили из кухни и побежали по коридору первого этажа к уже открытой двери бывшего кабинета Тома. (Жак, на секунду засомневавшись, не стоит ли последовать за нами, в итоге остался на кухне. Видимо, старый пес понимал, что его хозяин отбыл.) Мы с Элейн вбежали в переделанную под палату комнату и увидели Чарльза, склонившегося над телом на больничной кровати, изголовье которой он приподнял, чтобы облегчить себе работу. Чарльз не поднял головы; он не взглянул на нас с Элейн, хотя нам обоим было ясно, что он знает о нашем присутствии.
Он до ужаса напомнил мне одного человека, которого я видел несколько раз в «Майншафт», БДСМ-клубе на Вашингтон-стрит, возле Литл-Вест-Твелф, в районе Митпэкинг. (Ларри потом рассказал мне, что городской департамент здравоохранения закрыл этот клуб, но только в восемьдесят пятом году – через четыре года после начала эпидемии, – мы с Элейн тогда как раз проводили наш эксперимент по совместной жизни в Сан-Франциско.) В «Майншафт» происходило много странных вещей: с потолка свисали качели для фистинга; целая стена была отведена под дырки для минета; была там и комната с ванной для «золотого дождя».








